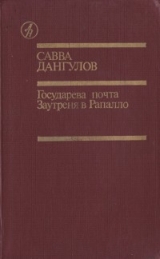
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
Наш поезд, направляющийся в Геную, уже отошел от платформы вокзала в Санта – Маргерите, уже закивали тяжелыми головами пинии и в открытые окна вошло дыхание моря, точно замешенное на горьких травах, растущих на солончаках, уже внимание, заметно обостренное в начале пути, без видимой необходимости засекло все это и закрепило, когда я вдруг признал в сивобородом старце, сидящем на дальней скамье вагона, Эджицио Маццини. Истинно время, минувшее после нашей последней встречи, не задело Маццини – на нем был все тот же суконный сюртучишко, что в далеком далеке, и чесучовые брюки. Казалось, сюртучишко, как некогда, щедро напитан парфюмерией – не мог человек отказаться от этой страсти, любил душиться. Все было, как в тот далекий год, только борода, некогда серо–черная, посветлела и, пожалуй, чуть–чуть свалялась, укоротившись, да залохматились больше обычного рукава сюртука и вздулась чесуча на коленях – впрочем, чесуча и новая имеет привычку вздуваться. Мне трудно сказать, знал ли Маццини о том, что в одном вагоне с ним едут русские, возможно, и не знал – ведь то, что было доступно нам, вряд ли постигали слабые глаза итальянца, он и прежде плохо видел. Истинно плохо видел, но отнюдь не плохо слышал – за плохое зрение природа вознаградила его острейшим слухом. Его сизые уши, по–стариковски лохматые, были обращены к нам. Каждый раз, когда в нашем углу вагона раздавался смех, уши Маццини точно вздрагивали, продолжая некоторое время шевелиться. Если мне память не изменяет, Маццини прежде не говорил по–русски, но, может быть, за эти годы произошли изменения? Так или иначе, а все время, пока поезд стремился к Генуе, Маццини оставался на своем месте, как не сдвинулись со своих мест и мы, в том числе и Маша, – мне кажется, она видела своего старого учителя.
Нет, опоздание на открытие конференции не было предусмотрено в наших планах, но мы опоздали. Поезд пришел на генуэзский вокзал Принчипе, Главный, когда на перронных часах было без малого три – час открытия конференции. Но странное дело, это никого не огорчило. Больше того, даже чуть–чуть развеселило. «Ничего, мы вас больше ждали, подождете и нас» – этих слов никто из нас не произнес, но они как бы предполагались.
Офицер в весьма солидном звании, расцвеченный эполетами и аксельбантами, как принято в подобных случаях, встретил нас у выхода из вагона и повел через привокзальную площадь. Офицер едва не бил подковами об асфальт, позванивая всей своей сбруей, что означало: все сроки вышли и делегатам следует прибавить шагу; однако это не возымело действия. Во взглядах русских, во всей их спокойной стати, наконец, в небыстром и солидном шаге Чичерина, одетого, как велит протокол, во фрак с белым пластроном, была державная обстоятельность и сила.
Площадь приняла делегатов торжественным безмолвием, нарушаемым только треском стягов, которые бились на ветру, что дул с моря – оно рядом. Если бросить взгляд на флагштоки, напряженно гудящие под напором ветра, то кажется, что флаги подняты в самую синеву неба – там и наш кумач в своей первозданной новизне, негасимый.
Свитский подал знак, привратная стража, состоящая из карабинеров, замерла по команде «смирно», и дворец принял нас в свои студеные объятья. Я не любитель исторических ремарок, но пусть мне по праву старого генуэзца будет разрешено поведать о родословной Сан – Джорджо – она, эта родословная, того стоит. Блистательная Генуя построила дворец в двенадцатом веке в честь победы над исконным соперником – Венецией. Как это ни парадоксально, дворец воспринял архитектуру побежденной республики – красный кирпич в сочетании с тонкими колоннами и округлыми просветами делал эту постройку для рациональной Генуи необычной. Два столетия спустя в пределы дворца вторгся владетельный хозяин – банк Сан – Джорджо, тот самый банк, который обогатил практику деловых отношений единственным в своем роде изобретением, изобретением ссудного процента: сто тысяч лир, которые ссужал банк попавшему в беду заморскому купцу, через год превращались в сто десять. Новый хозяин дворца действительно стал всемогущим, и старое название его хоромины показалось ему недостаточным – дворец стал именоваться Сан – Джорджо. Впрочем, тут же предприняв реконструкцию палаццо, его хозяева дали новые имена двум большим залам дворца: первый был назван Залом Капитанов, символизируя республиканское прошлое знаменитого города, второй – Залом Сделок. То, что в самом названии дворца рыцарственные капитаны породнились со стряпчими, не смущало новых хозяев Генуи, ведь они сами были стряпчими. Не обескуражило их и то, что Зал Сделок был и больше и, пожалуй, пышнее Зала Капитанов – так оно и должно было быть в городе, который к этому времени стал богатейшей на Средиземноморье торговой республикой.
Едва конференцию решили проводить в Генуе, как все остальное уже само собой разумелось: ну, естественно, Сан – Джорджо, а в нем – Зал Сделок. Он, этот зал, был квадратной формы, с просторными окнами, выходящими по фасаду на море. В овальных нишах, встроенных в стены зала, расположились скульптуры отцов города – в их позах, в их лицах, выражающих независимость, в их парадном платье было нечто от всесилия монархов, восседаюншх на троне. Они точно всматривались из своего средневекового далека, капитаны Генуи, в день нынешний – сами современники установили эту привилегию капитанов, расположив их над собой и дав им право судить себя и свои бренные дела.
А между тем лестница вознесла нас на уровень третьего этажа, и мы пошли навстречу гулу голосов, что доносился из самой утробы здания, он будто звал нас к себе – Зал Сделок был там. Чичерин шел первым, вслед за ним делегаты, эксперты, военные и штатские советники, как, впрочем, референты и секретари – наверно, иерархия существовала, но она была приблизительной. Когда наши делегаты вошли в зал, гул возрос и тут же стих – зрелище, которое неожиданно явили живые большевики, увлекло присутствующих. Но и большевиков заинтересовала картина, которую представлял сейчас большой зал дворца Сан – Джорджо. Столы для делегатов были расположены в форме правильного каре. Непосредственно за столом места председателя и вице–председателей. Меж столами – секретари конференции, все те, кто призван протоколировать предстоящие дебаты.
Офицер, сопровождающий нас, в последний раз притопнул и указал взглядом на ряд пустых стульев, поставленных вдоль стола. Чичерин пошел к крайнему стулу, время от времени опираясь ладонью левой руки о стол и оглядывая делегатов, уже занявших свои места. В этом море лысин, ярко–красных и молоч–но–бледных, крапленых и чистых, обрамленных нежнейшим венчиком волос и напрочь обнаженных, львиная грива седин Ллойд Джорджа была очень приметна. По диагонали от англичанина, водрузив очки на крупный нос и вздув ноздри, сидел Барту – он был заметно ненастен. А еще дальше, точно кулак, венчающий худую руку, поднял острую голову Вирт. Дальше без труда угадывались японец Иссии и итальянец Факта, неожиданно краснолицый, скорей напоминающий бергенца, чем пьемонтца, – не увидев Факту, трудно было представить, что есть такие итальянцы.
Факта достал платок и вытер им лицо, отчего оно стало еще пунцовее. Не выпуская из рук платка, он приподнялся, дав понять, что будет говорить. Где–то позади мягко прикрылась дверь, и тишина точно вздрогнула и остановилась. От имени страны, имеющей честь принимать делегатов, он объявил конференцию открытой и, пододвинув стопку голубых листков, сказал, что намерен прочесть депешу итальянского монарха, которую тот прислал на имя конференции. Видно, текст депеши был известен премьеру и не очень–то его увлек – Факта прочел ее без воодушевления, понимая, что это не более как формальность, которая побеждается тем надежнее, чем раньше с нею совладаешь. Но депеша была побеждена, и Факта с требовательной настойчивостью взглянул на Ллойд Джорджа, который, уступая итальянцу, обратил к нему мясистую, в розовых подушечках ладонь, прося слова. В этом уже была известная заученность, обнаруживающая существование сценария, предполагающего распределение ролей. Следуя духу и букве сценария, Ллойд Джордж взял слово и предложил избрать итальянского премьера председателем конференции. Последовало согласие конференции, и слово вновь получил британский премьер, что было воспринято едва ли не как знак благодарности за услугу, только что оказанную итальянцу, – вот теперь действительно конференция началась.
Да, слово получил Ллойд Джордж, и, точно сговорившись, мы с Георгием Васильевичем взглянули друг на друга. О, если бы старый валлиец знал, в какой мере не случайна была для нас эта встреча и сколь обстоятельно мы себя к ней готовили.
Но Ллойд Джордж уже вошел в роль – он говорил.
Признанный наставник валлийца Гладстон покорял аудиторию разговорной интонацией речей – он как бы творил речь на глазах у слушателей, вовлекая их в сам процесс своих раздумий. Это свойство было и у первой речи Ллойд Джорджа в Генуе. Он придал ей интонацию застольной беседы, при этом его не столь сильные голосовые данные не воспряли. Они не воспряли и тогда, когда в задних рядах было произнесено нетерпеливое «громче!». Он заговорил не громче, а тише и этим заставил себя слушать. Эта обыденность интонации, это внешнее пренебрежение к ораторским изыскам (заметьте: внешнее!) призвано было внушить присутствующим, что к ним обращается человек, чуждый чувства превосходства, демократ по своим убеждениям и существу.
Суть речи Ллойд Джорджа точно соответствовала манере, в которой она была произнесена: валлиец говорил о равенстве. Да, он говорил о равенстве, хотя вкладывал в это определение свой смысл. «Мы участвуем в этом собрании на началах абсолютного равенства. Это лишь в том случае, однако, если принимаем равные условия». Валлиец пояснил, что под равными условиями он разумеет программу, принятую в Каннах, а смысл ее известен, как известны силы, которые ее вызвали к жизни: западные буржуа, лишившиеся собственности в России. За более чем гуманной фразой о равенстве следовал смысл, по существу, антигуманный: новая Россия должна выплатить царские долги, а для начала вернуть соотечественникам Ллойд Джорджа нефтяные поля и соляные копи.
Ллойд Джордж закончил и взглянул на Барту, в этом взгляде было нечто заученное – бегун, заканчивающий дистанцию, мог протянуть палочку и не глядя – все было отрепетировано так безупречно, что она сама, эта палочка, обретя зрение и слух, находила руку, в которую ей надлежит попасть. Барту прошел свой отрезок пути в таком темпе, какой валлийцу и не снился: всех, кто мог не согласиться с Каннами, он отнес к врагам Версаля, а одно это давало ему простор для далеко идущих выводов. Он возгласил почти патетически: Франция никогда не согласится обсуждать в Генуе Версальский договор, и нынешняя конференция не может явиться кассационной инстанцией. Русские, с немалой тревогой внимавшие французу, могли подумать: говоря о Версале, француз имел в виду и царские долги.
Барту был заметно воинственнее Ллойд Джорджа, что было уже тревожно. Когда, закончив речь, он скосил взгляд на виконта Иссии, предлагая ему продолжить атаку, можно было подумать, что до рукопашной недалеко: японские войска все еще находились на советском Дальнем Востоке и все, казалось, располагало к продолжению баталии. Но виконт Иссии вдруг заявил о миролюбии и, что удивительнее всего, по отношению к соседям – очевидно, русский сосед не исключался. Японский делегат не делал погоды на конференции, но его речь больше походила на речь Ллойд Джорджа, чем на речь Барту, что ставило француза в положение не совсем обычное. Первым это заметил сам француз: его борода заострилась и глубже запали орлиные очи – он уже гневался.
А между тем дошла очередь до канцлера Вирта, и с чисто немецкой обстоятельностью он принялся живописать картину немецких будней, как они выглядят сегодня. Судя по тому, что немец не поскупился на темные краски, у его замысла была скрытая цель, скрытая, разумеется, до поры до времени. Как бы походя Вирт завершил свою речь предложением, к которому заметно была направлена вся речь: нет ли резона создать международный центр для использования природных богатств Востока и отвести в этом начинании соответствующее место Германии? Канцлер должен был ощутить, каким холодом повеяло в Зале Сделок, но немец не смутился.
Я заметил: пока произносились речи, Маша не подняла головы. Спина изогнулась, волосы упали на тетрадь, стакан с лимонной водой, который она поставила подле еще до начала заседания, не был отпит. Она не шелохнулась и тогда, когда слово получил Чичерин. Только высвободила руку и отвела волосы, открыв лицо, – глаза ее, как мне показалось, были полны внимания, в них жили и ожидание, и беспокойство, и печаль, печаль от беспокойства.
Чичерин начал говорить – еще неизвестно было, как построит свою речь советский делегат и какую мысль он утвердит, но его французский, поистине французский божьей милостью, заставил вначале приумолкнуть зал, а потом онеметь в настороженном внимании. В этом французском было лексическое богатство, как и красота звучания, подсказанная красотой французского слова. Но дело не только в добром чи–черинском французском – имел значение сам факт чичеринской речи, само событие, каким явилась эта речь. Первая речь советского делегата за пределами республики Советов. Речь, прорвавшая блокаду. Однако о чем говорил Чичерин? Советский делегат точно призывал конференцию заново взглянуть на положение дел в мире, в какой–то мере даже переосмыслить.
В самом деле, все, что говорил советский делегат, было ново.
Он говорил о мирном сосуществовании. В мире существуют две системы собственности: одна представляет мир старый, другая – новый. Надо считаться с этим.
В этом определении было всесилие формулы, открывающей глаза на отношения между странами. Опираясь на эту формулу, мир обретал возможность предсказать новый курс в международных делах, которому суждено было войти в историю под именем политики сосуществования.
Советская формула, как это часто бывало у наших дипломатов, и прежде дополнялась почином, отмеченным всеми качествами дипломатии революционной: Чичерин говорил о возможности разоружения, он ратовал за созыв конгресса, призванного поднять народы в защиту мира.
В чичеринской речи была убежденность, а сама мысль советского делегата была проста и насущна, поэтому такая тишина воцарилась во дворце Сан – Джорд–жо, поэтому, несмотря на огромность зала, хватило не столь уж могучего чичеринского голоса.
Когда Чичерин кончил, зал ответил аплодисментами – будто громкокрылая стая голубей, они возникли над головами и тотчас стихли, повинуясь гневному междометию, которое изрек более обычного краснолицый Факта.
Чичерин взглянул на Ллойд Джорджа, будто осведомляясь, как воспринял речь он, и увидел недоуменное лицо британского делегата – в смятении он даже не успел изменить позы, какую принял, когда слушал русского. Опершись одной рукой на стол, а другую приложив рупором к уху, он будто окаменел в своей трудной думе. Все было понятно: несмотря на то что британский премьер когда–то учил французский, и, по свидетельству его учителей, делал немалые успехи, живую речь он понимал плохо. В это проник русский делегат и сделал жест, в такого рода обстоятельствах беспрецедентный: теперь уже обращаясь не столько к залу, сколько к Ллойд Джорджу, он пошел по второму кругу. Ллойд Джордж привстал, нисколько не скрывая изумления: русский делегат говорил по–английски.
Да, это был добрый чичеринский английский, добытый Георгием Васильевичем в тамбовских и петербургских пенатах, тщательно ограненный в годы лихого бытия на Британских островах. Именно лихого бытия: и в стычках с тюремным начальством достопамятного Брикстона, и на митингах в знаменитом Гайд–парке, где право внимать горькую правду было загнано в непросторный угол, названный Спикере корнер – Углом ораторов, – и на товарищеских сходках с лондонскими социалистами в Маркс–хауз, и, разумеется, под темными сводами Вестминстера, куда влекли Чичерина и ораторские изыски валлийца, громящего хитромудрых тори… Не думал Чичерин, что старый долг валлийцу придется возвращать при столь необычных обстоятельствах.
Зал все понял: он сполна воздал русскому делегату – вряд ли такие аплодисменты когда–либо раздавались в стенах дворца Сан – Джорджо. Мне даже привиделось, что аплодирует и Ллойд Джордж; у русско–союзнической баталии, а если быть точным, то у баталии русско–британской был зачин хоть куда: большевикам рукоплескал человек, в обязанности которого это явно не входило.
Чичерин склонил голову, благодаря почтенную аудиторию, сел. Наступила пауза откровенно тревожная. И Ллойд Джордж, и желтолицый виконт Иссии, и флегматичный Вирт оцепенели в нелегком раздумье.
Первым нашелся Барту – он был не согласен с тезисом Чичерина о разоружении, – но его никто уже не слушал: оказывается, над впечатлением, которое эмо–циально, не так–то просто возобладать, а оно принадлежало сегодня русскому делегату. Очевидно, свои возражения Барту должен был высказать в иной день, сегодня эта попытка выглядела обреченной.
Как это было три часа назад, советская делегация пересекла привокзальную площадь Принчипе, направляясь к поезду, отходящему в Санта – Маргериту. Но прежде чем это произошло, едва ли не лицом к лицу она встретилась у выхода из дворца с англичанами. Именно лицом к лицу. Ллойд Джордж имел возможность взглянуть на Чичерина. Произошло нечто вроде обмена поклонами, едва заметными. Чичерин продолжал свой путь, а Ллойд Джордж приподнялся на цыпочках и посмотрел вслед. О чем мог думать сейчас старый валлиец, нет, нет, какой потаенной стежкой могла идти мысль его? Да, этот русский, который всего четыре года назад был узником Брикстонской тюрьмы, точно прибыл специально в Геную, чтобы дать возможность конференции узреть свое превосходство и в какой–то мере великодушие. Говорят, что он изгой, отрекшийся от своего класса. И не парадоксально ли это – что большевики доверили защищать интересы новой цивилизации человеку, рожденному обществом, которое глубоко ненавидит большевизм? Однако почему это сделали они? В расчете на эрудицию, которая, как сегодня обнаружилось, столь блистательна? А может, замысел учитывает профессиональные данные дипломата? А возможно, дело именно в знатности – к человеку чичеринского происхождения у старого мира больше доверия? Нет, решительно в жизни бывают обстоятельства, когда общество должно обратиться к помощи изгоев. Бывают обстоятельства? Почему бывают? Они – есть! Разве случай с Ллойд Джорджем не аналогичен? В самом деле, случай с сыном валлийского крестьянина, которого волей судеб взрастил и поставил на ноги деревенский сапожник, – разве этот случай не говорит о том же? Впрочем, не ошибаемся ли мы, когда обращаемся к родословной седогривого льва? Похож ли он на крестьянское чадо, и бывают ли такие пахари? Оказывается, бывают. Ллойд Джордж и в самом деле сын валлийского землепашца, при этом бедолаги–бедняка. Как вспоминал недавно валлиец, пол–яйца, поданные к воскресному столу, были для него в детстве самым большим лакомством. Но вот парадокс: колониальная Великобритания закрыла глаза на незнатное происхождение валлийца, поставив его во главе правительства… Ллойд Джордж смотрел вослед Чичерину; однако нет большей насмешницы, чем история, – так перепутает колоду, что не отыщешь ни начала, ни конца.
Мы возвращались в Санта – Маргериту. Что говорить, у русских было отличное настроение. Как обычно, Воровский импровизировал – на этот раз объектом импровизации был Ллойд Джордж. Наблюдательный Воровский не упустил тут ни одной детали. Он воссоздал двух Ллойд Джорджей, две его маски. Первая: валлиец слушает французскую речь Чичерина. Весь вид валлийца исполнен тревоги, глаза полны муки. Вторая: валлиец склонил Чичерина к английскому монологу и Ллойд Джордж выказал восторг неподдельный. Короче, это был театр одного актера. Воровский был на высоте. У тех, кто оказался рядом, возникла потребность в смехе – Воровский им дал такую возможность. Но смех стих, и раздумье грубо вторглось и завладело всеми.
Первым пришел в себя Красин – человек эмоциональный, он тем не менее обладал способностью не дать впечатлению завладеть собой.
Красин. Однако какие последствия эта речь может иметь для нас?
Литвинов. Немцев воодушевит – им захочется даже присвоить успех русских. Французов насторожит – для них это попытка говорить самостоятельно, что их может и не устроить…
Красин. А вот реакция англичан может быть и отличной от французов…
Воровский. Значит, немцы объединились с дядей Булем?
Чичерин (подняв смеющиеся глаза на Воровского – ему нравились его парадоксы). Ну что ж, это делает и наше житье–бытье небесперспективным…
Чичерин остановил внимание на формуле Воровского. «Не оставляйте этой мысли, она плодотворна», – точно говорил он.
Но я так увлекся происходящим, что не заметил, как Маша покинула свое место. В дальнем конце вагона, точь–в–точь как это было три часа назад, когда мы направлялись в Геную, расположился Маццини. Рядом с ним была моя дочь.
Наверно, пришло время сказать о Маццини подробнее. Все началось в ту благословенную пору, когда мы осели в Сестри Леванте и поспело время Маше идти в школу. В какую школу? Не скажу, чтобы у нас был большой выбор, но школа Маццини была названа первой. Не только потому, что это была школа, которую в здешних местах считали серьезной, а значит, дающей своим питомцам основы образования, как и основы практических навыков, могущих пригодиться ученику в жизни. Речь шла о знании языков, при этом и восточных, что имело отношение к человеку, стоящему во главе школы и давшему ей свое имя, – говорю об Эджицио Маццини. Не только поэтому, но и потому, что эта школа была бесплатной, что было, например, для моей семьи небезразлично.
Однако кто такой Маццини? Продолжу рассказ, не отступая от его строгой хронологии. Итак, когда у нас в семье была названа школа Маццини, я собрался на прием к преподобному Эджицио. Как я понимал, решающее слово в предстоящем разговоре должно было принадлежать ему, поэтому очень важно было повести разговор умело, предупредив крутые повороты диалога. А они могли быть, если учитывать, что Маццини имел дело с политическим иммигрантом, да к тому же русским политическим иммигрантом, что для него было не лучшей разновидностью, ибо за русскими упрочилась репутация людей радикальных. Но тут я рискую наговорить на Маццини, так как в момент, когда я впервые собрался к нему, я его достаточно не знал, чтобы думать так. Магдалина как могла позаботилась о моем костюме, заранее вывесив мои парадные брюки на солнце и ветер, чтобы освободить их от запаха нафталина, выстирала и отутюжила толстовку, которая была тем хороша, что давала возможность идти к Маццини без пиджака, извлекла из сундука сандалии, которые были не совсем по погоде, но зато соответствовали моему весеннему костюму.
Я знал, что Маццини принимает родителей по пятницам, обычно на заходе солнца, и приурочил свой визит именно к этому времени. Меня встретил старик Фазиль, семидесятилетний ливанец, работающий у Маццини сторожем. Он повел меня в дальний конец яблоневого сада, где у Маццини было маленькое поле, на котором он выращивал редис, лук, салат и шесть сортов трав, в том числе столь экзотические, как тархун и мята. Маццини закончил работу на грядках и успел даже помыть руки, воспользовавшись водой ручья, что тек из каменной расселины – гора была рядом.
Я приветствовал его с той почтительностью, какую требовали и его возраст и его положение, и он увлек меня в глубь сада, где под яблоней был врыт в землю стол. Он пододвинул мне блюдо с яблоками, взял одно себе, с видимым аппетитом надкусил, блеснув молодыми зубами. Для своих лет преподобный Маццини выглядел хорошо. Кожа его лица была здоровой, румянец, ярко–пунцовый, заливал едва ли не всю щеку.
Я сказал, что хотел бы определить дочь в его школу, и назвал себя. Он обратил внимание на мое смущение, когда я рассказывал о себе, и осторожно прервал. Он заметил, что положение русского политического его не смущает. Он говорит об этом не голословно, много лет он был дружен с Германом Лопатиным и имел честь принимать его. Что же касается Марии, то он знает всех здешних детей и давно следит за развитием моей девочки – он, разумеется, возьмет ее в школу. Он не торопил меня, рассказав о годах своего отрочества в далекой Сирии, о том, как постигал арабский, а потом принялся за словарь живого арабского языка, полагая, что эта работа имеет видимые горизонты, а оказалось, что этих горизонтов нет – его тридцатилетний труд сегодня так же далек от завершения, как и тридцать лет назад, хотя последние лет десять ему помогают ученики, хорошо помогают. Он провел меня по классам своей школы, заметно гордясь их просторностью и чистотой, поднялся вместе со мной в жилые апартаменты дома, показал библиотеку, обшитую стеллажами, где в строгом порядке были выстроены книги, главным образом по филологии, при этом много книг на языках Востока. Потом мы поднялись в его кабинет, где на четырех столах, придвинутых к окнам, заключенная в папки из крепкого картона, лежала рукопись словаря. Признаться, когда он одну за другой расшнуровал и раскрыл папки с рукописями, я не мог себе представить, что эта комната–башня, венчающая дом Маццини, явится тем орлиным гнездом, которое даст силы и крепость крыльев и моей Марии – арабский она изучала здесь. Но вот что обратило мое внимание в этот первый день знакомства с Маццини и его домом: казалось, у него не было тайн от меня, он все готов был мне показать, он и его дом были на виду, при этом для него ровно ничего не значило, что он принимал иностранца, которого впервые увидел два часа назад.
У школы Маццини было хорошее имя в Генуе – почему? Имело свое значение само существо того, что есть Восток, его многоцветная экзотика, его своеобразие, его тайны, но я был бы несправедлив к Маццини, если бы интерес к его школе и его предмету объяснил только этим. У него был дар внушать интерес, талант воодушевлять детей, увлекать. В существе этого дара я рассмотрел умение вести рассказ, дар редкий. Рассказ увлекал потому, что в нем я видел лица, каждое на свой манер, и было движение: от начала к вершине. Рассказ производил впечатление и потому, что в нем всегда присутствовала мысль. Одним словом, это был учитель божьей милостью, хотя его отношения с богом не отличались особой доверительностью, но об этом есть смысл поговорить особо.
Он не переоценивал своего умения вести урок и стремился привить ученикам вкус к восприятию книги, живой природы, памятников, которые оставила нам история, – кстати, у Востока, познанию которого он отдал жизнь, тут была привилегия. Но надо сказать и о предприимчивости, которая была родной сестрой натуры Маццини. Он подрядил судно отнюдь не респектабельное, но удобное вполне и показал детям Египет – это было путешествие в арабскую древность, но одновремено и в мир живого разговорного языка. Потом он предпринял такое же путешествие в северо–восточное Средиземноморье, не минув Греции.
Конечно, многое из того, что удалось накопить, можно было растерять, но он стремился поддержать в учениках знание языка, обратившись к живому общению. Генуя – это итальянские ворота на Восток. Нет, не только в Россию, но и в восточное Средиземноморье, на арабский Восток. Сам язык Генуи – это соединение итальянского и арабского, пропорции не равны, но сни видимы. У круга арабских знакомств Маццини проявилась определенная тенденция: это были знатоки арабских литератур, лингвисты, в меньшей мере историки. В глубине двора, за яблоневым садом стоял кирпичный флигель с просторной галереей – гости Маццини, приезжающие в Геную с Востока, жили там. У Маццини была способность поддерживать знакомства, находя все новые возможности, чтобы их разветвить, сделать многообразнее, богаче – это было очень полезно школе Маццини и в не меньшей мере рукописи его словаря, это только казалось, что рукопись отвердела в своих пределах, на самом деле поток слов, поток обильный, который вбирала рукопись, был безостановочным.
В школе Маццини учились дети генуэзцев, имевших дела на Востоке. По одной этой причине Генуя была заинтересована в школе Маццини. Это делало Маццини фигурой суверенной в какой–то мере и от церкви, что бывало здесь не часто. Но мы были бы самонадеянны, если бы решились утверждать тут нечто категорическое, – это момент и достаточно темный и деликатный. В какой мере Маццини был тут независим, никто не знал, разве только Маццини. Разве только…
Хотя Генуя – это запад Италии, все генуэзское обращено на Восток. Арабский. Греческий. Русский. Что же касается Маццини, то можно предположить, что у него тут своя миссия – генуэзская.
Вечером в отель пришел Маццини, сопутствуемый свитой учеников, – только теперь я заметил, как мал стал итальянец, время точно подсушило его.
Никуда не денешься – надо было идти приветствовать итальянца, и я пошел.
Маццини стоял, опершись плечом о ствол акации, и его правая нога, как некогда, точно отбивала такт.
– Счастлив видеть вас в здравии, – произнес он едва ли не заученно, подавая мне руку, и я ощутил запах одеколона, он, этот запах, точно прошиб напластования лет.
Шагнув мне навстречу, Маццини оставил учеников стоять на месте – как мне кажется, это были Машины сверстники, ее однокашники. Я поклонился им, они ответили мне улыбкой заметно доброжелательной, но с места не сдвинулись – разрешение на этот шаг должен был дать им наставник.
Явилась Маша и с кроткой покорностью, на нее не похожей, подошла к Маццини, склонившись над его рукой, так низко, что он получил возможность коснуться ладонью ее головы.
– Радуюсь этой встрече, – произнес он и, обернувшись к ученикам, пригласил их ее приветствовать. – Радуемся…
Этот ритуал встречи был и торжествен и тих – были поцелуи, но не было слов. Пока он длился, этот ритуал, я имел возможность поднять глаза на Маццини – я прежде не видел его вот так близко. В глубине его глазниц, емких, заполненных сизым ненастьем, поместились маленькие глаза, серые, очень светлые. Когда брови вздымались, веки смежались и глаза как бы уходили вглубь. Одна бровь была перечеркнута шрамом ярко–белым, косым – явно след сабельного поединка, видно, у почтенного пастьгря молодость была неуемной.
– Я только что перелистал вечерние газеты – Италия признала итальянское происхождение вашего министра, не отреклась, а именно признала, – произнес он.







