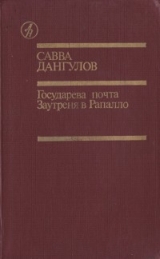
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
тушканчик, как божья птаха – ласточка или даже воробушек. Хочет – взлетел на развалины Колизея, а хочет – опустился на маковку самого собора Петра. Ну, разумеется, воробушка никто не принимает за хозяина вселенной, но у него самого есть чувство, что он – хозяин. Никто не может остановить его и сказать «не лети», разве только сокол, но и сокола он может послать в преисподнюю, крикнув: «Мне нипочем разные там соколы – долой их!» Необыкновенно хорошо на душе, когда ты можешь сказать соколу в глаза: «Долой сокола!» Всегда хорошо на душе, а особенно в двадцать лет. А коли не можешь сказать, есть ощущение несвободы. А несвобода – это как–то недостойно человека, ибо гасит в этом человеке искру божью… Простите меня, мое заблуждение, но гений не рождается в несвободе. Есть тут причина для этого самого утека? Наверно, есть. Но и это еще не все. Под ногами всегда должна быть суша обетованная – она создает чувство надежности. Не хлябь зыбкая, а именно суша! Однако что понимать под этой сушей прочной? Руку родителя, сильную и теплую? Хорошую специальность, у которой ты и твоя семья как у бога за пазухой? А может быть, собственность? Да, кусок земли, самый малый. А может быть, крышу, способную охранить тебя от холода и ненастья, крышу нехитрую, но твою? Последнее обязательно: твою, твою… Наверно, есть человек, которому эта земля и крыша что пятое колесо в телеге, но тому, кто наголодался и намерзся, это не помешает, честное слово, не помешает… По–моему, Игорь обрел в Специи то, что искал. Не Специя, а рай.
Федор сидел сейчас тихий и, пожалуй, несмелый. Очень страшился, что здание, которое он ощупью построил во тьме, я могу разрушить. Его бы устраивало, если бы я смолчал. Дослушал бы и обратил разговор в иное русло, а может быть, просто ответил немотой, в которой есть забвение могилы. Но мне не хотелось молчать.
– От этого рая в Специи вы и уберегли Николу? – спросил я. – Почему? Хотите, скажу?
– Скажите, – молвил он.
– То, что Игорь не понимает, как, наверно, не понимает и Никола, вы уже поняли, однако… я порядочно продрог на этой скамье – пошли к реке, там теплее…
Он вздохнул, его вздох отозвался в расселине Тибpa, глубоко внизу, у самой воды, и, казалось, устрашил его. Он вздрогнул, ткнулся во тьму и растекся в ней – я остался один.
Едва мы минули массивные ворота виллы «Альбертис», молодой человек с садовыми ножницами в руках вышел нам навстречу. Чтобы отвечать нашему представлению о хозяине виллы, как мы его видели, глядя на хозяйку, ему только бороды недоставало.
– Сожалею, что отсутствовал прошлый раз и не мог приветствовать вас на вилле «Альбертис», – сказал молодой человек и снял шляпу. – Мистер премьер–министр прав: ничто так не раскрывает существа человека, как выбор…
Молодой д'Альбертис воссоздал формулу валлийца, не лишив ее интонации, которой окрасил эту формулу Ллойд Джордж: настенная картина обрела едва ли не ритуальный смысл – к ней, видно, можно было подводить неверующих, творить обряд обращения в христианство.
– О, сколько человек живет на свете, столько и выбирает свой путь в жизни, выбор – это совсем не мало, – повторил молодой хозяин, стремясь вовлечь русского в разговор.
Молодой хозяин шел сейчас рядом с Чичериным, не без любопытства скосив на него глаза. О чем мог думать он? Все эти дни имя русского было на устах генуэзцев. Истинно они признали в нем итальянца. С тех пор как во дворце Сан – Джорджо русский утвердил свою привилегию над англичанином и походя поколотил француза, было даже интересно признать в нем итальянца. Но это было в первый день генуэзской баталии, а с тех пор прошло уже три дня, и в стремлении понять русского генуэзцы сделали успехи. Даже интересно, размышляя о бедовом русском министре, чья родословная берет начало на Апеннинах, оттолкнуть от себя грешную землю, пофантазировать. Если тут не участвует чудо, как объяснить: сын богача, да и сам наверняка богач отменный пошел на службу к беднякам? Именно богач отменный: быть может, владел пшеничными угодьями, в пределы которых можно было поместить Тоскану и Лигурию…
А Чичерину невдомек, как далеко умчался в своих мыслях молодой хозяин виллы, с благоговейной немотой шествующий рядом. Мысли русского министра обращены к насущному. Он думает о том, что в предстоящие два часа может решиться судьба конференции в Генуе. Именно в эти два часа все может встать на свои места. Достаточно усилия, чтобы увидеть, что произойдет за высокими просветами особняка, как бы вышедшего сейчас русским навстречу из–за темно–зеленых сосен, но есть ли смысл в прогнозах? Ведь бывало же, и нередко, что самые резонные предсказания рушились. Однако русские во всеоружии? Чичерин обернулся: солнце добралось до роговых окуляров Литвинова и точно подожгло их, не окуляры, а автомобильные огни. Где беседа достигнет кульминации и что это будет означать для русских? Литвинов приподнимает портфель, поднимает невысоко, но земное светило, казалось, дотягивается и до медных застежек портфеля: неровен час красный петух подожжет святая святых делегации – литвиновский портфель. Именно святая святых: хранителем документации стал Литвинов – пока портфель в литвиновских руках, русским нечего бояться.
Вновь открывается дверь, встроенная в торцовую стену, Ллойд Джордж идет по залу, припадая на правую ногу, сопутствуемый неизменной троицей: Барту, Тенис и Шаниер. Не для того же он пригласил к себе достопочтенную троицу, чтобы еще раз осудить Париса за легковерный выбор, – очевидно, генуэзское торжище действительно вступило в такую стадию, когда хитрому британцу не до Париса. Если предположить, что встреча делегатов Антанты, которая только что закончилась в соседней комнате, имела целью сообразовать и степень согласия и степень возражений, то нет необходимости начинать разговор с речи русского делегата. Резоннее начать разговор самому.
Наивно думать, что Ллойд Джордж не использовал утра, чтобы хорошенько обдумать свою речь. Его утренняя прогулка к взгорью, венчающему холм, откуда открывается вид на Геную, была использована, чтобы сообщить речи страсть. Кто–то сказал о нем: красноречие вырывалось у него сразу, как огонь из дома, объятого пожаром. Но то была речь на предвыборном митинге или кровопролитный поединок с тори на подмостках Вестминстера. Здесь иное дело: речь–раздумье, которая так давалась всегда валлийцу и у которой свои точные правила. Свои точные правила? Да, несомненно. Они, эти правила, гласят: отыскать в периферийном ряду человека, который слушает тебя, и вести разговор как бы с ним, только с ним, апеллируя к его доброй воле, стремясь предупредить течение его мыслей, если соглашаться с ним, то снисходительно, если возражать ему, то щадя. Ни в коем случае не переходить в своей речи на галоп, каждой мысли давать развитие, каждую мысль подчинять логике целого. Понимать, что излишняя жестикуляция воспринимается аудиторией как сознание того, что твоя способность убеждать недостаточна. Записи могут быть, но аудитория не должна их видеть – умей держать их в сознании. Конечно же, ты можешь очутиться в трагическом положении: аудиторию ты не убедил, больше того, она тебе враждебна, но боже упаси, чтобы ты стремился завоевать ее, сообщая голосу грозные тона. Ты должен показать, что не боишься слушателей, но обращаясь к ним, не угрожаешь, а всего лишь действуешь на их разум, на их способность внимать силе довода. И еще: должен быть оппонент. Без него речь мертва. А в данном случае оппонент тебе дан самим богом: Чичерин… Однако, возражая ему, не создавай впечатления, что хочешь взять реванш за неудачу в Сан – Джорджо. Наоборот, яви великодушие, достойное оппонента, – он–то был великодушен, больше того, добр. Аудитория? Ну, тридцать человек! что заняли свои места вокруг овального стола, это даже меньше, чем кворум на Даунинг–стрит, но у тебя есть опыт разговора и перед такой аудиторией. Кстати, все тридцать поместились вокруг овального стола, которому суждено быть свидетелем нынешнего важного тура.
Отыщем истоки спора и попробуем разобраться в их первопричинах. Запад настаивает на возвращении старых русских долгов. Россия отказывается их при* нять, требуя, чтобы Запад покрыл убытки, нанесенные интервенцией: пятьдесят миллиардов золотых рублей, Именно эту сумму назвал сегодня Литвинов. Одна эта сумма способна ввергнуть в немоту.
Но Ллойд Джорджу надо говорить, и он готов по праву лидера взять слово. Нет причин снбращаться к безымянному делегату в периферийном ряду, когда напротив сидит человек, которому это должно быть адресовано. Русский сегодня выглядит усталым, лицо у него заметно серое, может быть даже серо–зеленое – во дворце Сан – Джорджо он выглядел молодцеватее, Ллойд Джордж взглянул на русского и улыбнулся поч* ти загадочно – нечего сказать, необычное начало избрал британский премьер для своей речи! Он посмотрел на русского еще раз и улыбнулся откровеннее – улыбка Ллойд Джорджа лишила делегатов, сидящих за столом, дыхания: что бы это могло значить? Но улыбаясь, быть может, без особых к тому причин, Ллойд Джордж заметно поправил себе настроение – ничто так не помогает самообладанию, как улыбка.
– Нынешний разговор с русскими напомнил мне нашу денежную тяжбу с Ирландией, – едва ли не засмеялся британский премьер. – Англичане назвали скромную сумму своих претензий – восемнадцать миллионов фунтов стерлингов, а ирландцы заявили о претензии в три с половиной миллиарда, имея в виду несправедливости, нанесенные им на протяжении веков. – Он поднял руки ладонями вверх, точно взвешивая незримый груз. – Русская сумма непостижима: пятьдесят миллиардов. Зачем было вообще ехать в Геную? То, что зовется интервенцией, было всего лишь помощью тем силам, которые стояли на стороне союзников в их борьбе с Германией!.. Если воспользоваться средствами, которые предложили русские для подсчета убытков, то правомочно определить и ущерб, который нанес союзникам Брест – Литовский мир, – русский долг одной Британии превзошел восемь миллиардов! Можно учитывать любые факторы, ослабившие экономику России, но какое дело до этого людям, участвовавшим в займе России, например, английским фермерам? Да имеет ли британское правительство право, действуя от имени этих лиц, отказаться от возвращения долга? Я, например, не имею на это права.
Ллойд Джордж закончил свою речь почти на гневной ноте – по крайней мере от улыбки, которая осенила начало речи, не осталось и следа. Можно было не соглашаться с британским премьером, но в доводах, которые он привел, была своя логика. В кругу тех, кто сидел сейчас за столом, а большая часть их была на стороне Ллойд Джорджа, продолжение разговора было осложнено заметно. Пауза, наступившая после того, как британский премьер закончил, была долгой – Чичерин точно дал возможность этой паузе завладеть вниманием.
Как полагает он, Чичерин, именно союзники дали силу движению, которое подняло руку на революцию в России. Он хорошо помнит заявление союзников, датированное 4 июня 1918 года, – этот документ недвусмысленно гласил, что отряды белочехов в России должны рассматриваться как «армия самой Антанты». Документ этот не единствен – русские располагают текстами договоров Колчака и Врангеля с союзниками, у этих договоров тот же смысл. Правительство обязано возмещать ущерб, нанесенный его войсками, – это принцип международного права. Англичане не отвергали этот принцип, а признавали его еще с тех достопамятных времен, когда должны были выплатить полную сумму убытков, нанесенных действиями крейсера «Алабама» в Гражданской войне с американским Севером. Если же говорить о военных долгах, то уместно сказать: Россия от войны понесла более значительные потери, чем любое другое государство, – больше половины потерь Антанты приходится на Россию. Русское правительство истратило двадцать миллиардов на войну, в то время как прибыли пошли другой стороне. Наши контрпретензии далеко превышают сумму долгов.
– Если русские не хотят платить процентов, то должны погасить самую сумму долга, – возроптал Ллойд Джордж. – Речь идет и о частных заимодавцах, частных, чьи фабрики и заводы остались в России… – произнес он и закатил глаза, уперев их в лепной плафон зала, – казалось, что довод о частных лицах, взносы которых составляли долю русского долга, был единственным, на который еще возлагали известные надежды Ллойд Джордж и его коллеги.
– Как можно вернуть заводы, о которых вы говорите? – спросил Чичерин британского премьера, точно приглашая вместе с ним поразмыслить над сущностью этой проблемы. – Стоимость их не так уж велика, но сделать это не просто – одни предприятия стали частью крупных объединений и не могут быть оттуда изъяты, возвращению других воспрепятствуют рабочие.
– Те, кого британский премьер назвал частными заимодавцами, не так безобидны, как может показаться, – заметил Литвинов, до сих пор хранивший молчание. – Лесли Уркарт помогал Колчаку свергать советскую власть, а теперь говорит, что не несет ответственности, а деньги свои хочет получить назад. Вопрос о пятидесяти миллиардах нами не ставился быг если соответствующих требований нам не предъявлял бы Запад. Погаси Запад наши требования, мы из этой суммы оплатили бы долги кредиторам…
– Независимо от того, как закончится эта дискуссия, – Красин пощекотал седеющую бородку, – настало время вернуть России ее флот – мы уже получили двенадцать ледоколов, есть резон вернуть и военные корабли…
И вновь овальный стол и тридцать человек, сидящих за ним, как бы накрыло пространным облаком тишины – два часа дискуссии давали повод для раздумий значительных.
– Нам, пожалуй, есть смысл посоветоваться, – наконец произнес Ллойд Джордж, уловив печальный взгляд французского коллеги.
– Нас меньше, и потому мы выйдем, – тут же реагировал Чичерин.
Русские покинули большой зал виллы «Альбертис» и неширокой дорожкой, влажной от прошедшего дождя, пошли в дальний конец парка.
– Леонид Борисович, с чем мы уедем сегодня с виллы «Альбертис»? – обернулся к Красину Чичерин.
– Вы требуете от меня прогноза, Георгий Васильевич? – Красин остановился, свет неяркого генуэзского дня лежал на его лице, откровенно хмуром – встреча в большом зале виллы «Альбертис» не воодушевляла.
– Если хотите – прогноза…
Красин застегнул пиджак – на холме было ветрено.
– Они склонятся к мнению Барту, а это почти ультиматум…
Чичерину казалось, что красинские слова были слышны и Литвинову, который шел поотстав.
– Максим Максимыч, с чем мы уедем сегодня отсюда?
– Союзники… не отступят. – Он помолчал, ожидая, что собеседники пойдут дальше, но никто не тронулся с места. – А как… быть нам?
– Если не отступят, нельзя стоять на месте… – пояснил Чичерин.
– Нельзя, разумеется, – произнес Красин.
Небо успело расчиститься, и Генуя, только что застланная облаками, точно открылась взору, когда гонец британского премьера разыскал русских делегатов на краю парка и пригласил в дом; однако союзникам потребовалось меньше часа, чтобы прийти к единому мнению, – признак не столько хоцрший, сколько плохой.
Когда русские вновь появились на пороге большого зала, шум голосов, которым был полон зал, сменился столь внезапной и столь тревожной тишиной, какая наступает, когда входят недруги. Даже общительный Ллойд Джордж, не упускающий случая, чтобы осчастливить аудиторию многоцветным спичем, на этот раз не нашел ничего более уместного, как взять в руки страничку, заполненную машинописным текстом, и, придав лицу соответствующее выражение, начать читать.
Смысл того, что предстояло услышать русским, рас* крывала эта страничка. И то, что это была всего лишь страничка, и то, что ее не было прежде и она появилась только теперь, и то, что она была заполнена текстом всего лишь на две трети, обнаруживало лаконичность невиданную, а следовательно, твердость. Короче, это был ультиматум. Но, может быть, есть резон вникнуть в смысл документа – Ллойд Джордж уже читает. Союзники настаивают на своих претензиях и отвергают контрпретензии русских. Если главный вопрос будет решен положительно, союзники готовы пойти на известные льготы во всем, что касается сокращения размеров долга, как и сроков его выплаты. Участие союзников в восстановлении России не снимается, но об этом есть смысл условиться лишь после того, как будет решен главный вопрос.
Итак, ультиматум, непонятно было только то, что русские выслушали документ сидя, – в таких случаях встают.
– Остается нерешенным вопрос о ледоколах, – вдруг вспомнил Ллойд Джордж, обращаясь к Красину. – Как ни важен этот вопрос, конференцию он не сорвет, а если что–либо и расколет, то только лед предубеждения…
Раздался смех на задних скамьях – полагая, что каламбур удался, Ллойд Джордж опустился на стул с таким видом, будто бы по крайней мере выиграл генуэзское сражение.
– Как я понимаю, речь должна идти не о долгах, а о будущем наших отношений, – произнес Чичерин: видно, категорический тон документа подействовал и на него, в его реплике явно обнаруживалось желание найти компромисс.
– Британские банкиры не станут говорить о будущем, пока прошлое не будет улажено, – отрезал Ллойд Джордж с воинственностью, какая у него до сих пор не обнаруживалась, – смятение в голосе Чичерина придало ему решимости.
Барту откашлялся – он точно дал понять, что настала его минута.
– Господину Чичерину надо сказать недвусмысленно по вопросу о долгах – сказать «да» или «нет», – произнес француз почти ласково, до сих пор его выступления были выдержаны в иных тонах. – Вести себя иначе значит читать книгу с последней главы.
Барту полагает: французы ищут взаимопонимания – в знак доказательства, что это именно так, он, Барту, молчал сегодня весь день…
– Искать взаимопонимания значит показать, что ты способен понять позицию не только свою, но и противной стороны, – парировал Чичерин – у него была способность этой молниеносной реакции, лишающей противника контрдовода.
Барту смолчал, демонстрируя всем своим видом: если он, Барту, обратился сегодня к обету молчания, то какой смысл было этот обет нарушать?
Когда автомобили с русской делегацией выехали за пределы каменной ограды виллы «Альбертис», толпа корреспондентов преградила им путь. Десятки рук уперлись в радиатор, отказываясь пропустить автомобиль. Корреспонденты размахивали зонтиками как шпагами. Корреспонденты казались голодными, были злы и готовы на любую дерзость. Они задирались – скандал их устраивал.
– Только одно слово: как переговоры? – слышалось со всех сторон.
– Переговоры продолжаются! – выкрикнул Красин – два эти слова как пароль были уготованы заранее.
Толпа нехотя расступилась: ей было невдомек, что формула «переговоры продолжаются» не столько отражала действительное положение дел, сколько его скрывала.
Но голод взъярил в этот день не только корреспондентов, он обозлил порядочно и нас. Когда мы собрались за обеденным столом, вначале нервное молчание сковало всех. Вопреки правилу, исправно действующему, в этот день горячее было подано с опозданием, и это не способствовало настроению. Кто–то присолил ломтик хлеба и торопливо уплел, кто–то разбавил воду вином и выпил. Когда появилось горячее, уже не было прежнего аппетита и вся энергия обратилась к беседе.
Литвинов. Сравнив нас с ирландцами, Ллойд Джордж хотел того или нет, но сделал нас участниками внутрибританского спора… Хорошо это или плохо?
Боровский. Хорошо ли быть подданным Британии? По–моему, не очень!
Все рассмеялись, в том числе и Литвинов, – усталость точно рукой сняло.
Рудзутак. Надо взглянуть на положение дел здраво: как далеко пойдет Антанта в своих уступках и пойдет ли она на эти уступки. (Он любил это слово: здраво.) Большой долг – главное. Захотят ли они его скостить?
Ответом было молчание. В нем явно был отрицательный заряд. Нет – точно говорили сидящие за столом.
Рудзутак. А если так, нельзя с этим фактом не считаться. Никаких иллюзий. Смотреть на вещи трезво. (Он любил и это слово: трезво.)
Литвинов. Тогда как же быть?
Чичерин. Надо искать иные пути?
Литвинов. И продолжать переговоры с Антантой?
Чичерин. Продолжать, обязательно продолжать, а как же иначе?
Вновь наступило молчание, но на этот раз, как мне показалось, оно несло положительное электричество.
Я заметил: Чичерин исследует проблему в ходе беседы, однако не каждый годен для такой беседы – Георгию Васильевичу нужен собеседник, умеющий возражать. Именно возражать, настойчиво, со страстью, даже строптиво. Лучше всего такая беседа ладится на прогулке. В Москве, например, он все время выманивал меня на Сретенский бульвар, к стенам Рождественского монастыря, в переулки, лежащие между Мясницкой и Покровкой.
Не просто обнаружить тихую ныне Сретенку на генуэзских холмах. Поэтому наш маршрут пролегает по улочкам, прилегающим к морю.
В походе по Генуе сегодня с нами Красин. Была бы воля Леонида Борисовича, он бы сообщил нашей прогулке иные скорости. Стоит нам заговориться с Георгием Васильевичем, как быстрые крылья Красина уносят его далеко вперед.
– У таких городов, как Генуя, есть отличительная черта: ты никогда не был в нем, а такое впечатление, что жил в нем, при этом долго. Идешь по городу и ловишь себя на мысли: ты был здесь, ты был… И все–таки это чувство обманчиво: тебе еще надо почувствовать Геную, а следовательно, признать…
– Если ты признаешь Паганини, должен признать и Геную? – поднял я глаза на Чичерина; мы шли сейчас под гору, к морю.
– Признать Геную труднее… – согласился он меланхолично и с неодолимой пристальностью посмотрел над собой – мы стояли у стен Сан – Джорджо.
– Три дня назад все казалось проще? – спросил я: громада дворца, освещенная, точно дышала холодом – казалось, от нее шел ветер.
– Все можно предусмотреть, трудно предугадать это… – сказал Чичерин.
Мы пошли припортовой улочкой. Моряки, сидя на корточках, играли в карты – колода выкладывалась на кирпичи. Из погребка доносилась песня – до хмеля было далеко, и песня ладилась. У распахнутых дверей стояла женщина – она была массивна, и высокие каблуки чудом ее держали, женщина устала, едва ли не сникла, но продолжала стоять храбро. На подоконнике сидел грузчик и, зажав в пятерне бутылку красного, пил из горлышка – струйка вина, извиваясь, бежала по заголенной руке, оставляя сизую полоску.
Мы достигли каменного парапета набережной и встали над водой.
– Раз так, не надо было приезжать в Геную, сказал Ллойд Джордж… – Чичерин медленно пошел вдоль парапета. – Он говорил о нас, а можно было подумать, что говорит и о себе… Если он говорил о себе, это было не бессмысленно.
– А о нас, Георгий Васильевич?
Чичерин молчал; небо было бирюзовым, и вода была бирюзовой, даже припортовая вода в масляных пятнах и щепе.
– Когда вы последний раз видели Мальцана? – спросил Чичерин – вопрос как бы возник вдруг и словно был отгорожен от предыдущего разговора иным смыслом, совершенно иным смыслом, и все–таки существо этого вопроса надо было познавать в связи с тем, что ему предшествовало… Однако что было этим существом: приезд в Геную был оправдан в связи с пребыванием в ней немцев?..
Итак, когда я последний раз видел Мальцана? По–моему, это было третьего дня утром. Мы встретились с ним в резиденции Факты, где я получал разрешение на поездку наших дипкурьеров. Мальцан поклонился, как мне показалось, сдержанно и был более обычного лаконичен в своих расспросах. Его вопрос звучал приблизительно так: «Газеты сообщили о новой поездке русских на виллу «Альбертис» – это уже третья встреча или четвертая?» Я сказал, придав лицу возможно более серьезное выражение: «Пятая». Он не подверг мой ответ сомнению. «Пятая?» – спросил он.
– Если бы вы сказали «первая», он был бы не так обескуражен? – спросил Георгий Васильевич. – Это была печаль?
– Больше того – тревога, – ответил Красин, случайно оказавшийся рядом.
Чичерин рассмеялся:
– Значит… тревога?
Вот так–то: великодушного Чичерина, участливого к беде другого, тревога Мальцана почти воодушевила – да не черпал ли он надежду в беспокойстве немца? Может, и черпал – по крайней мере это и ему показалось забавным.
Мы идем к площади Де Феррари и затихаем, пораженные благородной строгостью форм собора. Чичерин кивает – взгляд его просителен. Войдем? – точно говорит он. Как не войти?
Мы поднимаемся на паперть, однако, прежде чем войти, замечаем поодаль от собора густо–лиловую ладью лимузина – не владетельный ли генуэзец, воспользовавшись послеобеденным затишьем, прибыл в Сан – Лореицо просить всевышнего о снисхождении?
– Нет, не генуэзец, – сказал Красин, взглянув на автомобиль глазами знатока. – Я вижу клетчатое кепи драйвера – если не лондонец, то манчестерец…
В полутьме собора, подсвеченной сине–оранжевым сиянием витража, звучит орган. Голос его, отраженный плоскими стенами собора, певуч. Кажется, что поют сами камни – орган умолкает, но он не в силах смирить голоса, который еще живет в камне не угасая, а, наоборот, разгораясь все ярче. Кажется, что голос этот вздул пламя свечей, обратил в трепет оранжевые блики витражей, заставил вибрировать сам камень собора.
Собор пуст, только слева в поле света, который нещедро цедит узкое окно, самозабвенно молится молодая женщина. Лица ее нам не видно, однако свет точно взвихрил и рассыпал ее темно–русые волосы. Каждый раз, когда она припадает к пористому камню пола, тяжелые локоны, только что напитанные соборной полутьмой, точно загораются. Женщину воодушевила ее молитва – истинно она нашла себя в ней.
Только теперь мы увидели: над женщиной, опершись на толстую палку, замер человек. И его лица мы не видим, но хорошо видны спина, стянутая тканью его деми, более тяжелой, чем та, которую носят по нынешней поре генуэзцы, затылок, насеченный ощутимо глубокими складками, по которым, как по срезу дерева, угадывается возраст, едва ли не предзакатный. Вдохновенное таинство, которое творит сейчас молодая женщина, не оставило человека с палкой равнодушным: каждый раз, когда женщина бьет поклон всевышнему, массивную фигуру человека точно поводит. Не было бы палки в знатных наростах дерева, мы бы не увидели руки человека, лежащей на набалдашнике, – женская рука! Да, маленькая женская рука, упрятанная от солнца, а поэтому неестественно белая, тонкая в запястье, настолько тонкая, что, того гляди, хрустнет и обломится, маленькая, с заметно удлиненными пальцами, которые казались хрупкими. Что–то подобное я уже видел однажды, но где? Наверняка это было не недавно, иначе процесс припоминания не заставил бы себя ждать. Память прошибает мглу годов. Кладбищенский мрамор где–то здесь, в Италии, ярко–черный, полированный, и слепок маленькой женской руки точно такой – ярко–белый, не потревоженный солнцем и, пожалуй, в такой же мере безжизненный. Однако чу… рука на набалдашнике обнаружила признаки жизни – в том, как она сдавила набалдашник, была сила неженская…
Как ни ограничено видение, Красин рассмотрел в облике человека, защитившего своей могучей спиной женщину, нечто такое, что заметно встревожило русского.
– Да не опознали ли вы в этом господине со стеком известного детектива, предавшего разору лондонский Сити, Леонид Борисович? – произнес едва слышно Чичерин.
– Вы правы, Георгий Васильевич, и имя его… Лесли Уркарт.
– Уркарт в Генуе, Николай Андреевич? Однако не думал я, что за подтверждением этой новости мы явимся в Сан – Лоренцо.
– По всей вероятности, Георгий Васильевич, хотя утренние газеты еще не подтвердили это категорически.
– Но Леонид Борисович готов подтвердить это? – произнес Чичерин, направляясь к выходу из храма, – в словах была энергия, в походке она отсутствовала: не хотел обнаруживать, что посреди собора Сан – Лоренцо для него взорвалась бомба.
– Мне ничего не остается, как подтвердить это, Георгий Васильевич, – сказал Красин.
Мы вышли на паперть.
Солнце сместилось, и лиловая ладья, стоящая у собора, стала синей.
– Кто эта молодая женщина, которую упросил Уркарт молить католического бога, и о чем она этого бога молила? – спросил Чичерин весело – казалось, веселый голос возник сам собой при виде солнца. – О чем молила?
– Не иначе как о возвращении Эльтона и Баскунчака, – рассмеялся Красин.
– Уркарт в Генуе, Лесли Уркарт в Генуе… – произнес Чичерин и прибавил шагу – казалось, он шел сейчас послеполуденной Генуей один.
Вот материал для раздумий, Николай Андреевич: какими путями должен идти художник, чтобы, оставаясь подданным своего времени, стать и гражданином грядущего? Для Моцарта это трагическая материя, причины трагедии здесь. Заметьте: современники отвернулись от него в тот самый момент, как он написал многое из того, что заслужило признание потомков. Страшно сказать: исполнилось худшее из предсказаний Леопольда Моцарта, отца композитора, заклинавшего сына не порывать с тем, что он называл традицией, и грозил сыну худшей из кар – забвением современников. Горько сознавать: общая могила, могила бедняков, в которую опустили тело гения, стала на годы и годы могилой забвения… Моцарту дорого стоило его стремление быть понятым потомками, быть может, далекими потомками, но он шел на это: поздний Моцарт, как мне кажется, лучший Моцарт, при внешней простоте был сложен. Это сложность первооткрытия, сложность новизны… Пусть разрешено будет мне раскрыть смысл такого парадокса: тему скорби, нет, не личной, а мировой, влияние которой испытывает человек на длинном пути от одной зари до другой, Моцарт показал во всей мощи, не отняв у нас веры в будущее, больше того – эту веру вызвав, а вместе с нею и радость. Это и в самом деле парадоксально: у Моцарта скорбь участвовала в рождении радости? Да, пожалуй, так, и в этом немалое новаторство композитора. Оно тем более значительно, что обращено к человеку, складу его души, психологии. Помните, мы говорили о близости Моцарта к Рембрандту? Так разрешите мне высказать и иное. Наверно, с этим согласятся не все, но я вижу в Моцарте предтечу великих романистов девятнадцатого века. Да нет ли тут усиления: скорбь участвовала в рождении веры? Да, именно веры, которая является родной сестрой подлинной революционности. По мне, Моцарт не просто созвучен революции – он ее храбрый глашатай…
У драматического действа, которое вынесено сегодня на подмостки Генуи, новый герой: Уркарт.
Если быть точным, то он, этот герой, не очень–то нов. Больше того, в веренице делегатов, избравших своей резиденцией виллу «Альбертис», его место едва ли не рядом с Ллойд Джорджем. Даже как–то не очень понятно, что старый валлиец прибыл в Геную без Уркарта. Нет, во всем сказанном нет усиления.
Уркарт – сиятельный британец, знающий толк в южноуральских землях. Эта женская рука, тонкая в запястье, обнаруживала силу, когда надо было удержать южноуральские земли, впрочем не только южноуральские: движения хрупких пальцев было достаточно, чтобы колчаковское воинство полонило Сибирь, – душой похода был Уркарт…







