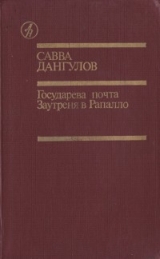
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
32
Поезд пришел в Петроград в одиннадцатом часу дня, и тут же Цветов позвонил на Моховую. Дядя Кирилл оказался неожиданно пасмурен.
– Какие новости приволок из первопрестольной? – спросил он. – Небось не шибко обрадуешь старика? Ну уж, приезжай…
Сергей ехал на Моховую и не мог взять в толк, чего так неласков старик. Молву не обскачешь, может, она уже донесла обо всем, что стряслось с Германом? Но то*:да дядя Кирилл мог выдать себя полусловом и по телефону.
Дверь открыл собственной персоной Цветов, и из полутьмы глянули скорбно–жалостливые глаза. Глянули и словно полыхнули по сердцу огнем. «Знает! – ска–ал себе Сергей. – Все знает!» Они шли к кабинету, и тяжело нес свой горб дядя Кирилл, постанывая. Кто–то уже поспел шепнуть старику, обскакав и солнце, и ветер! Они вошли в кабинет, и, крякнув, дядя Кирилл полез в свое кресло, аккуратно свесив, как это было прежде, короткие ноги.
– Веришь, Серега, голым чаем не могу тебя угостить, вот так–то!.. – он утер ладонью слезу, глаза мигом стали красными. – Поднаскреб барахла разного и погнал кухарку в деревню, может, совершит товарообмен!.. Бона! – он качнулся в своем кресле, не сводя глаз с Сергея. – Господи, нужда сдавила все вокруг до размера поганого пятака! – вдруг вырвалось у него, и он перестал раскачиваться. – Тут этот Станислав Крайнов прошумел по дороге в Швецию. Крайнов, Крайнов! И то, как скор человек! – сказал и умолк, он точно пытал Сергея этими паузами, стараясь подтолкнуть собеседника к тому, что хотел спросить. – Про нашего Германа верно толкуют?..
– Что именно, дядя Кирилл?
Он развел и свел ноги, хотел найти упор.
– Ну, про эту тульскую штольню – искал, мол, золото, а получил пулю, верно?
Сергей наклонил голову, ждал именно этих слов, а когда они были произнесены, стало не по себе.
– Верно.
Дядя Кирилл закрыл глаза, потряс головой раз, другой в лад своим тайным мыслям.
– Ну, что тут скажешь, а? – хмыкнул он. – Коли взялся за гуж, не говори, что не дюж. Директор банка по нынешним временам – ох, как грозно! Бона! – Глаза его вновь покраснели. – Жаль Германа… да сдюжит ли он?
– Сдюжит…
Он соскочил с кресла с необычной для него проворностью, пошел к письменному столу, посреди которого лежало зеркальце в серебряной оправе, долго смотрел в зеркальце, вздыхая.
– Вот смотрю на себя с утра, не насмотрюсь! – он попробовал улыбнуться, но улыбка не получилась. – Не опух ли? – он бросил зеркальце, подошел к Сергею. – Все–таки природа, она великая насмешница: прежде чем положить в гроб, старается тебя приукрасить. Был кощей бессмертный, а стал этакий красавег, гладкий, как новорожденный. – Он продолжал ид; Сергея, поднося к его липу свое. – Хорош я?
Ничего не скажешь, нагнал мраку дядюшка. СергеГ заторопился.
– Передай Ивану Изусову поклон и вот эту мою книжицу о взаимном кредите, она вышла в самый канун войны и, пожалуй, до него не добралась… – он достал из письменного стола опрятный томик в темно–зеленом сафьяне, принялся надписывать, рука не держала перо. – Не сделай глупости, держись Изусова! Он хотя и скряга, как надлежит быть человеку денежному, но порядочен вполне и на своего руки не подымет!.. У него небось полк разных там… своячениц. Высмотри, какая поздоровее, и женись! Не дай ему прийти в себя, женись!.. Это, братец, проверено опытом, да и наука не мудрена, не зевай!.. Бона! – он потоптался на месте, вспоминая, не запамятовал ли сказать что–то стоящее. – Если завтра не уедешь, приходи, думаю, кухарка как раз вернется из деревни! Уволокла женин салоп на лисе рыжей, сколько дадут, столько дадут! Куда он мне? Приходи… – засмеялся он, да так прытко, как в этот день еще не смеялся – воспоминание о женином салопе на рыжей лисе развеселило его.
Уже прощаясь, дядя Кирилл постучал маленьким кулаком Сергею в грудь, произнес неопределенно:
– А Колчак того, идет! – удары кулака были на. с-тойчивы. – Он хоть и адмирал, а по земле ходить не разучился, идет, идет!.. – он не без раздумий убрал кулак с груди, внимательно посмотрел на Сергея. – Только вот не могу уразуметь: хорошо это или худо?.. Я об адмирале, что перебрался с моря на сушу… – он помолчал, задумавшись. – Ну, взгляни на меня еще раз и скажи, не робей: покрасивел я? Бона!..
С тем и простились. Шел Сергей с Моховой, думал: «В нем, в дяде Кирилле, есть, конечно, своя чудачинка, с виду будто суров, а на самом деле незлобив, быть может, даже добр… Одним словом, Цветов!»
И пришел на ум последний разговор с братом в Сол–датенковской больнице. И, разумеется, вот это много–крат заданное Германом: «…Быть может, я не знаю всего?..» И Сергеем повторенное: «Знаешь». И, конечно же, сокровенное Германово, в которое он вложил всего себя: «Да неужели… ты так и не понял, как нам тяжело?» Ну, Герману Сергей не открылся, да не в натуре младшего Цветова было нести сердце на ладони, но себе–то он может открыться. Что произошло в эти пять лет с Сергеем? Пять лет, прожитых вдали от родины, больше, чем обычных пять лет. В действие вступают не только силы–друзья, но и силы–недруги. У пятилетия, прожитого вдали от отчей земли, есть свои опасности. Нельзя сказать, что у человека возраста Сергея их должно быть меньше. Вот они пошли в атаку, эти силы–недруги. Наверно, главная опасность – дать стихии забвения овладеть тобой. Нет ничего опаснее, чем эта стихия забвения, именно она деформирует наше физическое и духовное зрение. Все, что рядом, отодвинет за тридевять земель, все, что близко, застит пологом тумана, все, что дорого, обратит в пепел. Отдать себя во власть стихии забвения, значит, признать над собой волю самого постыдного из пороков – корысти. Наверно, есть люди, для которых корысть – доблесть. Не Сергей отторг себя от них. Если Сергей, слава богу, не признал над собой власть этой силы, что мешает ему охранить свою свободу и дальше? Но свободу для чего? Для отчей земли, для любимой женщины, а может быть, для себя, для совести своей? В конце концов, что есть совесть?..
33
Сергей пришел на петроградскую почту и встретил Крайнова. (Как ки печально было положение дяди Кирилла, он все еще поспевал за жизнью, его осведомленность была завидной.)
– Не с Караханом ли приехали, Станислав Николаевич?
– С Караханом.
Они пошли Невским. Вечерело. Зажглись первые огни. Они явились, эти огни, там и сям по фасадам темных петроградских домов, будто их бросили наотмашь, врассыпную.
– Вот вы спрашивали тот раз о Карахане. Что вам сказать? Главное, как мне кажется, увидеть человека рядом, рассмотреть его, а остальное вопрос времени. Вот Карахан. У одного способность говорить с аудиторией, у другого – с отдельным человеком. Я не слышал Карахана, говорящего с трибуны, но, по слухам, он хорош и там. А что его дар, так это разговор, как говорят французы, в четыре глаза, умеет победить сомнения собеседника в долгом, требующем терпения диалоге. Сейчас покажу дом, и он вам объяснит многое. Вот сейчас подойдем, видите, с коринфскими колоннами? Теперь взгляните на третий этаж и на этот ряд окон слева… Не знаю, живет ли он сейчас здесь, но тогда это были именно его окна! Слыхали? Вожеватов?! Известный дока по кодовому письму. Консультировал и генштаб, и иностранное ведомство. А после Октября забастовал!.. Карахан вызвался переговорить с ним. Старые чиновники с Дворцовой посмеивались: «Вожеватова распропагандировать? Ну–ну!» Но Карахан решился. Поехали к Вожеватову вместе. Впрочем, я стоял у этой рекламной тумбы, а он поднялся в квартиру. Его не было часа полтора, однако появился все–таки… У меня сердце оборвалось – без Вожеватова! «Отказался?» – «Нет, почему же? Обещал быть, только просил пролетку прислать…» Пролетку так пролетку, послали. И что вы думаете? Служил верой и правдой. Наше первое кодовое письмо консультировал Вожеватов… Да что Вожеватов? Были военспецы, которых Карахан отвоевал для революции, а были и банковские тузы. Есть талант трибуна, когда надо склонить на свою сторону массы, а есть талант, когда надо говорить в четыре глаза…
– Буллит бы сказал: когда надо отыскать пути, которыми ушло русское золото в Стокгольм…^ – уточнил Сергей. – Так?
Крейнов засмеялся, решив обратить эти слова в шутку.
– А вы можете спросить Льва Михайловича самого, при этом не позже чем через полчаса, он там же, в «Европейской»…
Цветов ничего не сказал. Не иначе, Карахан был заинтересован в разговоре с Цветовым, должен быть заинтересован, и быстрый ум Крайнова это определил мгновенно.
Они были в «Европейской» и у входа в апартаменты Карахана едва не сшибли человека в дохе.
– Да не Вожеватов ли это?
– Какой там!.. Товарищ министра – большие ские займы были у него, как и золотые запасы…
– Буллит бы сказал: «Золото любит толстых». И эти слова развеселили Крайнова.
– Тогда это решительно не наша со Львом Михайловичем сфера, мы–то вон какие поджарые!..
Они вошли. Карахан сидел за письменным столом и писал. В свете настольной лампы, прикрытой матовым колпаком, его смуглое лицо серебрилось. Услышав звук открываемой двери, он не без труда поднял гл. аза, и серебро, казалось, пролилось в зрачки.
– Вот Сергей Цветов, Лев Михайлович… Так вы же знакомы!.. Помните, на Софийской?
– Да, конечно…
Карахан встал. В этот раз взгляд Сергея, обращенный на Карахана, был пристальнее. В' осанке свойственная кавказцу статность. Шаг мягок. Встав из–за стола, он протянул руку и пронес ее протянутой через всю комнату.
– Помню, Станислав, помню… – произнес он, пожимая руку гостю, при рукопожатии умел держать спину прямой. – Вы еще говорили потом, что наш гость победил «Эколь коммерсиаль»… – он указал на столик, стоящий у камина. – Прошу вас…
Сказав «прошу вас», Карахан проследовал в сосед–нюю комнату и вынес оттуда бутылку вина начатую и три бокала; бутылку держал, зажав горлышко между средним и безымянным пальцами, что давало возможность взять в эту руку еще многое, чем можно было бы украсить стол, если бы припасы были побогаче.
– Простите, что так скромно, – он неторопливо разлил вино, любуясь тем, как вскипает нежно–розоватая пена. – Будьте здоровы…
Он поднял бокал и, дожидаясь, пока гость пригубит, заметно сместил руку к свету; как ни густо было вино, оно просвечивалось, цвет был темно–рубиновым, живым, Карахан залюбовался им.
– Поезд в Гельсингфорс уходит утром? – спросил он. Если и надо было как–то начать разговор, то по возможности издалека.
– Рано утром, – был ответ Сергея. – Как гости? Сбылись… надежды?
– Мне так кажется.
– Как я заметил, Буллит не так распахнут, как Стеффенс? – Карахан взял бутылку с вином. – Не так распахнут, а?
– Быть может, вы и правы, – сказал Цветов. Карахан встал, он шел по комнате, и его шаги, едва
слышные, будто отмеряли правильные куски тишины.
– Вы полагаете, что этого месяца достаточно, чтобы вопрос был решен? – Карахан остановился где–то очень далеко, но было слышно его дыхание, оно было ровным и тоже отмеряло эти куски тишины.
– Если он будет решен, то… достаточно. – Сергей обернулся, и их глаза встретились.
– Вы сказали «если» – у вас сомнение? – Карахан все еще стоял там, где остановился, его дыхание донеслось явственнее, ответ Цветова его взволновал.
– А я не умею предсказывать, вот и сказал «если»… – засмеялся Сергей, но Карахан, казалось, остался все так же строг.
– Допустим, не будет решен наш вопрос, тогда., по какой причине? На ваш взгляд? – Карахан пошел к столу. – Я подчеркиваю: на ваш взгляд…
Сергей молчал, его мысль была трудной. Хотел быть близким правде и понимал, что это не просто, именно теперь, быть может, теперь больше, чем когда–либо прежде, хотел быть близким правде.
– Есть сила не управляемая, но… правильная, она решит все… – заметил Карахан.
– Что же это за сила… Время? – поинтересовался Сергей.
– Время… – подтвердил он.
Карахан разлил остаток вина, смешно прищурив глаз: хотел, чтобы всем досталось поровну.
– «Эколь коммерсиаль» – это, наверно, очень серьезно? – спросил Карахан.
– Мне кажется, – улыбнулся Цветов.
– Школа людей государственных и деловых?
– Школа тех, кто организует дело, – уточнил Цветов.
– И кем вы будете теперь? – полюбопытствовал Карахан. – Коммерческим директором, гонцом по особым поручениям или просто бизнесменом? Какое… амплуа из трех? – он не любил иностранных слов и произнес это не без раздумий – амплуа.
– Все три.
– Значит, три? Хорошо. Идите к нам на работу, – предложил Карахан и в сумерках, которые сгущались, отыскал глаза Сергея. – Гарантирую место директора департамента нашего Министерства финансов…
– Благодарю вас, – засмеялся Сергей. – Станислав Николаевич, вы свидетель, что такое обещание мне было дано…
– Свидетельствую, свидетельствую… – подтвердил Крайнов.
Цветов покинул апартаменты Карахана, его провожал Крайнов.
– Вот это как раз я и имел в виду, когда говорил о таланте Карахана беседовать в четыре глаза… – заметил Крайнов. – Прошлый раз в Гельсингфорсе вы квартировали в «Балтийской»? Ну что ж, может быть, встретимся – если не разминулись в Питере, то в Гельсингфорсе встретиться сам бог велел… – О Стокгольме не было сказано ни слова, но каждый понимал: путь Крайнова лежал в Стокгольм.
Кто–то сказал Сергею: «Вот таким сочетанием камня, воды и неба может одарить только Петроград, величие и значительность в лике города от этого». И еще было сказано: «Набережная Невы – без нее нет Петрограда».
Сегодня где–то у Троицкого моста, глядя в даль Невы, он вдруг спросил себя: справедливо ли, что он видит все это один? Где Дина, почему ее нет здесь? Господи, чего только не может сотворить воображение, если хочешь не отторгнуть от себя человека!.. Ну конечно, это было на том же бульваре Дюма в ту первую ночь, когда он остался у нее, вернее, в первое утро. Это было утро, окрашенное солнцем, в котором была и светоносность, и молочная мягкость, и серебристый блеск апреля. Он пробудился и увидел ее подле себя, так близко, что ощутил запах ее тела, в этом запахе было что–то очень юное – дыхание майского дерева, липкой листвы… Его повлекло к ней. «Только не просыпайся, – молил он ее. – Только не просыпайся…»
34
Сергей застал американцев в смятении, не столько Стеффенса, сколько Буллита. Все та же проблема: Колчак и его способность ходить по суше. Причиной тревоги была утренняя телеграмма, появившаяся в газетах, по всему, та самая, что взволновала и дядю Кирилла.
Овальная комната в гостиничных апартаментах Буллита была полузавалена чемоданами, преимущественно пустыми. После того как обильные припасы консервов израсходовали, в чемоданах не было необходимости, но и оставлять их в России американцы не решались. Сергей уволок их в соседнюю комнату, надеясь разместить в них нехитрые пожитки, свои и Стеффенса.
– Чем черт не шутит, не успеем вернуться в Париж, как Колчак войдет в Москву, – произнес Буллит и зашумел газетой, она лежала на столе. – От России, черт побери, всего можно ожидать.
– Можно подумать, что в очередной раз вас подвела Россия? – спросил Стеффенс, смеясь.
Буллит недовольно хмыкнул. Минут тридцать тому назад он затеял переодевание, решив облачиться в дорожный костюм, но дело не шло: брюки оказались помятыми, сорочка не так свежа, как ему казалось, на мягких ботинках, которые были так удобны в дороге, лежал пуд пыли. Непорядок с костюмом давал Буллиту возможность скрыть истинные причины плохого состояния духа.
– Я не понимаю ваших острот, Стеф, что вы хотите сказать?
– Как будто бы вы и не американец! – засмеялся Стеффенс. – Приход Колчака в Москву должен был вас привести в восторг, а он чуть ли не вышиб у вас слезу… Что происходит?
– Погодите, вы ставите под сомнение мое хорошее отношение к России? – спросил Буллит.
– Отнюдь не намерен ставить под сомнение, – откликнулся Стеффенс. – Еще Лансинг сказал: «Пусть Буллит едет в Россию, может быть, он излечится от своего большевизма…»
– Все верно, тогда какой же смысл мне радоваться победе Колчака?
Стеффенс смолчал. Если Буллит и был подвержен русофобству, нынешнему, разумеется, он ею сокрыл глубоко, должен был сказать себе Цветов. В положении Буллита русофобство не должно обнаруживаться сегодня. Обнаружь он его, Буллит начисто разрушал свою позицию. Поэтому телеграмма с Урала должна была вызвать странное чувство именно в сердце Буллита.
– Надо возвращаться в Париж, как можно быстрее возвращаться… – деловитость Буллита не заставила себя ждать, он сформулировал задачу точно. – Поймите, возвращаться…
– Промедление смерти подобно? – Стеффенс преломил формулу Буллита по–своему.
– Готов согласиться, смерти подобно, – отозвался Буллит.
А Цветов должен был сказать себе: в том, как Буллиту виделась его миссия, определенно, возникло нечто новое. Впервые за эти три недели Буллит усомнился в успехе миссии и едва не выдал себя. Однако как понимать это новое? О чем речь? Буллит должен еще разобраться в происходящем, но одно ясно: он принял позицию друга новой России и должен этой позиции держаться. Только такая позиция позволит сберечь козыри, которые сегодня в руках Буллита. Козыри? Пожалуй. Новое в этом? Не только. Запад возгласил наступление Колчака на Москву, а по этой причине готов быть и не столь определенным в своих отношениях с красными, как, впрочем, и не столь быстрым… В лучшем случае, пауза? Пожалуй, пауза. А как все это для Буллита? Плохо или хорошо? Ну, что тут хорошего… Однако скорее в Париж! Скорее, скорее…
Пока американцы путешествовали по России, в Гельсингфорс пришла весна. Солнце растопило снег и угнало талые воды к морю. В парках проглянула ярко–черная земля. С маковок старых дубов галдят галки, их крик по–мартовски суматошен.
Обитатели «Балтийской» в восемь утра сбегали в столовый зал к завтраку – дежурный кусок ветчины и розетка джема входили в уплату за гостиницу.
Но у ветчины и джема было дополнение существенное – завтрак способствовал общению.
Утренний час Цветов отдавал прогулке. Тропа, еще укрытая хрупким в этот ранний час снегом, повлекла Сергея и Станислава Николаевича в дальний край парка, подступившего к стенам гостиницы.
– А в этом нет никакой тайны, отнюдь! – воскликнул Крайнов, будто отвечая на молчаливый вопрос Цветова. – Для Керенского это была тайна, для нас никакой! В наших интересах сказать об этом вслух, это же русское золото.
– Но гласность чревата… потерями, – подал голос Сергей и умолк.
– Как в тульской штольне, можно напороться на огонь? – спросил Крайнов, он был весел и в своих пророчествах, не очень веселых.
– Если хотите, Станислав Николаевич.
– По той причине, что в мире есть волки, не обходить же нам леса? – улыбнулся Крайнов. – Впрочем, осторожность и нам не противопоказана, кстати, об этом говорил и Карахан.
Цветов не торопился продолжить беседу – Станислав Николаевич вернул ее к Карахану, очевидно, вернул не зря.
– Я так и не установил тот раз, Лев Михайлович знает Германа? – спросил Сергей.
– Думаю, что нет, – тут же реагировал Крайнов. – Уверен, что не знает, – уточнил он. – А что?
– Я спросил себя: знает?
– Нет, нет, не знает… – подтвердил Крайнов. – Тем значительнее то, что он сказал, имея в виду… Министерство финансов?
Как ни строг был Цветов в эту минуту, он не удержал смеха, громкого смеха.
– Вы думаете, что это серьезно?
7*
195
– Конечно. Мы говорили с ним об этом после вашего ухода.
– И что?
– У него для шуток обычно иной повод и иные слова…
Они пошли к гостинице.
– Когда делу сопутствует тайна, как–то спокойнее, – сказал Цветов, пожимая руку Крайнова. Рука у него была ощутимо твердой, пожатие – щадящим. – Но, быть может, тут как раз уместна гласность?! – сказал он, все еще ощущая в своей ладони руку Крайнова. – Как во времена оны: идти в огонь под барабанный бой? – он нехотя выпустил руку. – Не очень–то весело!..
Они простились.
Этот разговор на далекой парковой тропе, укрытой синим снегом, схваченным крепким поутру мартовским морозцем, заставил Сергея задуматься. Если бы Карахан знал Германа, все было бы понятно: если не уговор, то доброе согласие. Но, как установил Сергей, Карахан не знал Германа. Наверняка не знал, однако действовал в полном согласии с Германом. И это заставляло задуматься. Оказывается, у разных людей, действующих независимо друг от друга, возникла потребность сказать Сергею одно и то же? Что это могло значить, для Сергея, разумеется?
На городских перекрестках девушки торгуют подснежниками. Они, эти подснежники, здесь бледно–голубые, не вобравшие сини.
Подснежники и в фарфоровых вазах.
– Стеф, Стеф, посмотрите, это же добрый признак! – кричит Буллит, подняв высоко над головой вазу с весенними цветами. – Черт с ним, с Колчаком, вот где добрая весть! – он берет в ладони веточки подснежников, подносит к лицу. – Чудо, а не цветы, есть в них если не запах, то свежесть марта.
Но рядом с вазой подснежников сегодняшние гель–сингфорсские газеты. От них никуда не денешься. Та же чертовщина: Колчак на подступах к Москве – телеграмма из Парижа. Однако старик Клемансо не дремлет! Если была бы его воля, он, пожалуй, водрузил бы над Кремлем колчаковский стяг.
– Стеф, мне необходим ваш совет…
Они устраиваются у столика, на котором стоит ваза с цветами. День гаснет, а вместе с ним и подснежники. Они становятся лиловыми, точно напитались предвечерья. У гельсингфорсских сумерек в марте цвет разведенного химического карандаша. В просвете окна видно, как в городе зажигаются огни. Во влажном мартовском воздухе они размыты. Неяркое электричество, проникающее в окно, не достигает подснежников, стоящих на столе.
– У Гельсингфорса есть привилегия перед Петроградом – завтра Вильсон и Хауз будут знать об итогах нашей миссии в Москву, – произносит Буллит. Эти несколько слов произнесены в темноте, и потому они звучат особенно весомо.
– Посольская шифровка?
– И не столь уж краткая, – подтверждает Буллит,
– А надо ее посылать? – спрашивает Стеффенс. «Надо ли посылать шифровку в Париж? Господи,
а почему бы ее не послать? Ну конечно, Стеффенс уже изготовился к спору! Неисправимый Стеффенс! Вся его канитель с разгребателями грязи построена на жажде спора… Все–таки любопытно: наши современники разделены на таких, как Буллит и Стеффенс. Одни ищут ласкового прибрежья, другие рвутся в ненастное море. Однако что отвечает природе существа зрелого, для которого превыше всего несуетная дума, наблюдение, труд уединенный? Есть ли смысл в споре? То, что может сказать Буллиту Стеффенс, никто не скажет. Мысль Стеффенса может быть крамольной, но она никогда не бывает пустой».
– А почему бы и не послать? – подает голос Буллит. – В новости, если хотите, в самой ее природе, в том, что ей дано от рождения, дополнительный заряд, – стремительно парирует Стеффенс. – Какой смысл преждевременно расходовать эту силу, данную богом?
Ничего не скажешь, разумное предостережение. Не во всем верное, но резонное вполне. А почему оно не верно?
– Поймите, Стеффенс, события развиваются так быстро, что опоздание может быть роковым, – подает голос Буллит. – Мы уже должны вернуться, а мы в Гельсингфорсе… Если не можем быть в Париже, все, что нам следовало произнести, должна сказать наша депеша…
Видно, этот аргумент и для Стеффенса что–то значил.
– Боюсь, что после этой депеши нам уже в Париже будет делать нечего…
Буллит идет к окну. Прямо перед окном стеклянная крыша. Фотография или ателье художника? Солнце заходит у Буллита за спиной, и стеклянная крыша слепит. Ее огонь розоват. Эту розоватость восприняла рука Буллита, которую он упер в створку окна.
– Да простим ли мы себе, если не пошлем депешу? – спрашивает Буллит и мрачнеет. – Но тут есть одно условие…
– Простите, какое?
– Мы должны если не обогнать депешу, то явиться в Париж вслед за ней…
– Оседлать аэроплан? – смеется Стеффенс, ему чужд трагический тон Буллита.
– Больше того: сесть на холку пушечному ядру!
– Ну что ж, я готов… – откликается Стеффенс, смеясь.
– Итак, в Париж, взнуздав пушечное ядро? – спрашивает Буллит, спрашивает не только Стеффенса, но и себя – ему надо набраться храбрости и, пожалуй, воодушевления. Шутка ли, верхом на пушечном ядре. – Итак, вы готовы, Стеф?
– Я лечу, я уже лечу! – подтверждает Стеффенс.







