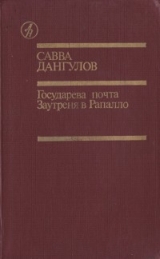
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
– Простите, но о чем это говорит?
– О многом, но прежде всего о его дебюте в Сан – Джорджо!.. Должен сказать, что это было внушительно… – Он задумался, остановив где–то над головой руку, не успевшую отбить очередной такт. – Италия признала в вашем министре чисто итальянскую черту: уступчивость по форме и неуступчивость по существу…
В конце аллеи возникли очертания автомобиля – очевидно, машина, которую итальянец отпустил некоторое время назад, вернулась за ним.
– Мне было бы приятно видеть тебя в школе. – Маццини обратил взгляд на Машу. – Если тебе удоб-
но, – уточнил он. – Я, разумеется, пригласил всех… – Он указал на молодых людей, стоящих в стороне.
Маша не отвечала – она была слишком горда, чтобы просить меня.
Молчание Маши становилось неловким, и я спросил ее:
– Как ты, Мария?
– Я… готова… – ответила она, не поднимая глаз.
– Ну что же… возвращайся не поздно – завтра у нас много работы, – мог только произнести я, иной ответ был бы сейчас бессмыслен.
Они ушли. Садовая дорожка была наклонна, и я долго видел всю группу. Маццини и Маша шли впереди, он говорил, а она внимала, подняв голову, – не очень–то она была кротка и тем более послушна в эту минуту. А чуть поотстав, шла вся гвардия Маццини, они точно взяли в полукольцо идущих впереди, как бы отсекая путь к отступлению, захочешь убежать – не убежишь… Странно сказать, но в том, как шли сейчас эти люди, спускаясь к морю, мне привиделся конвой и под стражей была моя дочь, при этом я должен был признаться, что сам ее отдал под стражу.
Они ушли, а я едва добрел до садовой скамьи на тяжелых железных лапах, да так и просидел до того дредвечернего часа, когда прохлада, идущая от моря, завладевает парком. Это была та минута, когда окружающее виделось мне в кривом свете сумерек. По крайней мере все казалось зыбким, все хотелось подвергнуть сомнению, все, что прежде представлялось верным, сейчас я склонен был предать анафеме… Вот тут, на этой скамье, брошенной в угол санта–маргерит–ского парка, в свете этих лиловых сумерек, будто обескровивших сам мир, мне привиделось, что я совершил нечто непоправимое. Я не в состоянии был исследовать истоки этой ошибки, но мне было ясно, что это была ошибка. Что–то я переоценил, во что–то поверил больше, чем должен был поверить. Я вернулся в отель и, не зажигая света, лег – сон помогает совладать с самой горькой минутой…
Она проникла в комнату неслышно, как мышь, но я проснулся – видно, дало себя знать что–то такое, что помогало опознать ее во тьме – вот эта привычка, не зажигая света, опуститься на стул и затаить дыхание. Она сидела во тьме не шелохнувшись, а я думал: она обратила против меня и эту тьму, заклиная меня не казнить – в ее безгласной тираде должно быть раскаяние.
– Ты… вернулась, Мария? – спросил я и подумал: этот мой вопрос можно было понять и расширительно.
– Вернулась, – произнесла она едва слышно и замкнулась в молчании, долгом. – А я, признаться, думала, что беспокойство не даст тебе сна, – наконец произнесла она почти неприязненно: нет, она не будет угрызаться, не похоже на нее.
– Как ты нашла их? – спросил я: мне хотелось разговора по существу. – Даже время не способно совладать с ними…
– Время? Куда ему… Кстати, он просил нас с тобой быть у него в пятницу…
– Ты находишь, что нам надо быть у него?
– А почему бы и не быть? – Как обычно, на вопрос она отвечала вопросом – легче спрашивать, чем отвечать.
– Рерберг был там, Мария? Она тихо встала, пошла к окну.
– Нет, не был, но мог быть…
– Он в Специи или в Генуе?
– В Генуе…
Вот так–то: Рерберг в Генуе. И вновь, как там, на садовой скамье, мне стало худо: что–то очень важное, что было сутью нашего житья–бытья, рушилось, продолжало рушиться.
– Значит, мог быть?
– Мог.
– И будет?
Она пододвинула стул к окну, села.
– А откуда мне знать?
Я заметил: она всего лишь отвечала на мои вопросы. Без того чтобы я ее спросил, она почти ничего не сказала. Почти.
Мудрено дождаться паузы в том водовороте дел, который увлек нас в Генуе, но, кажется, эта пауза, скоротечная, заявила о себе, и я спешу ею воспользоваться:
– Георгий Васильевич, скажите, пожалуйста: мотором того, что можно условно назвать… чичеринской образованностью, был Борис Николаевич?
– Конечно. – В его ответе слышится категоричность, не очень свойственная ему, – очевидно, его ответ лишен сомнений.
– Вы это чувствовали и на себе?
Он точно вспыхивает: для него в этом вопросе скрыт немалый смысл. Известно, что Борис Николаевич души не чаял в племяннике. Их отношения сложились еще в караульские годы молодого Чичерина. Надо отдать должное Борису Николаевичу: у него была сила провидения, если из всех молодых он отдал предпочтение Георгию Васильевичу. А то, что это было так, с достаточной точностью указывает завещание Бориса Николаевича, по которому караульские движимость и недвижимость, оцененные суммой крупной, оставлялись сыну брата. Чтобы принять такое решение, у старшего Чичерина должны были быть достаточные основания. Какие именно? Очевидно, вера в способности племянника. Но не только это. Надо знать Бориса Николаевича, чтобы оценить и иное: жажда знаний, столь характерная для юного Чичерина, его работоспособность, беззаветная, могли импонировать Борису Николаевичу, пожалуй, больше, чем что–либо иное. Вряд ли Борис Николаевич сделал бы свой выбор, если бы тут у него не было уверенности.
– На себе чувствовали?
По тому, с какой охотой, чуть самозабвенной, он откликается на мой вопрос, у него есть потребность обратить меня к своим думам, быть может сокровенным.
И вновь воспоминания века минувшего как бы накатываются на нас…
В большом караульском доме у семьи младшего брата были комнаты, которые она издавна считала своими. Борис Николаевич был рад семье брата – этому немало способствовала натура невестки, характер ее интересов, ее увлечения. Жоржине Егоровне были не чужды познания в дипломатической истории России, она любила музыку и живопись, сама хорошо рисовала. Она сумела сообщить свои пристрастия детям. В домашнем архиве родителей Жоржины Егоровны были документы, воссоздающие с завидной зримостью события, которые уже заволокла дымка времени.
В длинные зимние вечера раскрывались старые бювары, и на столе возникали бумаги, казалось напитанные запахами старины. Но бумаги, даже столь необычные, так бы и остались бумагами, если бы не рассказы Жоржины Егоровны – событие обретало черты события истинного. Дети придумали игру, поводом к которой явилась бумага, извлеченная матерью из старого бювара. Но это была не единственная страсть, которую мать сообщила детям, – в семье писали музыку, при этом и дети. Сохранились записи ранних опытов Георгия, самых ранних. В смысл названий надо еще проникнуть – они написаны по–старославянски: «Бла–жени вой», «Помышляю день страшный», «Придите и видите». И рядом: «Соч. 11 лет», «Соч. 12 лет», «Соч. 12 лет в 1884 г.». У всех трех опусов церковный зачин. Это тоже мать – она была религиозна.
Мать сумела удержать образ жизни семьи и после того, как Чичерины переехали в Петербург. Теперь тамбовское приволье казалось «миром провинциальных полей и тихих палестин» – иная жизнь обступила Юру. Караульские вечера с играми в трактаты были своеобразно продолжены в Петербурге бабушкой. Дочь известного дипломата, бывшего вместе с царем Александром на конгрессе в Вене, она любила поговорить с внуками – в ее рассказах знатная старина не утратила тепла, она, эта старина, была у бабушки чуть–чуть озорной и нравилась детям. Но мир близких, которых хотел знать Юра, простирался дальше дома бабушки, хотя остальные родственники были сановнее, а поэтому недоступнее. Позже он скажет, что именно в Петербурге он научился ненавидеть высокомерное, брезгливое, выхоленное барство. Его язык, не утратив точности, обретал образность, которая потом станет знаком и его дипломатической переписки. Он так и говорил: высокомерное, брезгливое, выхоленное барство. Слова были тем более верными, что были опалены огнем обиды.
Когда обида казалась особенно острой, ее гасила музыка. В увлечении музыкой, как во всем, что составляло круг истинных интересов Юры, была глубина. Он постигал теорию музыки, изучал гармонию, играл на флейте и рояле, при этом и по оркестровой партитуре. Рядом был брат Николай, разделявший это увлечение. В зимние вечера, когда окна залеплены мокрым петербургским снегом и река за окном от пористой шуги кажется темной, братья оставались дома. Моцарт входил в дом и был третьим: в нем была участливость человека близкого – вера в Моцарта возникла в эти дни.
Но Петербург всколыхнул и сознание. Позже он признается себе, что «самые неизгладимые воспоминания порождены старым Петербургом». Его мысли все больше была свойственна неповторимость. В русской истории были периоды, о которых ему хотелось иметь свое мнение. Например, царствование Петра I. Он спросил профессора Бестужева – Рюмина: что руководило поступками царя – осознанная идея о преобразовании или военная необходимость? Профессор ответил одним словом: «Академия». Чичерин стремился постичь смысл лаконичного ответа: коли академия, значит, осознанная идея – только в этом случае преобразовательная деятельность царя могла быть увенчана академией. У его мысли было не только своеобразие, но и все большая энергия: независимость он обретал в способности мыслить.
Юре было четырнадцать лет, когда он покинул Тамбов. Если не дружба, то приязнь связывала его с дядей. Но петербургское житье–бытье сделало свое, и письмо, которое послал в Караул двадцатидвухлетний Чичерин, могло встревожить Бориса Николаевича. Он говорил, что в нем вызывает протест жизнь изнеженного барчонка… «Я не могу жить так просто, без смысла», – заканчивалось письмо, и это уже можно было понимать как предзнаменование событий грозных.
Пришло приглашение от издателя старой генуэзской газеты «Секоло XIX» – «Век XIX»: неофициальная встреча делегатов с генуэзской прессой. Приглашение, разумеется, было адресовано и Чичерину, но он сказал: «Говорят, что там будет Ллойд – Джордж, – поезжайте с Красиным, у него тут особые интересы». Сказав об особых интересах, Чичерин, разумеется, имел в виду Лондон и лондонские дела Леонида Борисовича. Был подан «фиат», который наша римская миссия заблаговременно переправила в Санта – Маргериту, – ярко–черный лимузин на высоких рессорах, с двумя сиденьями, обращенными друг к другу так, что мы сидели с Красиным лицом к лицу. За рулем был наш шофер, и это освобождало нас от излишней предосторожности.
Я знал Красина по рассказам моего двоюродного брата Глеба, который строил под его началом электростанцию в бакинском Баилове. Брат говорил о Красине как о человеке жизнедеятельном и веселом, который даже жестокой конспирации кадровика–подпольщика сообщил черты своей веселой натуры. По рассказам брата, Красин, храня партийные бумаги на стройке, образовал систему форсунок, которые зажигались в тот самый момент, когда появлялась полиция, преграждая ей дорогу к тайникам, – все казалось и надежно и остроумно. Но это было лет двадцать назад, а сейчас передо мной был иной Красин: грустный, снисходительно улыбающийся, со следами усталости на серо–желтом лице.
– Как вам британский премьер? – спросил Леонид Борисович, он имел в виду вчерашнее выступление Ллойд Джорджа.
Я сказал, что мне он показался более терпимым, чем Барту, при этом не только потому, что так хочет его правительство, но и по той причине, что так может хотеть он, Ллойд Джордж.
Невзначай я встревожил моего собеседника – он приумолк, его красивые глаза стали внимательнее.
Красин вспомнил свою встречу с Ллойд Джорджем, в какой–то мере конфиденциальную, о которой сам британский премьер сказал Леониду Борисовичу: «Все, что вы услышите от меня, пусть останется между нами». Британского премьера можно было понять: предметом встречи была самая деликатная из проблем – долги. Красин, разумеется, догадывался: если тут могут быть у нас какие–то шансы, то они возникнут только в разговоре с Ллойд Джорджем. Но как добиться этого разговора, когда старый валлиец от него уходит? Помог случай: в Лондоне оказался Фритьоф Нансен. Нет, встретившись с Нансеном, Красин меньше всего думал о Ллойд Джордже. Для Леонида Борисовича уже сама встреча с Нансеном была великой радостью. В самом деле, кому на Руси не известен знаменитый норвежец и кто не питал к нему добрых чувств? Да был ли в нашей стране дом, самый скромный, где бы не знали нанееновской книги о путешествии на корабле «Фрам»? Красин знал, что в норвежской столице готово встать на вечную стоянку нансеновское судно, – он мысленно переносил себя на корабль, стоял в его сумеречных каютах, вдыхая запах просмоленного дерева. В сумерках, подсвеченных электрической лампочкой, отливают неярким блеском ложа ружей, их несколько – наверно, большее Нансен брал с собой, уходя навстречу вековому безмолвию, но безмолвие обретало голос, когда дорогу преграждал могучий хищник… Однажды такое единоборство произошло, оно было поистине не на жизнь, а на смерть – в ход пошли и ружье и нож… Вернувшись на судно, Нансен взял кусок ватмана и рукой, еще не окрепшей после всего, что случилось на льдине, графически воскресил схватку с белым зверем – рисунок лег под стекло. Вот она, каюта покорителя Севера: ружья и… кисть с флакончиком туши, а подле железный коробок с акварельными красками. И не только: финский нож в чехле из кожи нерпы и… скрипка. Когда льды охватывали корабль и он, намертво вросший в ледяную кольчугу, трещал и поскрипывал, Нансен брал скрипку. Как ни зыбки были звуки нансеновской скрипки, они связывали людей с тем дорогим и вечным, что ждало их на большой земле.
Что принес Нансен из ледяного далека? Русые брови, точно припущенные инеем, ярко–голубые глаза, на всю жизнь напитавшиеся полярной синью, сухие губы, как у моряков, в едва заметных шелушинках. Нансен говорил с Красиным о поездке в Москву и Петроград, которую он хотел предпринять, взяв на себя заботу об обмене военнопленными. Но разговор не замкнулся на этой теме – Нансену, пионеру и первооткрывателю новых земель, импонировало созидательное начало в деятельности Советской страны. Речь теперь шла о новых советских электростанциях в Шатуре и Кашире, а вместе с тем и о новых железных дорогах. Красин говорил о мире, который насущно необходим России, а в этой связи и об отношениях со всесильным бриттом – Леонид Борисович не скрыл от норвежца, что возлагает известные надежды на встречу с Ллойд Джорджем, но тот уходит от этой встречи. Красин не просил Нансена о содействии, но в том, как была произнесена последняя фраза, такая просьба несомненно присутствовала – по крайней мере так норвежский ученый понял русского, и понял правильно: на другой день Леониду Борисовичу позвонил секретарь старого валлийца и сказал, что последний готов принять русского, однако, как было сказано, «в неофициальной обстановке».
Совершенно очевидно, что английский премьер окружил предстоящую встречу такой тайной потому, что разговор должен был пойти о долгах – в отношениях между двумя странами не было темы более деликатной и по–своему конфиденциальной, чем эта. А старый валлиец действительно не хотел, чтобы сведения об этой встрече стали предметом гласности. Он боялся не столько своих коллег, хотя и среди них было немало таких, кто готов был предать валлийца анафеме, сколько французов – с их точки зрения, британский кабинет состоял едва ли не из красных, при этом самым красным был, разумеется, премьер.
«Французы не должны знать о нашей беседе, – предупредил Ллойд Джордж, увлекая Красина в дальний угол своего кабинета, где по июльской жаре была предусмотрительно поставлена этажерка на колесиках с фруктами и ледяной водой, как, впрочем, и с бутылкой старого бургундского, непочатой: видно, норвежец хорошо вчера и позавчера поработал – как помнит Красин старого валлийца по прежним временам, тот был тогда не столь гостеприимен. – Долги – это вопрос вопросов, – произнес хозяин и, откинув полу пиджака, воздел, как на молитве, два пальца, указательный и средний, осторожно опустив их в нижний кармашек жилета; только сейчас Красин увидел, что вельвет, из которого скроили жилет, был неистово зеленым. – Нет, мое правительство не настаивает на немедленном возвращении государственных долгов, гораздо важнее вернуть теперь долги частные. – Он все еще держал пальцы в жилетном кармане; вельвет был шелковистым, разделенным глубокими бороздками, заметно мохнатым. – О какой торговле может идти речь, если эти предприятия национализированы? Что же касается государственных долгов, то этот вопрос можно было бы решить на международной конференции, но есть немалое препятствие: Франция не пойдет на такую конференцию…»
Реплика Ллойд Джорджа не очень–то воодушевляла. Красин начал говорить – он ждал этой минуты, ждал и, быть может, готовился к ней. Он раскрыл портфель, и на стол легла книга. Не извлекая пальцев из жилетного кармана, хозяин наклонился. «Это… Кейнс?» – спросил старый валлиец. «Да, Кейнс, – был ответ Красина. – Его «Экономические последствия мира» «И что же?» – полюбопытствовал хозяин и провел слабой стариковской рукой по мохнатой поверхности жилета не против шерсти, а по шерсти, по шерсти, отчего ворс стал еще более шелковистым.
С умением чисто инженерным оперировать цифрами Красин воссоздал актив и пассив стран–союзниц: Штатов, Великобритании, Франции. Пассив Великобритании – восемьсот миллионов фунтов, Франции – миллиард. Иначе говоря, вся Европа в долгах. Однако кто их должен покрыть? Интерес представляет вот это мнение… – Красин положил перед Ллойд Джорджем раскрытую книгу. То, что Леонид Борисович сейчас читал, он читал наизусть, дав хозяину возможность проверять его по книге. «,Не ясно ли, что русский долг – это, в сущности, ростовщические проценты на то, что уже двадцать раз оплачено. Единственный выход – аннулировать долги. На этом, правда, потеряет Америка, но, быть может, она должна проявить благородство…» Нет, это сказал не я, это сказал ваш соотечественник Кейнс…
Ллойд Джордж вновь ощупал вельвет, и на стол выпал очешник – однако Кейнс немало заинтересовал британского премьера. Сейчас Ллойд Джордж стоял перед окном, безбоязненно подобрав полы пиджака, и Красин увидел, что дно бороздок, разделивших вельвет и сделавших бороздки глубокими, было выложено синей ниткой. Как все шестидесятилетние, валлиец был франтом – пожалуй, прежде он вряд ли счел бы этакий цвет соответствующим своему возрасту и положению, сейчас он даже похвалялся этим.
«Сумеем ли мы объяснить когда–либо миру, почему надо признавать права банкира, пострадавшего от национализации, и не признавать справедливого права рабочего человека, чьи отцы и братья сражены британскими пулеметами?..
Ллойд Джордж смолчал. Надо было еще понять это молчание.
Но тремя днями позже это молчание объяснилось: пришла нота Форейн офис, в которой черным по белому было написано, что Великобритания согласна на заключение договора. Дальше следовали условия. Они гласили, что стороны воздерживаются от враждебных действий. Они дают согласие на возвращение военнопленных на родину: англичан в Англию, русских в Россию. И главное: британское правительство соглашается не требовать немедленного решения вопроса о долгах.
Британское правительство настаивало на ответе в недельный срок. Красин ответил, что последнее бессмысленно, так как в эти сроки он лишен возможности связаться с Москвой. И тогда произошло беспрецедентное, нет, не только для англо–советских отношений, вряд ли такое знала история дипломатии вообще: англичане предоставили Красину миноносец, обещая доставить его из Англии в Ревель в два дня. Остальное известно: Красин воспользовался предложением англичан. Не прошло и недели после вручения Красину известной ноты, как радиотелеграммой из Москвы Советское цравительство дало согласие на заключение договора.
Но договор, который удалось заключить, видно, пошел дальше того, на что готово было консервативное большинство английского кабинета. И встреча Красина с британскими министрами показала это недвусмысленно, встреча, воспоминания о которой у Леонида Борисовича окрашены в весьма мрачные тона не только потому, что она происходила в сумеречных покоях Даунинг–стрит. Неяркое электричество на деревянных панелях, телефонные звонки за толстыми стенами, звон посуды – не иначе в личных апартаментах высокого клерка накрывают стол. И едва ли не лицом к лицу Ллойд Джордж в сединах и весь синклит его министров, которых ты воспринял до этого не столько лично, сколько по газетным фотографиям: Роберт Хорн, Бонар Лоу и, конечно, Керзон – не иначе надо идти по кругу, приветствуя их. И вот тут случилось такое, что способно открыть глаза… (Он на минуту прерывает рассказ, точно спрашивая, понимаешь ли ты, о чем пойдет речь.) Вслед за Ллойд Джорджем тебе протягивают руки Хорн и Лоу – в самих рукопожатиях мера радушия и мера корректности, мера… Однако что это такое? Руки лорда Керзона, стоящего у камина, отведены за спину и там точно скреплены намертво и во взгляде безразличие, какое способно выразить только лицо человеческое. Лорд Керзон отказывается подавать руку. «Керзон, будьте джентльменом!» – едва ли не выкрикнул Ллойд Джордж, и Керзон не без труда не извлек, а добыл руку из–за спины. Неизвестно, как бы повел себя лорд Керзон, если бы русская революция не отняла у него его уральских прибылей – возможно, ему бы удалось укротить характер… Одним словом, советский представитель, явившийся на Даунинг–стрит, был первым, в ком Керзон увидел виноватого. Керзон точно хотел сказать: была бы моя воля, я упек бы тебя в долговую тюрьму… (Красин засмеялся – воспоминания о строптивом Керзоне развеселили его: истинно твердолобый – ему нет дела до русской революции, главное – его гинеи!)
Но Керзон, на взгляд Леонида Борисовича, это не так хитро, а вот Ллойд Джордж – это похитрее!.. Истинно Керзон послал Ллойд Джорджа в Италию, чтобы тот убедил русских вернуть долги… Иначе говоря, существо генуэзской миссии британского премьера можно определить и так: если русских и удастся убедить в необходимости возвратить долги, то наибольшие шансы сделать это у Ллойд Джорджа. Короче: пока эта надежда возлагается на Ллойд Джорджа, он на коне. Однако воспоминания о Ллойд Джордже способны были воодушевить Леонида Борисовича или повергнуть в уныние. Так или иначе, а встреча с валлийцем не исключалась, и Красин готовил себя к ней.
Наша машина вошла в город и неширокой дорогой, медленно забирающей в гору, направилась к кирпичному особняку, освещенные окна которого были видны издали и как бы оповещали приглашенных, что съезд гостей начался. Мы вышли из машины и по движению ветра ощутили, что находимся едва ли не на вершине горы, вставшей над городом. Но теперь это устанавливалось и зрительно: глубоко внизу, отороченное прерывистой каймой прибрежных огней, лежало море. Оно было сизо–синим, точно свитым из стелющихся дымов.
Был тот чае, когда гости, появившись на пороге дворца, еще не обрели смелости, чтобы растечься по его ярко освещенным и холодным залам.
Долговязый господин с баками–запятыми, похожими на пейсы, встал из–за шахматного столика, за которым он вместе со своим молчаливым партнером дожидался гостей, и пошел навстречу русским. Он назвался главным администратором издательского дома «Секоло XIX» Джованни Сфорцей и увлек нас на второй этаж особняка, где залы первого этажа были воссозданы как бы в миниатюре.
– Да не считаете ли вы, господа, что первый день конференции явился всего лишь вступлением к главному? – спросил он с завидной уверенностью по–русски, однако не преминул в полной мере обнаружить мягкость и особую тональность одесского говора – не иначе Сфорца принадлежал к той ветви знатных генуэзцев.
хлеботорговцев–оптовиков и мукомолов, которые посылали своих чад учить русский в Одессу. – Вы согласны?
Видно, администратор не переоценивал данных, отпущенных его внешности природой. Он стянул живот ворсистым, похожим на цигейку жилетом, перепоясав его золотой цепью. Была бы воля администратора, он, пожалуй, воткнул бы в уши по серьге и подвесил бы к носу колечко, но он ограничился тем, что украсил средние пальцы рук перстнями с круглым и квадратным сердоликом.
– Вы полагаете, дебют не удался? – Красин скосил глаза на шахматный столик.
– Нет, почему же? – возразил Сфорца не без улыбки: ему были приятны шахматные ассоциации Красина, – Готов признать, что русские вышли из дебюта,, не худшим образом.
– Но дебют – это еще не партия? – возразил Красин: он подзадоривал итальянца.
– Да, дебют – это еще не вся партия, – подхватил Сфорца. – Пятнадцать минут назад я слышал от Ллойд Джорджа, что успех конференции придаст не столько Сан – Джорджо, сколько приватные встречи на генуэзских холмах…
– Ллойд Джорджа? Он здесь?
Теперь итальянец сказал почти все: британский премьер, находящийся сейчас за стеной, возможно, имел в виду русских гостей, желая договориться о приватной встрече где–то на генуэзских холмах, – в беседах, подобных той, какая сейчас происходила у нас с итальянцем, такого рода намеки почти всегда имеют точную обозначенную цель.
Итальянец был точен в своих предположениях: час спустя мы действительно беседовали с Ллойд Джорджем – с галереи, которая дримыкала к комнате в ковровых обоях, казалось, глазу стала доступна вся линия приморских городов. Море было недвижимо, оно лежало безгласным монолитом, ярко–черное, в разводах, которые иногда повторяли линию берега, хотя от прибрежной полосы отстояли далеко.
– Вот где довелось встретиться, мистер Рэд! – воскликнул валлиец, цриветствуя русского: как это однажды было в Лондоне, он переиначил фамилию русского на Рэд, сознательно сообщив ей иное звучание – не столько Красин, сколько красный в смысле багряный, червонный, даже кумачовый. – Мистер Рэд, – повторил он, подняв руку в этих своих симпатичных подушечках, и его ладонь, обращенная к морю, точно восприняла цвет и мерцание воды: – я видел вас вчера во дворце Сан – Джорджо и, признаться, был обрадован.
– На это были причины, господин премьер–министр?
Ллойд Джордж поднял глаза на русского – в разговоре возник если не огонь, то отблеск его: Ллойд Джордж считал, что все его приобретения были добыты в полемике, а это значит, что нынешний разговор был не бесперспективен.
– Да, конечно, – согласился англичанин, – у меня есть опыт диалога с вами, что для меня немало…
– Опыт диалога, который не дал результата? – усмехнулся Красин.
– Нет, почему же? – возразил валлиец, он любил этот оборот «нет, почему же?»: этот оборот давал возможность, не говоря по существу, создать видимость ответа.
– Я слушаю вас, господин премьер–министр. Ллойд Джордж разгладил скобы усов, правый ус
ладонью, левый тыльной стороной руки, он гладил ладонью усы, как цирюльник точит бритву, кладя на ремень лезвие то одной, то другой стороной.
– Мы работаем всего один день, – Ллойд Джордж угрожающе поднял указательный палец, – один! – Он продолжал держать палец над головой. – Но и этого дня достаточно, чтобы понять: если нам и суждено в полемике пролить кровь, разумнее это сделать за закрытой дверью… Короче: как бы русская делегация отнеслась к предложению, если бы она была приглашена на виллу «Альбертис»? Ваше мнение, мой дорогой мистер Рэд? – Он нехотя опустил демонстративно воздетый перст – у шутливой фразы «мой дорогой мистер Рэд» был свой смысл, Ллойд Джордж точно говорил: хотя ты и красный, но я, как видишь, не отвергаю диалога с тобой.
– Быть может, эту встречу могли бы предварить эксперты? – спросил Красин – он понимал, что согласие не должно быть категорическим.
– Встреча экспертов – гарантия? – В реакции Ллойд Джорджа была точность и запал молодости.
– В какой–то мере.
– Ну что ж, согласен, если согласен мистер… Чи–чи–че-рин, – произнес он и шлепнул рукой по усам, не забыв, как это было прежде, один «лемешок» усов пригладить ладонью, другой тыльной стороной руки; он так и сказал – «Чи–чи–че-рин», в том, как он произнес это имя, обнаруживалось: он не часто произносил его. – Внизу ждет нас генуэзская пресса – может, есть резон показаться им на глаза, просто показаться на глаза…
Мы спустились в холл первого этажа и истинно увязли в облаке дыма, густо–синем, попахивающем недорогой парфюмерией, – такое впечатление, что генуэзская пресса обвила себя синими дымами в противотифозных целях. Однако как ни плотна была синяя завеса, всевидящее корреспондентское око прошибло и ее: появление британца и русского было засечено безошибочно. В мгновенье возникло два кольца: в одно попали англичане, в другое русские.
– Господин Красин, не встревожила ли вас встреча в Сан – Джорджо, разрешите спросить в одночасье?.. – Да, вопрос прозвучал по–русски, при этом не обошлось без характерного «в одночасье».
Я бы покривил душой, если бы сказал, что узнал Игоря по голосу, нет, голос был иным, как, впрочем, и внешность, – передо мной стоял не Рерберг, а как бы его старший брат. И дело не в том, что его золотые усищи отросли и скорбно обвисли, именно скорбно, – иными стали его глаза. В голосе еще была сила молодости, быть может сила характера, в глазах эта сила была на ущербе. Не скрою, что мне стало жаль парня.
– В самом деле, не встревожила? – Рерберг смотрел на Красина, взгляд был просящим, в словах не было мольбы, во взгляде она была.
Красин бросил иронически: «Если и была тревога, то тревога действия, помогающая собрать силы и, пожалуй, собраться с силами, – все впереди»; Красин обронил эту свою ироническую фразу, и мы пошли к выходу – коли мы не разминулись с Ллойд Джорджем и Рербергом, что нам еще надо?
Но у выхода из кирпичной домины Рерберг возник вновь.
– Да не вы ли это, Николай Андреевич? – спросил он, преграждая мне дорогу.
– Здравствуй, Игорь, – сказал я.
Мы стояли сейчас с Рербергом лицом к лицу.
Он охватил грудь левой рукой и принялся гладить ее, эту руку, рукой правой – в самом жесте было не много храбрости.
– Я знаю, что в пятницу вы будете у Маццини, – произнес он, и его руки, поместившиеся на груди, затихли. – Могу я рассчитывать на встречу?..
Нет, мне определенно стало жаль его: ведь он же мог и не спрашивать меня об этом, а просто прийти.
– Приходи, Игорь… – мог только сказать я. – Приходи.
Бее время, пока наш автомобиль при выключенных моторах скатывался с одного из могучих генуэзских холмов, скатывался почти бесшумно, молчание владело и нами. Только много позже, когда справа глянуло море и дорога пошла по берегу, Красин обернулся, попытавшись оглядеть горы, что легли позади.







