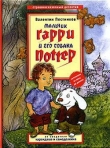Текст книги "Скиппи умирает"
Автор книги: Пол Мюррей
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 47 страниц)
В ту ночь Хэлли снится ее прежняя любовь; она просыпается – раскрасневшаяся, виноватая – за несколько часов до рассвета. “Говард?” – она нежно окликает его по имени, как будто он как-то мог узнать, что ей снилось. Но он не отзывается: рядом с ней его скованное сном, отвернутое в сторону тело поднимается и опускается, безмятежное и бессознательное, будто гигантский одноклеточный организм, который делит с ней постель.
Хэлли закрывает глаза, но уже не может уснуть, поэтому она заново прокручивает в голове свой сон: давний возлюбленный, залитая солнцем квартира на Малберри-стрит. Однако наяву все это теряет привлекательность; перебирая эти воспоминания, Хэлли чувствует себя вуайеристом, подглядывающим за чужой жизнью.
Когда она выходит из душа, солнце уже взошло. Ночью шел дождь, и сегодняшний день – трепетный и звонкий от красок – пропитан влагой.
– Доброе утро, доброе утро.
Говард влетает в комнату, уже в пиджаке, и, перед тем как открыть холодильник, целует ее в щеку. Он включает тостер, наливает себе кофе и садится за столик, уткнувшись в план урока. В течение последних двух недель он старается не глядеть на нее; она не может понять почему. Может быть, она сильно изменилась? Но ее лицо в зеркале такое же, как раньше.
– Ну, что сегодня будешь делать? – спрашивает он.
Она пожимает плечами:
– Писать о новинках техники. А ты?
– Учить ребят истории. – Вот теперь он поднимает голову, смотрит на нее и улыбается – плоской и фальшивой улыбкой, как в рекламе злаковых каш.
– Хотя знаешь что? Мне сегодня днем понадобится машина.
– Вот как?
– Да, мне нужно съездить на эту научную ярмарку.
– Там будет Фарли, подойди с ним поздоровайся.
– Хорошо. Но как быть с машиной? Заехать в школу в обеденное время и забрать ее?
– Да забирай ее прямо сейчас. Я могу и на автобусе проехаться.
– Ты уверен?
– Ну конечно, это куда разумнее, чем тащиться туда… Уф, знаешь, в таком случае я побежал… – Он смотрит на часы, бегло целует ее еще раз – и не успевает она и глазом моргнуть, как дверь за ним уже захлопывается.
Вот так они теперь и живут – словно два актера, исполняющие последние номера шоу, на которое уже не приходят зрители.
Утро проваливается в трясину электронных сообщений и пропущенных телефонных звонков, голосовых сообщений, обещающих новые сообщения, новые звонки. И все же перспектива куда-то выбраться днем немного скрашивает эту рутину. Хэлли постоянно слышит от разных людей, как же ей повезло: она работает дома! Не надо пользоваться транспортом! Не надо видеть перед собой начальника! Даже одеваться не надо! Она и сама раньше превозносила такую жизнь, привязанную к дому, или общество, полностью объединенное в Сеть, как его тогда называли, – как величайшее достижение “цифровой революции”. Ну вот и результат: она радуется возможности сходить на научную ярмарку для подростков как предлогу хотя бы накраситься. Берегись, как бы твои мечты не сбылись: такой девиз приходит ей в голову.
В Боллсбридже она паркует машину и, простившись с ярким дневным светом, попадает в сумрак выставочного помещения. Внутри темно, и все гудит от бешеной активности, будто в молодой муравьиной колонии. Куда ни глянь – всюду жужжат, искрятся, трещат, мигают таинственные новые приспособления; животные послушно нюхают электроды или крутят колеса; компьютеры что-то шифруют, дешифруют, конфигурируют. Однако, несмотря на всю эту суматоху, наука явно остается на втором плане для юных участников выставки: ходить между павильонами, ловя все эти перекрестные неприкрыто похотливые взгляды, – почти то же самое, что подвергаться насилию.
Хэлли обходит стенды и столы с экспонатами, разговаривает с их безмолвными или немногословными изобретателями, а мимо проходят их ровесники, явно пришедшие сюда по принуждению, с безнадежным видом узников, идущих на смерть: костлявые юнцы с нездоровым цветом лица в унылой школьной форме – мельтешащие, шлепающие друг друга, отпускающие одинаковые несмешные шуточки. Увидав вдалеке приятеля Говарда Фарли, она направляется к павильонам Сибрукского колледжа, где испытание системы выделения тепла на рептилиях сорвал геккон, ушедший в самоволку. Двое мальчишек ползают за павильоном, пытаясь отыскать его, держа в руках кусочки шоколадки “Марс”; двое других членов команды, похоже, больше озабочены тем, чтобы покрасоваться перед девчонками из Лорето, которые демонстрируют на другой стороне прохода ветряные мельницы.
– Я так и знал, что нужно взять запасного геккона. – Фарли, стоя рядом с Хэлли, качает головой. – Этот парень вряд ли вернется.
– А как вообще дела? Если не считать геккона?
– Все хорошо. Считаем дни до Рождества – наверное, как и все.
Она хочет спросить про Говарда – попытаться хоть таким способом узнать, что у него на уме и что ей делать; но она все не решается, а через несколько секунд приходят еще двое ребят, приставленных к другому сибрукскому экспонату (один смуглый, с устрашающей единственной бровью, второй – с бледным, желтоватым лицом, испещренным угрями, и на обоих лежит печать легкого физического уродства, характерного для большинства мальчиков-подростков, как будто их лица скопированы из какого-то каталога человеком, работающим в незнакомой среде), и сообщают Фарли, что кто-то пролил кока-колу на их ноутбук.
– “Кто-то”? – переспрашивает Фарли.
– Ну, это случайно вышло, – говорит желтолицый.
– О господи, – вздыхает Фарли. – Извини, Хэлли, – говорит он и идет за мальчишками.
Как странно, что Говард проводит целый день среди этих созданий, думает Хэлли. Она чувствует, что уже начисто лишилась энергии, побыв рядом с ними всего несколько минут.
Потом, садясь в машину – старенький “блуберд”, чудовище с целым букетом хронических болячек, и одновременно единственное значительное вложение средств, на которое Говард решился за всю жизнь до встречи с ней, – она притворяется сама перед собой, будто ей вовсе не грустно ехать домой. Она включает радио, напевает, не слушая болтовню чужих голосов, не препятствует своим мыслям медленно течь вспять – к тем славным временам неразумной роскоши, когда едва ли не каждый день возникали старт-апы, компании шли на публичное размещение акций и было полно всяческой прочей гламурной суеты – как говаривал ее тогдашний редактор, и Хэлли приходилось наряжаться на все презентации; к великим дням интернет-бума, когда разговоры велись только о будущем, рисовавшемся многим как своего рода приобщение, эпоха всеобщего сближения и нескончаемого блаженства, которая, как верили тогда, в конце двадцатого века, вот-вот наступит, а Хэлли проводила ночи в квартирке на Малберри-стрит…
На дорогу выскакивает собака, мелькнув золотистой шерстью, и немедленно скрывается из виду. Хэлли жмет на тормоза, но машина – с неожиданно тяжелым, почти промышленным звуком – уже налетает на нее. Открыв дверь, она выскакивает на улицу – это ееулица, здесь стоит еедом, и до конца дня, каким он должен был быть, оставалось всего несколько метров! – и одновременно женщина из дома напротив открывает свою дверь и бежит к ней по садовой дорожке.
– Она словно из-под земли выскочила, – бормочет Хэлли, – бросилась прямо под машину…
– Калитка в сад была открыта, – говорит женщина, но все ее внимание устремлено только на собаку: опустившись на колени, она гладит ее голову, окрасившуюся в розовый цвет.
Собака лежит на боку неподалеку от бампера машины; ее карие глаза улыбаются Хэлли, когда та садится на корточки рядом. Из-под головы вытекает на гравий струйка крови.
– Ах, Полли…
Сзади, за Хэлли, остановилась другая машина. Водитель, который не может проехать, выходит и становится рядом:
– Ох, бедняжка… Вы ее сбили?
– Она выскочила будто из-под земли, – беспомощно повторяет Хэлли.
– Бедная старушка. – Мужчина садится на корточки рядом с обеими женщинами.
Собака, польщенная таким вниманием, переводит взгляд с одного на другого и слабо бьет хвостом о землю.
– Ее нужно отвезти к ветеринару, – говорит мужчина.
Они принимаются обсуждать, как ее лучше поднять с асфальта: может быть, под нее как-то подложить простыню? Вдруг где-то неподалеку раздается пронзительный вопль. У ворот сада, замерев, стоит маленькая дочка женщины.
– Элис, ступай в дом, – приказывает ей мать.
– Полли! – кричит девочка.
– Ступай в дом, – повторяет мать, но девочка беспорядочно носится до дорожке, а потом выбегает на дорогу, уже вся в слезах:
– Полли! Полли!
Собака тяжело дышит и облизывается, словно старается успокоить девочку.
– Ш-ш, Элис… Элис…
Женщина привстает, а ее дочка принимается громко реветь – все лицо у нее делается ярко-красным, будто превратившись в один огромный рот.
– Ш-ш… – Женщина прижимает к себе голову девочки, а та обвивает ее юбку ручонками. – Ну пойдем… Не плачь так… – Женщина тихонько уводит ее к дому.
Хэлли рассеянно водит кончиками пальцев по грязному асфальту, пока мужчина звонит в общество защиты животных. Вскоре женщина снова выходит из дома, неся в руках простыню. Она дожидается, пока мужчина договорит по телефону, и они втроем поднимают собаку, переносят ее на обочину. Отвозить ее к ветеринару уже нет необходимости. Они просто накрывают животное простыней.
– Мне страшно жаль, что так вышло, – снова жалобно говорит Хэлли.
– Я давно хотела что-то сделать с этой калиткой, – рассеянно говорит женщина. – Наверное, это почтальон не запер ее за собой.
Мужчина касается ее локтя и говорит, что, увы, иногда такое случается. Хэлли очень хочется, чтобы он утешил и ее такими же словами, но он этого не делает. Все трое обмениваются номерами телефонов, как будто их драма еще ждет продолжения; Хэлли зачем-то сообщает женщине: “Я живу напротив вас”. Потом она садится в машину и проезжает несколько метров до собственных ворот. Оказавшись дома, она выглядывает из-за занавесок и видит, что женщина с полосатыми от слез щеками все еще продолжает стоять на углу, как бы неся стражу возле простыни, из-под которой аккуратно торчат собачьи лапы: две и еще две. Вторая охотничья собака лежит на траве в саду, смирно просунув морду сквозь решетку ограды; а к окну на верхнем этаже прильнула маленькая девочка, прижимая ладошки к стеклу и беззвучно рыдая.
Хэлли задергивает занавески и забивается в угол. На столе мигает телефон, отображая входящие звонки; на экране компьютера плавают туда-сюда цифровые рыбы. Впервые с тех пор, как Хэлли приехала в Ирландию, она вдруг отчетливо ощущает, что ей хочется вернуться на родину. У нее возникает такое чувство, что вся ее жизнь здесь вела к тому, чтобы превратить ее в убийцу чужой собаки.
Вскоре она слышит, как возвращается Говард: впереди него летит свист, будто взятый из какой-то тупой и дешевой кинокомедии. Хэлли сидит на кушетке и встречает мрачным взглядом его ничего не ведающую дружескую улыбку.
– Как прошла ярмарка? – спрашивает он.
– Что?
– Научная ярмарка?
Научная ярмарка! Геккон! Напоминание об этом далеком событии и ее собственном участии в нем – таком дурацком, таком, черт возьми, бесполезным! – только еще больше ее раздражает.
– Говард, ты почему не отдавал машину в починку?
– Что? – Говард, явно медленно соображая, ставит на пол портфель и снимает пальто.
– Да у тебя хреновы тормоза неисправны, вот что! Говард, я тебя тысячу раз просила запереть эту ржавую кучу дерьма в гараже, а ты никогда не слушаешь меня, дьявол раздери…
Говард всматривается в нее с осторожным удивлением, как будто она вдруг заговорила на незнакомом языке.
– Хорошо, если хочешь, я так и сделаю. А в чем дело? Что случилось?
Она рассказывает ему обо всем – о собаке, о женщине, о маленькой девочке.
– О господи… – Он ерошит ее волосы. – Мне очень жаль, Хэлли.
Но его сочувствие только злит ее еще больше. Почему это он должен выходить сухим из воды? Да, за рулем сидела она, но во всем остальном-то он виноват! Он виноват!
– А что мне делать с твоей жалостью? Господи, Говард, а если бы на дорогу выбежала не собака, а та маленькая девочка? Что бы ты тогда сказал? “Мне очень жаль”?
Опустив голову, Говард что-то раскаянно бормочет.
– Почему ты просто не делаешь что-то, а все время говоришь, что собираешься это сделать? Тебе нужно иногда думать, Говард, у тебя ведь есть обязанности, нельзя просто так витать в собственном маленьком мире, зарываться во все эти книжки и воображать, будто ты дерешься с нацистами…
– С немцами, – отвечает Говард, глядя в пол.
– Что?
– Нацисты были во Второй мировой. А я занимаюсь Первой.
– О боже! Да ты хоть слушаешь меня? Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что живешь здесь? Или я просто призрак, который отвлекает тебя от чтения? Ты должен быть внимательнее, Говард, ты должен более чутко относиться к людям, которые тебя окружают, которые зависят от тебя! Хоть тебе это и кажется скучным – но это же твоя жизнь!
Она выпаливает все это, не щадя его, яростно выплескивая на него все раздражение, накопившееся за несколько последних недель, и даже больше; Говард выслушивает ее молча, сгорбив плечи, закатив глаза так, как будто у него заболел живот. И чем больше она распекает его, тем больше он морщит лоб – то ли от смущения, то ли от сильной боли, – тем больше сутулится, пока наконец она вдруг не задумывается: а вдруг ему действительно плохо, вдруг его сейчас стошнит? Но тут он неожиданно садится на ручку кресла и говорит – тихо, будто сам себе:
– Я больше не могу так жить.
– Что? – переспрашивает Хэлли.
– Извини, мне очень жаль, – произносит Говард сдавленным голосом.
На каком-то подсознательном уровне она, пожалуй, догадывается о том, что сейчас произойдет, потому что у нее уже появляется такое чувство, будто ее ударили в живот; в легких словно не осталось больше воздуха, ей как будто не удается заново вдохнуть. Только не теперь, думает она, только не теперь! Но вот он уже взахлеб рассказывает ей о Роберте Грейвзе и Хэллоуине, о “Диких лошадях” и глобальном потеплении, о временной учительнице географии, которая пьет коктейли “космополитен”… Все это ливнем обрушивается на Хэлли, и не успевает она собрать по кусочкам смысл всех этих слов, как кровь уже отхлынула от ее лица, а в пальцах зазвенела пустота…
А какая-то ее часть все еще думает о феминизме! Эта ее часть думает обо всех этих женщинах, боровшихся за свои права, и со стыдом чувствует, что сейчас предает их, потому что, по мере того как разворачивается история его измены, она ощущает лишь, как распадается на части, буквально дробится на куски, ее как будто превратили в грязь и размазали по всему полу; он говорит ей, что сам не может понять, что чувствует, чего хочет, – а она хочет лишь, чтобы он заново собрал ее из этой грязи, вернул ей ее прежнюю; ей хочется плакать, просить и умолять, чтобы он взял назад все сказанные сейчас слова, обнял бы ее, сказал ей, что ничего не изменилось, что все в порядке. Но, разумеется, ничего этого не происходит.
К утру следующего дня после того инцидента в зале Девы Марии на виске у Скиппи расцвел устрашающий пурпурно-красный цветок. Иные синяки носишь гордо, как почетные знаки: если получил их, например, играя в регби, или бегая наперегонки по школьному двору, или даже свалившись откуда-то в пьяном виде, – тогда не упустишь случая всем продемонстрировать свои ушибы. Но увечье, нанесенное тебе кем-то, – совсем другое дело: это будто мигающая стрелка, указывающая на то, что тебя можно колотить, – и вскоре уже отбоя нет от мальчишек, желающих украсить тебя новыми синяками, словно они только и ждали, чтобы кто-нибудь подал им пример. И вот за одно это утро на Скиппи вываливается недельная порция дерьма от разных людей: кто-то захлопывает дверь у него перед носом, кто-то ставит ему подножку в коридоре – не говоря уж о трехстраничном сочинении на тему гэльского происхождения названия Сибрук,которое задала ему мисс Ни Риайн в наказание за то, что он опоздал на ее урок. К обеду Скиппи чувствует себя таким подавленным, что ему даже есть не хочется; когда все остальные устремляются в столовую, он тихонько уходит куда-то в полном одиночестве.
– Бедолага! – говорит Найелл. – Тяжко ему приходится.
– Этот удар по башке – лучшее, что могло с ним приключиться, – возражает Деннис, неся свой поднос к столу. – Может, хоть теперь он поймет, какая глупость вся эта его история с Девушкой с Фрисби. А нам больше не придется слушать эту дурацкую песенку Бетани.
– Кстати, эта песня мне страшно напоминает что-то, – говорит вдруг Джефф, наморщив лоб.
– Жалко все-таки его, – говорит Найелл. – Потому что он и вправду ее очень любит.
– Если что-то очень сильно полюбишь – значит, это что-то наверняка тебе не светит. – Деннис только что вернулся с репетиции квартета – это сорок пять минут, в течение которых Рупрехт отпускает саркастические замечания (“О, кажется, ты скоро поймешь, что это произведение написано в четырехдольном размере?”) и закатывает глаза, – а потому находится в особенно желчном настроении. – Так уж устроен этот глупый и дрянной мир.
– Да, пожалуй, – соглашается Найелл. – Хотя не понимаю, почему так.
– А может, это Бог так все утроил, чтобы испытать нас? – высказывает догадку Джефф.
– Разумеется, Джефф, а под конец всем нам выдадут леденцы, – фыркает Деннис.
– Ну, тут, конечно же, все дело в том, – это Рупрехт отрывается от своей тетрадки – ни дать ни взять ученый хомячок! – что Вселенная асимметрична.
– Что? И что это означает?
– Ну, здесь мы видим перед собой систему, которая перешла от высокой степени симметрии, которой она обладала непосредственно после Большого взрыва – там слились воедино десять измерений, вся материя и энергия, – до весьма низкой степени симметрии, которую мы наблюдаем сейчас, когда некоторые измерения схлопнулись, скрылись, разные физические силы оказались разобщены, и так далее. Очевидно, она все еще немножко симметрична, и есть же у нас законы физики, относительность, вращательная симметрия и тому подобное. Но если сравнить это с некоторыми другими возможными топологиями, которые допускает М-теория, наша Вселенная представляется крайне неуравновешенной. И те явления, которые наблюдаются на квантовом уровне, распространяются и на все прочие уровни.
Деннис откладывает в сторону вилку:
– Слушай, Минет, ты вообще о чем?
– О том же, что и ты. Фундаментальное строение Вселенной таково, что какие-то вещи постоянно выпадают из состояния равновесия. Бутерброд падает маслом вниз. Умные ученики получают пинки под зад вместо того, чтобы пользоваться уважением как будущие вожаки общества. Ты не можешь добиться того, к чему стремишься, зато кто-то другой, кому это даром не нужно, получает это сполна и без труда. Асимметрия! Она всюду – куда ни погляди. – Он поднимает свое толстое тело со скамейки и обводит взглядом столовую. – Вон, пожалуйста: Филип Килфезер. – Он показывает туда, где сидит, еле возвышаясь над своим пакетиком с соком, Филип Килфезер, самый маленький мальчик в Сибруке. – Чуть ли не с младенчества Филип Килфезер мечтал только о том, чтобы стать профессиональным баскетболистом. Но из-за недоразвитого гипофиза он никогда не вырастет выше метра двадцати.
Все смотрят на несчастного Филипа Килфезера, который каждый день проводит целые часы на баскетбольной площадке, носясь из одного конца в другой, а мяч свистит у него над головой в полной недосягаемости для него; а потом, в своей комнате, сплошь оклеенной плакатами с Мэджиком, Бердом, Майклом Джорданом и другими людьми, знаменитыми своим ростом, еще часами занимается упражнениями на растяжку, стараясь увеличить свой рост, невзирая ни на какие медицинские прогнозы. Мальчишки за столом понимающе перешептываются.
– Скиппи и эта девчонка, играющая в фрисби, – другой наглядный пример. Он в нее влюбляется. Она его целует. Казалось бы, все должно продолжаться в том же ключе, идя по пути наименьшего сопротивления. Но нет же! Она пропадает, а его избивает Карл. Это непостижимо.
– Ну да, или вот Каэтано, – вмешивается Джефф. – Он влюбился в ту девчонку в Бразилии – и потратил все свои сбережения на MP3-плеер для нее, потому что однажды они с ней вместе смотрели торговый канал по телевизору и она сказала, что мечтает о MP3-плеере. А практически на следующий же день после того, как он подарил ей плеер, она ушла к тому парню, который чинил канализацию в летнем доме ее родителей, хотя раньше она говорила Каэтано, что тот парень полный идиот, что у него волосатые руки, что от него воняет канализацией. А когда Каэтано попросил вернуть ему MP3-плеер, она отказалась.
– В случае с девушками асимметрия кажется особенно ярко выраженной, – замечает Рупрехт.
– Ого! Рупрехт, ты в самом деле думаешь, что в какой-нибудь другой вселенной девушки не настолько асимметричны?
– А почему бы и нет? – говорит Рупрехт и чопорно поправляет очки. – Как я уже говорил, явления, наблюдаемые на квантовом уровне, повторяются и на всех остальных ступенях.
– Отлично, Минет, – встревает Деннис. – Значит, Скиппи всего только и нужно что попасть в параллельную вселенную.
– Это теоретически возможно, – говорит Рупрехт.
– Ну, раз это теоретически возможно, то, может, ты придумаешь что-нибудь такое, что может ему помочь?
– Например?
– Ну, не знаю. Например, раздобыть луч смерти – чтобы убить им Карла.
– Насилие никогда ничего не решало, – лицемерно утверждает Рупрехт.
– Идиот! Именно насилие всегда все и решает – погляди-ка на всемирную историю. Какая бы ситуация ни возникала – люди вначале маются, маются, а потом прибегают к насилию. Только для этого вообще и держат ученых – чтобы делать насилие еще более мощным.
– Сдается мне, что твое понимание истории находится примерно на том же уровне, что и твои способности играть на фаготе, – сердито говорит Рупрехт.
– Да засунь его себе в задницу, Рупрехт, это понимание, и свою хромую теорию туда же заодно. – Деннис злобно ерзает на стуле. – Правда состоит в том, что Скиппи даже в параллельной вселенной был бы неудачником. Мы всебыли бы там неудачниками – даже в такой вселенной, где живут одни только крошечные муравьишки, похожие на девчонок.
В коридоре у доски объявлений собрались несколько пловцов.
– Эй, Джастер! Погляди-ка! – кричит Энтони Тейлор.
Тренер вывесил на доске список участников команды, которая поедет на сбор. Твое имя – второе от конца.
– Не могу поверить, что он тебя взял, – говорит Сидхарта Найленд. – Это все равно что кирпич хренов в воду бросать!
– Смотри не опозорь нас, Джастер, – говорит Дуэйн Грэан.
– На фига он вообще тебя выбрал? – Сидхарта качает головой. – Какой от тебя прок?
Поднявшись к себе, ты звонишь отцу – сообщить ему новость.
– Отлично, дружок! – трещит в трубке далекий голос отца.
– Как ты думаешь, вы сможете приехать?
– Надеюсь, спортсмен, очень на это надеюсь.
– Что говорит доктор Гульбенкян?
– Что он говорит?
– Разве он не приходил?
– Ну да – ох, знаешь, все то же самое. Ты ведь его знаешь. Послушай, Ди, тут сегодня опять сумасшедший день, я лучше пойду. Но ты отличную новость сообщил, просто отличную. Она нам поднимет настроение.
Ты отключаешь связь, подходишь к окну и смотришь в телескоп. С двери за тобой, наблюдающим, наблюдают мертвые пластмассовые глаза защитных очков.
Ты не понимаешь, почему тренер выбрал тебя. У тебя худшие показатели во всей команде. И дело не только в том, что ты медленнее всех. Теперь всегда, когда ты плывешь, появляется эта тайная приливная сила, как будто лично тебя поджидающая, и пока все остальные мальчишки несутся стройными рядами к финишу, пока тренер хлопает в ладоши и подгоняет их криками, эта сила пытается увести тебя прочь, оттянуть вниз, в какую-то неведомую подводную глубь, к темной двери, за которой находится комната, и когда ты приближаешься к ней, то почти узнаешь ее… и это как во сне, когда ты сознаешь, что он превратится в кошмар, тут-то ты сильно пугаешься, начинаешь бить и колотить ногами и руками, но от этого темные магниты только сильнее тянут тебя вниз, и вот уже вправду кажется, что ты сейчас утонешь, прямо на мелководье школьного бассейна, – и только в последнюю секунду ты отбиваешься, стряхиваешь с себя эту силу, выбираешься на поверхность и как можно быстрее несешься к стене – Эх, снова ты последний, Дэниел, – а за тобой она снова исчезает, тонет в невинной синеве, чтобы затаиться до следующего раза…
Ее там нет. Он оставляет телескоп, отступает в середину комнаты. На календаре горит красным крестик, которым помечен день сбора. Таблетки взывают к нему из ящика. Дыши глубоко, Скип. Помни, что сказал тренер. За это время может многое произойти. Например, в Сибрук поступает мальчик-водяной и вышибает тебя из команды. Ты застреваешь в лифте, ломаешь руку. Или еще что-нибудь похуже.
Ну, а пока – обратно, на уроки, к бескрайним пустыням грамматики, правил и фактов, к далекой жизни, для которой все это служит подготовкой и на которую можно взглянуть сквозь окошки текстов на чтение-понимание, деловых образцов и пополняющих словарь ролевых игр…
– Доброе утро, я хотел бы купить новый велосипед.
– Разумеется, сэр. Какой именно велосипед вы ищете? Для повседневного использования?
– Он нужен мне, чтобы ездить на работу. Я ищу что-нибудь прочное, портативное и не слишком дорогое. Можете показать мне ваш ассортимент?
…которые кажутся лишь чуточку менее безрадостными, чем сами упражнения, да к тому же дурное влияние синяка все еще вершит свою злую магию, будто антиамулет, талисман, приносящий неудачу, который невозможно снять…
– О, мистер Джастер…
Стоя в дверях, он зовет тебя в уже опустевший класс. Маячит там, как паук в невидимой паутине.
– Вы глубоко о чем-то задумались, мистер Джастер…
– М-м, да, отец.
Он продолжает разговаривать с тобой:
– Вас что-то тревожит, сын мой?
– Нет, отец. – Ты пытаешься не уклоняться от его пламенного взгляда.
– Но вы, я вижу, побывали в боях.
– Я… да, я врезался в дверь.
– М-м-м. – Пальцы, которые тянутся к тебе и прикасаются к твоему размягченному виску, холодные, влажные и, что странно, зернистые, будто сейчас Пепельная среда и будто он втирает пепел тебе в кожу. – Это было неразумно, правда?
– Правда, отец.
– Ну и что нам с вами делать, мистер Джастер?
– Не знаю, отец.
– Вам не под силу справиться даже с обыкновенной дверью. – Священник делает паузу, и по его телу, похожему на нож, пробегает вздох. – Что ж, мальчишки остаются мальчишками, так это надо понимать. – Черные глаза сверкают. – Верно я говорю, мистер Джастер?
– Э… да…
– Верно, – выдыхает отец Грин чуть слышно, будто говорит с самим собой, – верно…
И удаляется, будто дым, который засосало в трубу; и ты бежишь прочь, вытирая то место, где тебя коснулись его пальцы, эти кости, которые, казалось, проникли тебе прямо в душу сквозь кожу…