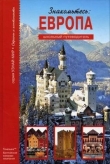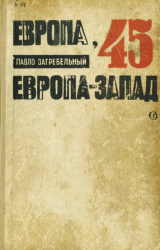
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 43 страниц)
– Сегодня утром я целый день был ребенком, а теперь опять старик,– сказал он.– Если же сяду за ваш столик, то еще раз вдохну молодость. Вы позволите?
Клодина кивнула головой. Она не привыкла отказывать старшим. К тому же этот синьор был такой торжественный и говорил столь непонятно, что она просто растерялась. Пиппо смотрел на старика с любопытством.
Что он им скажет? Кто он? Почему выбрал именно эту дешевенькую тратторию? Одет он был довольно пристойно и, очевидно, мог перекусить где-нибудь в более богатых кварталах города.
Старик положил свою шляпу на свободный стул, разгладил пожелтевшую от времени манишку, откашлялся и сказал, ни к кому не обращаясь:
– Мысль проходит, как солнце сквозь стекло. Это – стихи. Чьи – не знаете? Я так и думал. Молодежь любит стихи, но мало знает их и совсем не интересуется их авторами. Хотите, я вас чуточку развлеку?
– А нам и так весело,– сказала Клодина.
– О, никогда не бывает так весело, чтобы не хотелось еще больше веселиться! – старик помахал пальцем.– Ой, что это у вас?
Он наклонился под столик, там неожиданно залаяла какая-то маленькая собачонка. Он хотел ее поймать, а собачонка не давалась и сердито лаяла. Старик совсем соскользнул со стула и стал ползать по полу, стараясь схватить собачонку. Клодина тоже наклонилась под столик, чтобы помочь старику, но и она не могла поймать песика, даже не могла увидеть его, а он лаял откуда-то из-под стола, то выскакивая, то снова прячась под ним. Пиппо, смеясь, тоже полез под стол, они ползали по полу теперь уже втроем, но собачка не давалась в руки. Уже смеялась вся траттория. Уже нашлось несколько новых помощников, чтобы поймать эту неуловимую собачонку.
Но тут старик, давясь смехом, вылез из-под стола, и собачонка умолкла. Клодина тоже поднялась, и Пиппо – вслед за ней. Отряхивались и те, кто им помогал.
– Покажите нам этого проклятого бесенка,– попросила Клодина, – вы таки его поймали.
– Ах, мы с вами еще незнакомы,– сказал старик.– Меня зовут дон Гайярдоне. А вас?
– Меня – Клодина. А моего товарища – Пиппо.
– Пиппо и Клодина – это прекрасно,– сказал дон Гайярдоне. И неожиданно залаял прямо в лицо девушке, залаял точно так, как та собачонка: – Гав-гав!
Траттория залилась хохотом. Не часто увидишь такого забавного старика. Мало того, что он лает по-собачьи,– он еще обвел вокруг пальца стольких! А особенно эту красивую девушку, которая сидит с ним за одним столиком.
Пиппо не знал, сердиться ли ему на дона Гайярдоне или смеяться. Клодина засмеялась, засмеялся и он. У него в душе не было сегодня зла ни на кого. И на этого старого чудака он тоже не станет сердиться. Даже интересно встретиться с таким. Очевидно, он расскажет что-нибудь интересное. Такие старики всегда знают целый ворох всяких небылиц и историй. Флавио, суровый Флавио, учил Пиппо умению молчать, когда нужно, умению использовать человеческую болтливость. Сядь и молчи.
Дон Гайярдоне заправил за лацкан пиджака салфетку, тщательно перемешал с томатом спагетти, которые принес ему кельнер, хитро и лукаво взглянул на Пиппо.
– Жить – означает зарабатывать,– поучительно заметил он.– Вы еще не знаете этой простой истины.
– Я знаю другую,– сказал Пиппо,– чтобы зарабатывать, надо жить.
– Узнаю солдата. Ах, у молодого синьора партизанская медаль? Тогда – завидую! Потому что не имел за свою жизнь ни одной медали и даже не сделал ни одного выстрела.
– Счастье разве в том, чтобы стрелять? – удивилась Клодина. Старик ей уже начинал надоедать. Так хорошо было положить руку на руку Пиппо, а тут пришел этот дед и ведет нудные выспренние разговоры. Она посмотрела на Пиппо. Почему он не протянет к ней руки? Так было бы лучше. Боится старика? Пускай себе болтает! Клодина не вытерпела и протянула через стол руку к Пиппо. Он вначале ее не заметил. Такой странный этот Пиппо! Не заметил ее протянутой руки! Но потом все-таки увидел и торопливо накрыл ее маленькую кисть своей широкой ладонью. Все было как до прихода дона Гайярдоне. Только немного иначе – их руки поменялись местами, но это не имело значения.
Однако с Пиппо сегодня творились странные вещи. Ехал к маме, а застрял на карнавале. Искал среди толпы мать или хотя бы женщину с таким же волосами, как у матери, а встретил похожую на мальчика Клодину. Наслаждался одиночеством с девушкой – и теперь забыл о ней, увидя старого Гайярдоне, так как вспомнил свою недавно приобретенную репортерскую профессию. Никогда так не раздваивалась его душа, как сегодня. Быть может, это щедрость? Или попросту стремление все охватить, все понять, обнять весь мир? Он держал руку на руке Клодины, а сам слушал дона Гайярдоне.
Тот смаковал вино, цедил его маленькими глотками, разглядывал бокал против света.
– Я люблю разговаривать с людьми,– продолжал старик.– Люблю слушать, а еще больше люблю говорить сам. Почему? Профессия такая! Вы видели, как я вас давеча обманул? А ведь это еще не все, далеко не все. Я умею лаять, ворчать, визжать, выть, как дикая собака динго, как африканский каракал, как сибирский волк. Я владею голосами бульдога, пуделя, таксы, овчарки, водолаза, добермана. Не верите? Пожалуйста!
Он залаял таким страшным басовитым голосом, что все в траттории вздрогнули.
– Собачий лай – моя профессия,– продолжал старик, позабыв о спагетти, а только смачивая сухие губы вином.– Я лаю всю свою жизнь. В театре, по радио, в студии звукозаписи, в кино. Я лаю с пластинки, с магнитофонных лент, с экранов.
Лаю, чтобы заработать себе на жизнь. А после этого люблю живую речь слушать. Люблю поэзию, длинные, певучие, велеречивые стихи, даже во сне читаю стихи и... до смерти могу заговорить каждого, кого встречу. Ибо знаю, что скоро кончится речь и начнется лай. Вы не боитесь, что я вас заговорю? Не обращайте внимания на мои слова. Пусть они послужат как бы аккомпанементом вашим чувствам. Как только я вошел в эту тратторию и увидел вас, я решил: вот пара, которой не помешает моя болтовня. Наоборот, поможет забыть обо всем, отгородиться от всего света. Ведь вы любите друг друга, не правда ли?
Пиппо покраснел. Старик выразил то, что не могло найти слов в его сердце, неопределенное желание вылилось в такое простое слово «любить», и этим словом исчерпались все его чувства к Клодине. Он покраснел от неожиданности и оттого, что посторонний человек заглянул в его сердце и увидел там то, чего он сам еще не видел, боялся увидеть...
– А если и любим, то что? – не растерялась Клодина, и ее рука шевельнулась под ладонью Пиппо.
– Вот и прекрасно! – воскликнул дон Гайярдоне.– Если б у меня была дочь, я бы с радостью отдал ее руку такому славному партизану, как Пиппо. Но мадонне не угодно было осчастливить меня дочерью, не дала она мне и счастья... Да и кому нужен человек, пролаявший всю жизнь?
Но я всегда мечтал о счастье и не имел его. Знал лучших поэтов, стремился к красоте жизни, политике и... только лаял. Лаял при королеве и Муссолини, лаю при американцах, буду лаять при всех партиях и всех правительствах. Люди любят лай – это сближает их с природой, дает ощущение единения с ней, того самого чувства единения, которое они давно потеряли, но о котором вечно бредят. Но, как сказал Овидий, хотеть мало, надо добиваться...
Пиппо не слыхал слов дона Гайярдоне. Он смотрел на Клодину. Она не казалась красивой. Такая, как все итальянские девушки. Как любая из них. И он любил ее за это. Она похожа на мальчишку. Худощавая, невысокая, с острыми плечами. И он любил ее за это. Когда смотрел на нее, ему казалось, что на нее смотрят все. И он любил ее за это. Она не обещает ничего, она просто манит. И он любил ее за это.
– Клодина,– сказал он, наклоняясь к ней,– Клодина, я люблю тебя.
Дон Гайярдоне цитировал чьи-то стихи. Длинные и многословные стихи, которые были лишены для этих юных людей всякого смысла. Зачем длинные стихи, если достаточно одного слова?
– И я тебя люблю,– прошептала она.
Пиппо сжал ей руку.
– Знаешь что? – вдруг сказала она.– Давай пойдем к моей матери.
– Так сразу и пойдем? – удивился он, вспомнив, что ехал к своей маме и не добрался до нее.
– Так сразу и пойдем. Я не отпущу тебя!
Он хотел сказать, что тоже никуда не отпустит ее от себя, но промолчал. Генуя тонула сегодня в радости и забавах, а он утонул в наибольшей радости своей жизни.
– Чего же ты молчишь? – дернула его за руку Клодина.
– Идем,– сказал он.
– Сейчас же!
– Ладно.
– Вы меня оставляете? – жалобно спросил дон Гайярдоне.– Неужели вам не нужен свидетель?
– Какой свидетель? – удивилась Клодина.
– О, свидетель перед богом и людьми! Чтобы чистота не была фальшью, а правда – грехом. Вы идете к своей матери, а от нее – к священнику.
– Откуда вы взяли, что мы пойдем к священнику?
– Потому что вы поженитесь.
– Но мы этого не говорили!
– Этого и не нужно говорить. Достаточно того, что вы идете к своей матери. Или, может, вы не хотите взять свидетелем дона Гайярдоне? Боитесь его болтливости? Но если хочешь, чтобы курица снесла яйцо, терпи ее кудахтанье.
Клодина посмотрела на Пиппо: что говорит этот странный старик? Неужели это все правда?
Пиппо усмехнулся и прикрыл веками глаза. Правда.
И ВЫРОС Я НА ЧУЖБИНЕ
– Ты где-нибудь видел такие ноги?
– Только в кино.
– Ну так насмотрись наяву.
– Смотрю.
– Ну и что?
– Ну и ничего.
– Как это ничего? Может быть, ты скажешь, что у меня ноги некрасивые?
– Красивые.
– Может быть, скажешь – не прямые?
– Прямые.
– Видишь, какие они, когда я без юбки?
– Вижу, если это не видение.
– Я тебе покажу, видение. А теперь – в юбке.
– Смотрю.
– Что ты видишь?
– Юбку.
– А ноги?
– И ноги.
– Но теперь они кривые?
– Н-ну...
– Признавайся: кривые?
– Слегка.
– Не слегка, а очень. Совсем кривые!
– Ну хорошо. Совсем кривые.
– Так что ж это такое, хотела бы я знать?
– Очень просто: кривые ноги. Немного.
– Не повторяй мне этих ужасных слов. Скажи лучше – кто виноват?
– М-м... не знаю.
– А если подумать?
– Н-ну... очевидно... юбка.
– Которую ты мне подарил!
– Которую я тебе подарил.
– Так что же мне теперь делать с ней?
– Очевидно, ходить без юбки.
Оба расхохотались.
Юджин и Тильда были беспечно счастливы.
На кухонном столике Тильде бросилась в глаза красная мельничка для кофе. Она усмехнулась, вспомнив, как мучила ее эта мельничка всего несколько дней назад. Боже правый, какие только мелочи могут портить человеку жизнь! Мельничка для кофе, красная мельничка для кофе, примитивная, маленькая машинка...
– Мы выбросим эту мельничку, когда поедем в Штаты? – спросила она.
– Эту? – Юджин потрогал машинку.– Конечно, выбросим. В Америке мы купим лучшую. В Америке есть все и все лучше. Зачем нам эта мельничка?
– Я тоже так подумала: зачем нам эта мельничка?
– Вообще ничего не нужно! Я сброшу с себя мундир и натяну дикий мех. Буду троглодитом, пещерным человеком. Схвачу тебя, как самый лакомый кусок, и потащу в свою пещеру.
Хотя нет! Я оказал большую услугу Штатам. Меня наградят наивысшим американским орденом, меня пригласит президент в Белый дом и будет поить шампанским. Мы вдвоем поедем в Белый дом пить шампанское.
Нет! Провались оно, это шампанское!
Мы поедем с тобой в горы Швейцарии или Тироль. В снега. Там есть цветок, который растет под снегом. Растапливает своим дыханием снег, делает в нем ледяной гротик и расцветает. Представляешь – цветок под ледяным колпачком!
– Это, наверное, эдельвейс, любимый цветок фюрера?
– Сольданелла! Сольданелла, а не эдельвейс, черт бы его побрал, твоего фюрера!
– Он такой же мой, как твой. Это я страдала от гитлеровцев, а не ты, и не смей, пожалуйста, говорить всякую чушь!
– Ты уже рассердилась?
– Как же не сердиться, когда ты говоришь такие вещи! Ты ведь обещал мне...
Он снова обнял ее, крепко сжал, не дал договорить.
– Молчи! Все, что обещал,– выполню. Я никогда не представлял, что женщина может быть такой сладостной, как ты, Гильдхен!
«Финк!—подумала она с ужасом.– Финк говорил так же! Неужели все возвращается? Неужели никогда нельзя убежать от того, что было?»
– Есть прекрасное индийское слово – скво. Это означает: женщина. Ты будешь моею скво! Согласна? Зачем придуманы мужчины и женщины? Чтобы мужчины были муж-чинами, а женщины – скво!
– У тебя ведь была невеста в Штатах,– сказала она вслух.– Не могло не быть у тебя невесты!
– Невеста? Ха! – Он еще крепче сжал Тильду.
Невеста в Штатах! Почему он должен жениться на какой-то там Сюзи или Мерлин? Только потому, что фермы их родителей стоят по соседству с фермой его отца? И, вероятно, так оно и было бы, не будь этой войны да еще если б американские ребята не рассыпались по всему миру. Теперь конец! И Сюзи, и Мерлин, и всему конец! Хвала богу! Американцы могут связать свою судьбу с кем пожелают и могут жить где захотят. Пока сидели дома, видели только своих девушек и свою Америку – довольствовались этим. А нынче увидели широкий свет – и уже Америки им мало. Мало американских девушек, и ему, Юджину Вернеру, тоже, оказывается, мало.
– Мы обвенчаемся здесь! – воскликнул он.– Не ехать же для этого в Штаты. Поженимся здесь, а домой поедем уже как муж и жена. Согласна?
Она перевела взгляд на стол и увидела мельничку для кофе.
– А ребенок?
– Заберем с собой.
– А что скажут у тебя дома?
– А ничего не скажут.
– И кроме того... я должна... видишь ли, тут не обойдется без этого... нужно поехать к господину Скибе...
– К Скибе? А чего ж, поедем. Я еще должен извиниться, что не смог быть на открытии памятника.
– Но как он посмотрит на это?
– На что?
– Ну, на наш брак?
– А как он должен смотреть? Разве он не желает мне счастья? Да и тебе тоже?
– А ребенок?
– Едем, вот и все! Не терплю откладывать!
– Но ведь Дори спит.
– Бери спящую. Давай я возьму!
Он бросился в спальню, схватил ребенка, схватил так, что Тильда испугалась, как бы он не разбудил девочку, но та спала крепким сном.
Скиба был не один. В той самой комнатке, где еще совсем недавно так неожиданно сошлись Михаил, Юджин и покойный пан Дулькевич, сидели Вильгельм и женщина.
– Знакомьтесь,– сказал Михаил,– это Маргарита, жена Вильгельма.
«Ничего кусочек оторвал,– подумал Юджин.– Вот тебе и узник фашизма!» – Он засмеялся своим мыслям, хлопнул Скибу по плечу и воскликнул:
– Ты не можешь жить без интернационала! Всегда вокруг тебя новые люди, новые племена! И неизменно ты в центре! Как член верховного суда, к которому все апеллируют.
– Такова уж моя судьба,– усмехнулся Михаил.– Вспомните, как было до войны. Моя страна была одинокая, одна во всем мире. Стояла, как скала, а вокруг – океан капитализма. Теперь моя страна уже не одна. Появились новые социалистические страны в Европе. И я, выходит, не один. Веселее на свете жить. Верно ведь?
– Верно, черт побери! Между прочим, я приехал извиниться перед тобой за то, что не был на открытии памятника. Не мог. Служба!
– Понимаю.
– Мы с Тильдой повезем цветы на могилу Дулькевича. Хороший был человек! Веселый и задорный! Я полюбил его, как отца. Ну, да что теперь толковать! А мы с Тильдой... знаешь... решили пожениться. Благословишь?
Михаил усмехнулся:
– Если и это входит в мои функции, то благословляю.
– Гильдхен! Подходи скорее, пока наш лейтенант не раздумал.
Тильда, счастливо смеясь, передала ребенка Маргарите, стала рядом с Юджином, покорно склонила голову. Скиба подошел к ним, шутя насупил брови, помахал в воздухе руками, сказал:
– Живите и плодитесь!
– О-го-го! – засмеялся Юджин.– Америка богата. Выкормим всех: и маленькую Дорис, и новых, если будут...
Михаилу вспомнилось: красное солнце, красное пламя от гречишной соломы, песня «Червонi лави, червонi лави...» Чужбина. Вырастет эта девочка, не знавшая ни отца, ни матери, ни родной земли, вырастет и вдруг узнает, что вокруг все чужое, что земля чужая и люди чужие... И будет тогда пустота у нее в душе, пустота, которую ничем не восполнишь. Как бы отвечая на слова Юджина и на свои мысли одновременно, он продекламировал стихотворение Шевченко:
I виpic я на чужині,
I cивiю в чужому кpaї:
Та одинокому мені
Здається – кращого немає
Hiчого в бога, як Дніпро
Та наша славная країна...
Никто ничего не понял. Только женщины, должно быть, уловили грусть в строках стихотворения, но Тильда была слишком увлечена своей радостью, чтобы придать какое– нибудь значение этой грусти, а Маргарита не решалась вмешиваться в разговор, чувствуя себя немного чужой среди этих людей, давно знакомых, связанных меж собой тяжкими испытаниями военных лет.
– И Дори заберете? – спросил Михаил.
– А как же! Прокормим и ее! Америка богата.
– Что ж, воевать за нее, пожалуй, не буду.
– А с нами воевать теперь трудно! Невозможно даже! – Юджин расхохотался.– Обладаем такой бомбищей...
– Дело не в бомбе. То, что имеют одни, имеют, вероятно, и другие. А нет – будут иметь. От человеческого ума трудно что-либо скрыть.
– Это правильно. «Фау» уж как прятали, а мы нашли! И пожалуйте! – всех субчиков себе в Штаты!
Юджин ляпнул себя по губам. Михаил засмеялся:
– Проговорился! Ну да что уж... Я и сам догадывался. Догадывался еще тогда, когда ты ухватился за Либиха, как черт за грешную душу. Смотри только, чтоб не стал помощником тем, кто за нашими спинами, пока мы кончали эту войну, готовили уже новую.
– Мне теперь никакая война не нужна.
– Никому она не нужна. Но надо быть бдительным, надо следить, чтобы не вспыхнула снова! Ой, как нужна бдительность!
– Будем бдительны!
– Радостно мне слышать твои слова, Юджин! Вспомни, как мало нас осталось из «Сталинграда». Гибнем даже после войны, гибнем даже теперь. Нужно держаться крепко. Будешь держаться?
– Буду.
– Руку!
– На!
– Обнимемся?
– Что за вопрос! И поцелуемся!
Они обнялись и поцеловались, прижались щеками друг к другу. Гильда почувствовала, что ей хочется плакать. Ну зачем? Ведь она теперь была счастлива. Счастливее Вильгельма и Маргариты.
И тогда вдруг заметила около себя Маргариту. Та стояла с ребенком на руках. Гильда протянула руки, чтобы взять Дори, но Маргарита повела плечом, уклоняясь от Тильдиных рук, и тихонько сказала:
– Оставьте ее нам.
– Что-о? – Гильда отступила от неожиданности.
– Оставьте ее нам с Вильгельмом. Вы же все равно уезжаете в Америку, она вам будет только обузой. Оставьте ее нам. Пусть она растет здесь, на своей земле. Оставьте.
Она обращалась только к Тильде.
– Оставьте.
– Да, но...
– Ну, пожалуйста, оставьте...
Она заладила одно лишь это слово «оставьте». Лучше б она сыпала словами как градом, старалась бы переубедить Гильду, апеллировала бы к ее чувствам, совести, рассудительности...
– Оставьте...
Это звучало, как «отдайте». Отдай чужое, то, что тебе и не принадлежит, на что ты не имеешь никакого права, отдай, потому что ты эгоистка, ты думаешь лишь о себе, тебе нельзя доверить ничьей судьбы, а тем более судьбу такой крошки...
– Оставьте...
От этого слова не было спасения. Гильда вдруг осознала причину того, отчего ей захотелось плакать. Слезы были вызваны предчувствием разлуки. Разлука со всем: с родной землей, с людьми, которых знала, с этой малюткой, которая напоминала о том, что и у нее, Тильды, некогда было что-то светлое в душе. Разлуки, разлуки, разлуки... И Михаил с Юджином расстаются, и она с маленькой Дори – тоже.
– Оставьте....
Гильда ничего не ответила. Стояла и плакала.
ВСКОРМЛЕННЫЕ ВОЛЧЬИМ МОЛОКОМ
Дон Гайярдоне не давал никому и рта раскрыть. Роли посаженого отца на обручении Клодины и Пиппо ему явно не хватало. Хотел быть безраздельным владыкой этого вечера. Быть может, впервые в жизни посчастливилось ему стать в центре внимания присутствующих, впервые в жизни был он не униженным, никчемным человеком-собакой, а истым доном Гайярдоне, влюбленным в поэзию, в слово, в красоту человеческого языка. Рассуждения о политике сменялись афоризмами о женской красоте, цитаты из Петрарки и Данте предваряли воспоминания о молодости дона Гайярдоне, и у него была когда-то молодость,– пышные тосты кончались печальными вздохами, ибо дон Гайярдоне был уже стар, не мог вернуть потерянного, не мог начать жизнь сызнова.
– Единственная моя надежда,– говорил дон Гайярдоне,– прожить столько, сколько прожили Платон и Тициан. Они умерли каждый в день своего рождения, имея по сто лет от роду. Я должен прожить сто лет, чтобы увидеть, к чему придет наш сумасшедший мир. О, вы не слушаете меня! Вы смотрите один на другого, и мой голос не долетает до вашего слуха. Пейте, дети, вино! Сегодня вас угощает дон Гайярдоне, ваш случайно найденный посаженый отец, которого завтра вы потеряете и забудете. Я угощаю!
И правда, дон Гайярдоне где-то раздобыл вина, принес в халупку, где жила Клодина со своей матерью, целых две бутыли натурального красного вина, не очень крепкого, но как раз такого, которое и нужно было в этот вечер,– теплое, терпкое виноградное вино, от которого приятно шумело в голове и хотелось сказать много красивых слов, хотелось смеяться и даже плакать почему-то...
Клодина и Пиппо справляли свое обручение. Можно было бы еще сегодня вечером найти священника и обвенчаться, но мать Клодины запротестовала: торопиться незачем, да и Пиппо был в нерешительности, явно колеблясь, следовало ли ему идти к священнику после того, как получил удостоверение из коммунистической газеты «Унита» и считал себя коммунистом? Он не верил в бога, не хотел верить и его слугам. Он верил в мать, которая дала ему жизнь, верил в товарищей, которые шли с ним плечо к плечу по Европе. А бог и его слуги – священники? Над этим Пиппо не задумывался, на это у него не было ни времени, ни желания. Знал только, что он уже далеко не тот маленький мальчик в белых одеждах и что уже никакие отцы доминиканцы не заставят его петь жалостные моления.
– Пойдем не для того, чтобы видеть, а для того, чтобы не видеть,– сказал дон Гайярдоне.– Так написано в священных книгах. Однако если ты одинок и если ты присматриваешься к тому, что делается в мире, то ты видишь больше всех остальных. Дон Гайярдоне видел очень много. Да и теперь от его глаз ничто не может укрыться. Теперь все едут, едут, едут. Никто надолго не задерживается на одном месте, ни у кого не хватает времени, чтобы остановиться и хорошенько разглядеть все вокруг. Никогда так много не ездили люди. Переселение народов! Приморские города стали вратами путешествий, как это было еще во времена Колумба и Марко Поло. И наша Генуя стала вратами. Возвращаются домой партизаны. Приходят бывшие солдаты и изгнанники. Сошли с гор беглецы. Но есть и неизвестные в нашем городе. О, от дона Гайярдоне не скроется никто! Мимо моего дома лежит дорога в обитель отцов францисканцев, а я вижу, как ежедневно направляется туда большая черная машина с капитолийской волчицей на радиаторе. Черная машина и белая, никелированная волчица на радиаторе. Волчица и два маленьких человечка, примостившиеся у нее под брюхом и сосущие волчье молоко. Кто ездит на этой машине? Разве отцы францисканцы уже отказались от пешего хождения и пересели на машину с капитолийской волчицей? Было время – францисканцы сидели в итальянских портах и записывали каждого, кто входил на корабль, чтобы затем доложить об этом в апостольскую столицу – Ватикан, и тогда папа посылал погоню за своими врагами или же требовал от тех стран, куда они отправлялись, экстрадиции – выдачи бежавших. Дон Гайярдоне все знает! А может, и наши отцы францисканцы сидят теперь в генуэзском порту и следят, чтобы не бежали за море враги Италии? Я не видел их там. Я гордился своим монастырем. В этом монастыре пятьсот лет назад был владыкою Франческо делла Ровере, что вскоре стал папою Сикстом Четвертым. Генуя назвала его именем одну из своих пьяцц...
– Мы познакомились на этой улице,– сказал Пиппо.– Мы встретились с Клодиной на пьяцце Сикста Четвертого.
Дон Гайярдоне его не слушал. Он плакал. Пил вино и плакал, потому что затоптали самое для него святое – его веру.
– Я верил в святость этого места,– говорил он.– Я верил в благочестие братьев-реформатов, живших в своей обители на горе надо мной. И если б они вышли в этот взбаламученный мир, я бы ничего не сказал о них плохого. Но они продолжают сидеть за высокой оградой монастыря, а к ним ежедневно ездит черная машина с белой капитолийской волчицей и возит каких-то людей с рыжими волосами, таких волос не увидишь у итальянцев. Кто они, эти выкормыши, вспоенные волчьим молоком? Откуда они и почему скрываются в нашем монастыре? Никто не видит и не знает этого, а старый дон Гайярдоне видит, он все видит! И почему же тогда в священных книгах написано: «Идем не для того, чтобы видеть, но чтоб не видеть»? Почему?
Дон Гайярдоне совсем обессилел. Он упал грудью на стол, пробовал еще что-то говорить, но только бормотал неразборчиво, без толку водил по столу руками, словно собираясь плыть куда-то, хотел поднять голову, но она отяжелела и не слушалась его.
Пиппо взглянул на Клодину: что с ним делать? В комнате была только одна кровать. Семейная металлическая кровать, старая, с облупленной краской на спинках, застеленная цветастым покрывалом – единственной ценной вещью в этом убогом жилище. Еще стоял на кухне узенький топчан, но устроить на нем ложе для дона Гайярдоне было как-то неловко, он все же был здесь гостем, к тому же и посаженым отцом. Мать Клодины тоже поняла безмолвные взгляды, которыми обменивались молодые. Она подошла к кровати и приготовила постель.
Дон Гайярдоне заснул, как только его уложили.
– Мы пойдем к морю,– сказала Клодина,– немного погуляем.
– Идите,– сказала мать.
Пиппо ждал Клодину на улице. Он обнял ее, и они спустились к морю, перепрыгивая с камня на камень.
Когда они очутились уже на самом берегу, когда почувствовали у себя под ногами шорох морской волны, легко разбивающейся о камень, Клодина тихо засмеялась.
– Ты чего смеешься? – спросил Пиппо, заглядывая ей в лицо.
– Я смеюсь оттого, что на нашей кровати спит дон Гайярдоне.
– Да, твоей матери сегодня негде лечь.
– Мама устроится на топчане. А мы?
– Мы можем и не спать в такую ночь.
– Но на нашей кровати – дон Гайярдоне!
– Все равно мы ведь не были у священника.
– Мы обручены. Ты прошел всю войну и остался жив, разве этого мало? Разве священник даст тебе нечто большее, чем дал конец войны?
– Я тоже так думал, но ты...
– А раз думаешь ты, то я тоже... Поцелуй меня.
Он обнял ее худенькие мальчишеские плечи и привлек к себе. На ее губах сохранился терпкий вкус вина, черные волосы пахли морем. Оба закрыли глаза, потому что все равно не видели ничего. Когда наконец они оторвались друг от друга и раскрыли глаза, увидели море и небо. Вода в море была глянцевито-черная, как живое серебро. И небо было серебряное. Молодой месяц висел в нем рожками вверх, узкий, как челнок.
Где-то вызванивали колокола, возвещая конец карнавала. Когда-то Пиппо считал, что колокола общаются с богом. Знал, что они оплакивают мертвых, сзывают людей на молитву. Сегодня колокольный звон – на радость. Металлические голоса сплетались в одно-единственное слово: Клодина, Клодина, Кло-ди-на, Клодин-дин-на!
– Пора,– сказал он.– Ты иди. Отдохни.
– Куда же я пойду?
– К матери.
– А ты?
– А я поброжу здесь.
– Я не хочу оставлять тебя одного.
– Ты устала.
– Ни капельки!
– Кроме того, мне необходимо подумать.
– О чем же тебе думать?
– Ну... о чем. Ведь теперь я буду твоим мужем, у нас будет семья, нужно о ней заботиться...
– Лучше поцелуй меня! Давай походим по берегу. Тут совсем близко – пляж. Песок. Настоящий песок. Мы можем выкупаться. Ты не боишься купаться ночью?
Они добрались до песчаного пляжа, мгновенно разделись и побежали в море. Белые руки Клодины светились под лунным светом. Вода стекала с них крупными каплями и горела бликами белого сияния. Потом девушка перевернулась на спину и лежала на воде, выставив молодому месяцу острые соски маленькой груди, распустив волосы.
– Я плаваю как рыба. А ты умеешь плавать? Давай заберемся в море так далеко, чтобы не видно было берега.
– Давай.
Долго плавали они, плескаясь и брызгая друг на друга, били ногами по теплой и мягкой воде. Когда вернулись на берег, уже светало.
– Теперь ты пойдешь и немного поспишь,– сказал Пиппо.
– А ты?
– Я устроюсь где-нибудь на улице. Не сбрасывать же мне с постели дона Гайярдоне.
– Завтра кровать будет наша. Поцелуй меня, и я пойду.
Он проводил Клодину домой, а сам снова спустился к морю. Долго сидел, смотрел на воду, ни о чем не думая. Счастье переполняло сердце. Клодина принадлежит ему. Клодина! Клодина! Клодина!
Имя звенело у него в ушах, словно звон колоколов Италии. Клоди-дин-на.
Когда заалело за горами, высоко на границе неба и щербатой каменистой земли обрисовались неуклюжие очертания францисканского монастыря. Только тогда Пиппо вспомнил рассказ дона Гайярдоне о подозрительных людях, скрывающихся за монастырскими стенами. Вспоенные волчьим молоком. Кто они? Почему он не расспросил как следует дона Гайярдоне? Да и знал ли дон Гайярдоне что-либо определенное? Он сам, Пиппо Бенедетти, должен был узнать обо всем. Это нужно было сделать сразу, как только услышал рассказ дона Гайярдоне. У него в кармане был репортерский жетон «Униты». Он коммунист! Чувствовал себя ответственным за дела всего мира. Быть может, там скрываются фашисты? Быть может, собираются там не только итальянские фашисты, но и немецкие? Рыжие монахи, рыжие пришельцы, говорил дон Гайярдоне. Почему он не пошел туда сразу? Забыл или не хотел, чтобы об этом знала Клодина? И Пиппо решился.
Путь его лежал в монастырь. Дорога оказалась тяжелой и далекой. Когда он очутился наконец у ворот, над горами показалось утреннее солнце. Генуя лежала далеко внизу, белая и блестящая, как перламутр. Только на соборе Сан-Лоренцо выделялись тигровые полосы в этом белом городе, но отсюда Пиппо не видел собора, помнил его со вчерашнего дня.
Монастырская стена заросла бугенвилией. Фиолетовые, как морская вода у скал, цветы свисали над калиткой, к которой приблизился Пиппо. Потемневшая от непогоды веревка пряталась среди густой зеленой листвы. Бенедетти дернул за веревку – за стеной раздался звонок, но никто не открыл калитки, и Пиппо дернул еще раз. Наконец тяжелая калитка заскрипела, и толстый монах, с глазами фанатика, недоверчиво и подозрительно уставился на Пиппо.
– Чего тебе, сын мой? – спросил он.
– Я из газеты,– сказал Пиппо и махнул перед носом у монаха своим жетоном.– Репортер римской газеты, отче!
Он нажал плечом на монаха, а когда тот не проявил готовности отступить с дороги, слегка оттолкнул его и очутился по другую сторону стены. Вошел в обитель, подготовленный к хорошему и к плохому. Увидел кампаниллу – стоящую отдельно колокольню,– высокую и суровую. Увидел часовню с отворенной дверью. В ее темной пустоте горели свечи. Черно-красные цвета господствовали там, геральдические краски ночи, цвета смерти, пожарищ, засохшей крови. Прежде эти краски вызывали в сердце Пиппо торжественность и экстаз, теперь напоминали о войне, смерти и крови. Он прошел мимо часовни твердыми шагами и повернул дальше, к кельям, и в сердце у него были только хмурые воспоминания и ненависть.