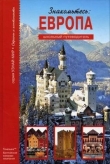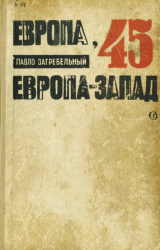
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 43 страниц)
Одним словом, в тот же вечер Трумэн поделился новостью с Черчиллем. С ним первым. Ибо атомная бомба принадлежала, что там ни говори, не только Америке, но и всему западному миру.
В своей резиденции в Бабельсберге Трумэн дал прием в честь премьера Великобритании. Со старомодной тщательностью он облачился в черный смокинг и полосатые дипломатические брючки дудочками. Был важен, словно пресвитер евангелической церкви. (А ведь еще несколько дней тому назад робел помальчишески, чувствовал себя провинциалом, едущим в столицу показаться важным лицам, писал матери и сестре перед поездкой в Европу: «Нужно взять с собой смокинг, фрак и множество других вещей... Предпочитал бы не ехать, но должен...»)
Черчилль прибыл во фраке, в черных полугалифе и... черных чулках до колен. Его дебелая фигура имела довольно-таки курьезный вид. Фрак, белый безупречно сшитый жилет и белый галстук, из-под которого свисал крест Виктории. Широкая муаровая лента Большого креста Британской империи опоясывала мощное чрево премьера. Шпага. Белые перчатки, небрежно зажатые в левой руке. Но главное заключалось на левой ноге под коленом. То, чем могут похвалиться только избранные, только кучка людей во всем мире, самые что ни на есть достойные. Под левым коленом у Черчилля прикреплено британское отличие – древнейший орден Британии, орден Подвязки. Черный поясок с серебряными бляшками, с серебряными буквами по его полю: «Пусть будет стыдно тому, кто подумает плохо».
Черчилль шел чуть наклонясь вперед, слегка сутулясь, выпятив массивную нижнюю челюсть, сияя в свете хрустальных люстр холеным розовым лицом.
Трумэн подошел к Черчиллю. Рядом с грузным премьером ступал мелко, как в старинном танце, а в голове у него плясали мстительно-шаловливые слова. «У тебя орден Подвязки, у меня – атомная бомба. У тебя орден Подвязки...»
Он представлял себе, как слетит с Черчилля спесивая важность, когда он услышит об атомной бомбе. Эта весть прозвучит для него куда более оглушительно, чем непосредственно взрыв бомбы в Аламогордо. «Дети родились благополучно». О, милые детки!
Однако Черчилль воспринял важнейшую из вестей, которые когда-либо приходилось слышать смертным, внешне вполне спокойно.
– Вы убеждены, что это так? – уточнил он.
– Иначе я бы не говорил! – воскликнул президент, введенный в обман напускным равнодушием этой старой хитрой лисы.
– Хвала господу! – торжественно произнес Черчилль.– Теперь русские нам не нужны.
А тем временем американскому лейтенанту Юджину Вернеру военный чиновник Службы информации, весь оплетенный шнурами аксельбантов, словно калифорнийский мул сбруей, вдалбливал, какое величайшее значение для безопасности Соединенных Штатов и их союзников имеет его – офицера миссии «Пейпер-Клипс» – работа, к тому же работа успешная. Ведь только успешного выполнения возложенного на него долга ждут от лейтенанта Юджина Вернера его начальники, его соотечественники за океаном.
– Вы меня понимаете? – спросил в заключение подготовительной беседы чиновник.
– Ну еще бы! – ухмыльнулся Юджин.– Вы не лишены способностей комиссионера, пытающегося сбыть залежалый товар. Когда-то давно, еще до войны, меня однажды уже обкрутили подобным образом. Уговорили купить машину для чистки картофеля. Машина была недорогая, стоила всего восемь долларов, но ее пришлось выбросить в тот же день – она не желала чистить картошку!
– Но-но! – помахал пальцем чиновник.– Пожалуйста, без аналогий, лейтенант! Демократия – вещь хорошая, однако это еще не означает, что вы можете болтать всякую чепуху, когда перед вами люди, призванные вами командовать.
– Я просто хотел сказать, что хорошо все понял.
– То-то и оно. А теперь докажите мне еще, что вы не случайно здесь, среди офицеров нашей миссии.
– Попытаюсь.
– Я не требую от вас чудес, описанных в арабских сказках. Не заставляю искать подводную лодку с ракетными установками для запуска «фау-3» на Нью-Йорк.
– А разве было и такое?
– Могло быть. Еще бы немного затянулась война, немцы сделали бы и такую штуку, и наши небоскребы на Манхэттене свалились бы прямо нам на головы. Но мы своевременно разгромили Гитлера.
– То есть вы хотите сказать, русские своевременно разгромили Гитлера? – попытался уточнить Юджин.
– Но-но! Пожалуйста, без коммунистической пропаганды, лейтенант! Я знаю о ваших связях с красными, знаю, что вы довольно долго шатались по Европе под командой советского офицера – вещь совершенно недопустимая для американского солдата. Но вам представляется случай доказать, что вы остались настоящим, стопроцентным американцем и что красные бациллы не отравили ваш здоровый демократический организм.
– Поехали дальше,– сказал Юджин.– Допустим, что мой здоровый демократический организм остался неуязвим. Итак, мое задание будет состоять...
– Ваше задание будет состоять отнюдь не в том, чтобы найти, скажем, небезызвестного оберштурмфюрера СС Отто Скорцени, который намеревался с кучкой головорезов высадиться из подводной лодки на американское побережье, пробраться в Нью-Йорк и установить на крыше «Эмпайр-Стейтс билдинг» антенны коротковолновых радиопередатчиков, которые подавали бы сигналы для наведения ракет «фау-3».
– На мой взгляд, опять начинается все сначала,– сказал Юджин.—У меня такое впечатление, что меня гоняют на корде по кругу, как цирковую лошадь. Все время одно и то же: «фау», Скорцени, коммунисты, генералы, демократия. Даже прислали меня снова в Кельн, откуда я год назад бежал от гестаповцев. Те же места. Те же события. Фамилии и то одинаковы. В чем же дело? Неужели до сих пор длится война! Вы знаете, у меня до войны была прекрасная птицеферма. В штате Висконсин. Мой петух Президент был красивейшим петухом в Штатах. Моя курочка Флауэр поставила рекорд среди несушек... Смогу ли я вернуться к своим курочкам? Чтобы навсегда забыть о ракетах, о всяких скорцени?
– Все будет зависеть только от вас.
– Ну хорошо. Все будет зависеть от меня. Но в данном случае я ведь завишу от вас?
– Точно.
– Что же мне делать?
– Надо найти одного человека.
– Вот это уже нечто более конкретное.
– О, это чрезвычайно интересно! Ученый, которого мы разыскиваем, – автор механизма управления ракетами в полете.
– Где ж его искать? Как его фамилия?
– Его фамилия – Либих.
– Либих?!
– Да. Почему вас это удивляет?
– Мне кажется, я могу вам описать его.
– А ну, попробуйте.
– Рыжий, высокий, костлявый. Голос тихий.
– Это что – импровизация?
– Нет. Это не импровизация. Если не ошибаюсь, я знаком с этим господином.
– Не может быть!
– Я встречал его в Голландии, где он был начальником одной из площадок, откуда запускался «фау-2» на Лондон.
– Сходится, – пробормотал чиновник.
– Нас познакомил с ним группенфюрер СС Кюммель.
– Сходится, – как эхо повторил чиновник.
– Либих врал, будто он приезжал только для того, чтобы проверить какие-то свои изобретения.
– Сходится! – воскликнул чиновник, вскочив с места.– Сам бог вас послал сюда, лейтенант!
Юджин был несколько иного мнения. Во-первых, не бог, а капитан из госпиталя в Таормине. Эти длинные ночи... эти бесконечные дни...
Они лежали на смежных кроватях, безделье томило их, вызывало на откровенность. Юджин постепенно и рассказал капитану о себе. А тот намотал на ус. Он был из Службы информации и не терял зря времени: даже в госпитале собирал информацию. Теперь Юджину приходилось отдуваться за рвение служаки-капитана. Снова он возвращался к тому, что пережил когда-то. Круг замкнулся. Птичка, которую некогда выпустили из клетки, вновь кружилась где-то поблизости, и заманить ее в клетку надлежало опять же ему, Юджину, ибо это он тогда вывел капитана Либиха из бетонного бункера и отпустил на все четыре стороны.
– Я едва не застрелил этого Либиха, – пробормотал он.
– О боже! – всплеснул руками чиновник. – И кто же удержал вас от столь безрассудного поступка?
– Командир нашего партизанского отряда, советский офицер, о котором вы давеча отозвались недобрым словом.
– Он проявил мудрость, сей большевик. Это еще одно доказательство того, как могучи и опасны большевики и как много нам нужно работать, чтобы защитить Америку от этой опасности.
– Мы сумеем защитить ее, если в руках у нас будет Либих? – с нескрываемой иронией спросил Юджин.
– По крайней мере, вы сделаете свой взнос в это дело, – вполне серьезно заверил его чиновник. – Либих находится где-то здесь, в районе Кельна. Сюда ведут все следы. Здесь он родился. Здесь жили его родственники. Сюда он перевез незадолго до конца войны свою супругу. К сожалению, по некоторым данным, она погибла во время бомбежки.
– Он уже тогда, во время одного очень деликатного разговора, намекал о своем намерении драпануть в Америку, – сказал Юджин. – Удивительно, почему он до сих пор околачивается здесь? Может, и его нет в живых?
– Нет, Либих жив. У нас имеются данные, что он скрывается вместе с последним своим командиром, бригаденфюрером СС Гаммельштирном. Во всяком случае, их видели вместе во время Рурского окружения. Возможно, что Гаммельштирн терроризирует Либиха, препятствует его желанию перейти к нам; возможно, торгуется с англичанами или русскими, выжидая, кто больше заплатит. Наше дело – найти и перехватить! Либих должен быть у нас в руках! Любой ценой! Даже если нам пришлось бы бросить на это все наличные силы миссии. Мы можем взять американскую дивизию и прочесать все кельнские руины, осмотреть каждый кустик в лесах, обшарить все замки и монастыри.
– Но тогда тайна перестанет быть тайной, и птичка, за которой мы охотимся, испугается и улетит к черту на кулички, – заметил Юджин.
– Вы удивительно точно попали в цель! – чиновник удовлетворенно потер руки. – Полнейшая секретность! Абсолютная тайна! Это самое главное, плюс максимум изобретательности.
– Плюс язык во рту, сигареты и шоколад в кармане, – уточнил Юджин. – Разузнавай и плати, плати и разузнавай.
– Но не забывайте об осторожности. Прежде всего осторожность и маскировка!
– О’кей! Раз уж меня заставили бегать на корде, как цирковую лошадь, я должен что-то выбегать. Иначе мне не видать Штатов, по которым я основательно соскучился. Есть у вас еще какие-нибудь данные об этом паскудном Либихе?
– Можете ознакомиться с досье. Там собраны о нем все материалы. Информация наша действует безотказно. Мы принадлежим к наиболее информированным людям в мире.
Так замкнулся круг: война, которая закончилась для все-го человечества, начиналась для Юджина вновь. Еще раз надо было осилить врага, которого, по сути, уже победил. К чему? На это он так и не смог дать себе ответа. Ему пробовали пояснить, но он не понимал. Точно так же, как не понимал значения бессмысленного термина «Пейпер-Клипс».
ХРОНИКА НОЧНЫХ СОБЫТИЙ...
Сидел бы так, слушал – и больше ничего. Минуты, когда, покончив с каждодневными заботами, можно было сесть за радиоприемник, казались Скибе самыми сладостными. Медленно крутил он ручку вариометра, прислушивался к тому, как начинает жить его «Телефункен». Пересекал поток радиоволн. Пробирался сквозь джунгли джазовых завываний, без жалости обрывал мелодичные венские вальсы, с одинаковой поспешностью оставлял и равнодушное бормотание турок, и горячие придыхания арабских дикторов. Дальше, дальше! Скорее к Москве! К родному голосу Москвы!
Москва передавала о конференции в Потсдаме. Три пункта, касающиеся Германии: демократизация, денацификация, демилитаризация. О разделе на зоны оккупации. Рур и Рейнланд – Вестфалия должны были отойти англичанам. Таким образом, если Михаил еще здесь задержится, то будет иметь дело с новыми хозяевами. Уже теперь англичане должны будут предоставлять ему транспорт для отправки советских граждан из переполненных сборных пунктов. Вспомнил о карточках, заведенных американцами в этих сборных пунктах. Карточки полагалось заполнять на каждого. Фамилия, имя, место рождения, профессия, а кроме того – десятки вопросов, на которые вовсе незачем было отвечать людям, коих мучил, волновал, беспокоил один лишь вопрос: «Когда нас отправят домой?» Очевидно, чиновники, придумавшие эти карточки и напечатавшие их в миллионах экземпляров задолго до конца войны, не учли настроения бывших узников, иначе они бы никогда не вставили в анкеты бессмысленного и оскорбительного вопроса: «Куда желаете вернуться, в какую страну?»
Когда Михаил запротестовал против таких фиглярских вопросов, когда сказал, что не может допустить, чтобы его соотечественников спрашивали о том, о чем спрашивать просто нелепо, военные чиновники из Military Government заявили, что ни один человек никуда отсюда не уедет, не ответив на вопрос, куда именно он желает уехать. Ибо в Америке демократия, каждый волен делать, что пожелает, а значит, и в Европу американцы должны нести демократию, никакого принуждения, полная свобода действий!
На этот бессмысленный вопрос ответ был у всех один: «Домой, и только домой». Теперь ждать уже недолго. После Потсдама поедут домой. Уедет и он, Михаил Скиба.
После последних известий – Красная площадь. Далекий гул. Гудки автомобилей. Всплески людских голосов. Михаил припадал ухом к приемнику, и казалось ему, что он различает отдельные слова. Это было чудо: сидеть на Рейне, когда за окном еще не угасло солнце, и слушать полуночную Москву, гул машин на ее площади и различать голоса людей, родные голоса и родные слова на родном языке!
Теперь он изведал, что значит чужбина. Когда был в лагерях– не жил, мучился, умирал. Был в партизанах – боролся. Война приносила горечь, требовала отречения от всего, терпения, мужества. Теперь настал мир. Люди исподволь возвращались к обычной жизни, а обычная жизнь – это дом, Родина.
Ах, это прозябание на чужбине! Быть островком в чужом холодном море, носить родной голос своей земли только в себе, замкнуть сердце холодным обручем ностальгии... Нет, нет! Клялся, что вернется домой и уже никогда никуда более не поедет, не станет рваться в далекие края. Правда, невесело всегда жить в одном городе, всю жизнь ходить по одним и тем же улицам, знать, что по тем же самым улицам, по каким ты ходил в школу, на свидание с любимой, на работу, повезут тебя на кладбище... Тяжело это. Но еще тяжелее блуждать по свету, ютиться где попало, не имея пристанища, не зная даже, где успокоятся твои кости после смерти. Нельзя так жить!
Вслушиваясь в голос Москвы, Михаил каждый вечер странствовал по своей молодости, мыслями переносился в детство. Из сокровищницы памяти всплывали воспоминания. Воспоминания сплетались в красочный узор, словно на белой, вышитой цветными нитками сорочке. Начиналось обычно с одного и того же. Он, малыш еще, гонит под вечер корову из стада. Солнце лежит прямо в траве на самом краю плавней, громадное, дивно красивое, красное солнце. И все вокруг полыхает багрянцем, как всегда при закате: и хаты, и деревья, и пыль на дороге, по которой он ступает своими босыми ножонками, худыми и черными от загара. Придорожная пыль, красная и теплая, мягко выстреливает из-под его ног. Паф! Паф! Пыль повисает в воздухе густым красным маревом. Красным и теплым. А еще была песня, когда ходил в школу, в первый класс: «Вперед, народе, йди у бiй кривавий... Червонi лави! Червонi лави! »
Самое яркое пламя было всегда от гречишной соломы. Зимой отец вносил со двора целый мешок промерзшей, терпко пахнущей красноватой соломы, запихивал ее в печь, зажигал. А Мишко скручивал солому в пучки и знай подкладывал. Пламя было красно-черное, как солома... Мать собирала гречишную золу, чтобы сделать щелок – и вымыть Мише голову, а он помнил одно только красное пламя... Быть может, потому так любил зиму, всегда ждал ее, зная, что будут топить печь гречишной соломой...
Когда в сорок первом пылали украинские села и нескошенные хлеба в степях, он ужаснулся черной багровости огня. А когда горели разбомбленные немецкие города? Они горели по ночам, только по ночам – воздушные армады налетали и скрывались во тьме. Багровое пламя среди черных ночей. «Вперед, народе, йди у бiй кривавий. Червонi лави! Червонi лави!» После войны должно родиться целое поколение пацифистов. Если еще со времен древнего Рима неустанно повторяли: «Хочешь мира – готовься к войне», то теперь вспомнят древнеиндийское: «Хочешь мира – готовь мир». «Червонi лави...» Да. Никогда он не забудет: красное и теплое, красное и теплое... «Червонi лави» мира...
Снаружи засигналила машина. Михаил вскочил. Неужели Попов? Три дня назад он улетел в Италию. Скиба попросил привезти ребенка. Неужели так скоро успел вернуться?
Надел фуражку, вышел из дому. На усыпанной гравием дорожке, возле часового под грибком стоял серо-стальной «мерседес». Попов, открыв заднюю дверцу, наклонился и что-то делал в машине. Михаил видел только его изрядно помятые штаны. Он подошел к переводчику и шутливо хлопнул его по самому измятому месту:
– Попов, неужто ты?
Попов вынул из машины белый конверт, поднял его над головой и засмеялся:
– И не только Попов, а и эта прелестная леди!
– Дай-ка сюда!
Михаил взял малютку на руки, поглядел на нее. Девочка не спала. Большими голубыми, как у Гейнца, глазами она смотрела на Михаила, смотрела серьезно, молча, будто стремилась и не могла вспомнить, где и когда видела этого дядю.
– Уже не плачет,– сказал Михаил.– Привыкла, значит, к путешествиям.
– Всю дорогу проспала в своей колясочке,– сказал Попов и с неловкой нежностью поправил чепчик на голове девочки.– Просто образцовая леди.
Девочка вдруг улыбнулась. Собственно, и не улыбнулась, а скорчила гримасу: собрала губки, сморщила носик, словно кого-то передразнивала.
Михаил воскликнул:
– Да ведь она смеется над нами, Попов! Ты только погляди, только погляди!
Были у них добрые сердца, но что они могут сделать для ребенка, за плечами которого всего лишь три месяца жизни? Девочка может плакать, смеяться, а они бессильны и безоружны перед нею, эти одинокие, заброшенные далеко на чужбину мужчины.
– Поедем скорее к Гильде,– нахмурившись, сказал Михаил.– У нас с тобой нечего даже дать ей, Попов. Мы бедны, как все солдаты.
– А ну-ка, загляни в машину,– сказал Попов.– Синьора Грачиоли подарила нашей маленькой леди целое приданое. Говорит, от гарибальдийцев. На мой взгляд, там по крайней мере десятилетний запас платьиц, туфелек, пальтишек и всякой всячины, в чем я совершенно не разбираюсь, как, впрочем, все старые холостяки.
– Ты холостяк старый, а я – молодой, вот мы и пара,– засмеялся Михаил.– Так поехали? Теперь можно ехать с легким сердцем.
* * *
...А пока продолжался торжественный акт передачи немецкого ребенка в руки молодой немецкой женщины, на другом конце большого города происходил весьма любопытный разговор.
Трое немцев сидели за небольшим столиком в саду среди роз. Маленькая лампочка, скрытая в густой листве, бросала на лица людей скупой отсвет. Проходя сквозь зеленую листву, этот красноватый свет становился желто-зеленым, и лица приобретали призрачную окраску, напоминая не то лица заговорщиков в пьесе, не то утопленников. Великолепно пахли розы, цветы ночи, цветы любви, цветы богини Венеры, любимые цветы одного из сидящих за столиком – Конрада Аденауэра. Второй любил фиалки. Он восхищался «вторником фиалок», когда по улицам рейнских городов шли праздничные так называемые «фиалковые походы»: улицы расцветали фиалками, нежными, хрупкими, благоухающими. Он и сам отличался утонченностью, нежностью, и как-то даже странно было, как такой маленький, хрупкий человечек мог служить еще при первом кайзере в гвардейском драгунском полку. Голубые, еще не слинявшие к шестидесяти пяти годам (а ему уже было шестьдесят пять!) глаза под красивыми черными бровями, чувственный, как у женщины, небольшой рот, мягкие русые (русые или уже седые) волосы, правильной формы голова с классическими римскими линиями. Молчаливая улыбка змеилась на его губах, ирония сквозила во взгляде. Возможно, что ирония была направлена на самого себя, на те времена, когда он был драгуном. Сорок пять лет назад он, как дед его и отец, стал драгуном, пожалуй, только по той причине, что его фамилия звучала очень уж на лошадиный манер: Пфердменгес – много лошадей, тьма-тьмущая лошадей, несметное их количество. Он был вторым среди девяти детей у родителей, и нарекли его французским именем Роберт, хотя и родился он в прирейнском городе Мюнхен-Гладбах и носил сугубо немецкую фамилию.
Он таки выбился в люди. Подобно Аденауэру, сам выковал свою судьбу. Чин драгуна сменил на банкира. Начал с мальчика, который чинил банковским чиновникам карандаши и разносил пиво. Служил клерком в Лондоне, Антверпене, Берлине. А воротился на родную рейнскую землю зажиточным банкиром, внимания которого добивались сильные мира сего!
После мирового кризиса двадцать девятого года сам канцлер Брюнинг пригласил его на должность финансового советника. Он был членом правления Немецкого банка и в тридцать третьем году, когда в Германии стал канцлером Адольф Гитлер. В пятидесяти наибольших промышленных фирмах и банковских конторах был или членом, или председателем. Влияние его было столь велико, что его коллег по кельнскому банкирскому дому «Соломон Оппенгейм-младший и К°» полуевреев Владимира и Фридриха Карла фон Оппенгеймов не выслали из Германии, не репрессировали и только после событий двадцатого июля сорок четвертого года посадили в концлагерь, но и там он спас их от виселицы и позаботился об их баронских угодьях на Эльбе. Там его неожиданно и застал конец войны. Банкир Роберт Пфердменгес не растерялся. Он не остался на территории, занятой русскими. Пришел к американцам, и те помогли ему вернуться в Кельн и сразу же предложили пост президента Торговой палаты (разве мать баронов Оппенгеймов Флауренс Ментюз Хатчина не была американкой и разве Роберт Пфердменгес не значился наилучшим другом баронов фон Оппенгейм?)
Пфердменгес сидел за столиком и молчал. Он вообще слыл немногословным. О его неразговорчивости ходили легенды. Иные утверждали, что из него легче выудить сто тысяч марок, нежели хотя бы одно слово! Правда, что касается марок – это тоже звучало легендой: Пфердменгес не разрешал себе даже купить что-нибудь в американском буфете при Торговой палате, а приносил из дому бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу, и термос с кофе. В перерыве он съедал этот бутерброд и выпивал принесенный из дому кофе. Он привык к бережливости, считая немногословие и бережливость основным в жизни.
Третьим был доктор Лобке. Он поддерживал разговор, не давая ему заглохнуть окончательно, поддакивая, подбрасывая в беседу всё новые и новые слова, как подкладывает опытный мастер петарду в фейерверк.
У тех двоих были свои вкусы и склонности. Один обожал розы – это была его давнишняя слабость, любил «понедельник роз», празднуемый на Рейне. Другому по душе были фиалки, и его днем был «вторник фиалок». Один был католик и гордился этим: ведь Гитлер выступал против католицизма, стремясь заменить в сердцах немцев образ всемогущего бога своим образом и подобием, а раз так, то выходит, что он, Аденауэр, находился в оппозиции к самому фюреру! Второй, Пфердменгес, принадлежал к евангелистам. Что касается Лобке, то он мог обойтись без всяких склонностей вообще. Он как бы объединял этих двух старых мужчин, из которых один держал в руках финансовое могущество, а другой – политический руль.
Сегодня была пятница. Доктор Лобке боялся этого дня. Фюрер, например, в пятницу не решался даже ногти стричь. Правда, впоследствии он дал себя уговорить генералам, начал войну против Польши именно в пятницу!
Сегодня была пятница. Доктор Лобке знал, что это несчастливый день, но представлялась такая возможность! Двое самых влиятельных на Рейне людей собрались вместе, как же он мог не присутствовать при их беседе! Бургомистр Кельна и президент Торговой палаты, поддерживаемые американцами. Поддерживаемые, вопреки тому, что неспокойные элементы подняли шум против Аденауэра, ввиду отсутствия у него заслуг перед немецким народом, и против Пфердменгеса, который держал сторону нацистов. Пфердменгес внесен даже в неофициальные списки военных преступников. Ну и что ж из этого? Его, доктора Лобке, внесли даже в официальные списки. А между тем он на свободе. В Потсдаме Большая тройка договаривается о Нюрнбергском судилище, а он все равно не боится!
За спинами этих двоих благовоспитанных людей он не боится ничего! Правда, и они без него бессильны. Один говорит слишком много, сыплет словами, открыто любуясь звучанием громких фраз, а второй не раскрывает рта и только усмехается. Вот бы угадать, о чем думает Пфердменгес, и высказаться так, чтобы со сказанным солидаризировался Аденауэр и чтобы – упаси бог! – не возражал банкир. Склонить их к мысли, которую он носит в себе уже давно, но сделать это так, чтобы им казалось, якобы мысль эта исходит именно от них. Воспользоваться их недостатками – немногословием одного и болтливостью другого. Не смеяться над их недостатками, не потешаться над ними, ибо только маленькие люди, как сказал Дизраэли, радуются недостаткам людей великих,– а он, Лобке, тоже принадлежит к людям выдающимся, пускай еще никому не известным, но тем не менее выдающимся!
Говорили о партии. В Потсдаме прозвучало слово «демократизация». Что ж, Аденауэр предвидел это. Поэтому сразу же решил в названии будущей партии непременно упомянуть и этот термин. Или же объединить в партии одних католиков, как это было до тридцать третьего года, в католическом центре. Но тогда даже его друг Роберт останется вне партии, окажется в оппозиции. Допустимо ли это? Надо думать более широко. Объединить верующих всех направлений. И католиков, и протестантов, и евангелистов. Учредить союз христиан-демократов. Бог – знамя небесное, демократия – знамя земное. И Аденауэр решил, что это будет звучать прекрасно!
Пфердменгес наблюдал, как шевелились морщины на лице Аденауэра. Движение начиналось одновременно в углах губ и глаз, мгновенно захватывало все пространство щек, доходило до ушей, лицо морщилось и тут же разглаживалось, как старый кузнечный мех, и у Пфердменгеса не переставала блуждать по лицу ироническая усмешка. Он очень хорошо знал, что союз, о котором говорит Аденауэр, будет и что Аденауэр, поддержанный им, Пфердменгесом, и еще многими «частными людьми», как они любили себя называть, станет, пожалуй, даже канцлером, если будет таковая должность, и начнет добиваться того, чего он добивался уже два десятка лет назад,– образования сепаратного немецкого государства на Рейне. Он, конечно, будет пытаться выдавать себя за последователя Карла Великого и выдвигать идеи франко-германского содружества, почерпнутые из каролингских пергаментов.
Газеты всего мира будут помещать портреты Аденауэра, напечатанные без единой морщинки на лице. Ретушеры с готовностью заретушируют все изъяны, загладят, скроют борозду лет, и лицо семидесятилетнего старца будет гладким, как лицо ребенка. Правда, жизнь в угасшие черты уже не удастся вдохнуть. Оно все равно будет серое и мертвое, как мумия, но зато без морщин.
Не такие ли ретушеры и все мы на этом свете? Замазываем морщины мира, сглаживаем их, и он омолаживается с нашей помощью, творит все новые и новые бессмыслицы, хотя давно бы мог опомниться и заглянуть в зеркало истории. Да где там! Мы прячем от него это зеркало, а если и показываем иногда, то видит он себя там отретушированно-омоложенным – и так, ничего не подозревая, продолжает игриво подпрыгивать, подобно глупому молоденькому козленку.
Пфердменгес стоял в стороне от всего. Он одобрял решение Аденауэра уединиться. Элементарный закон тяготения ускоряет биение сердец в толпе. Лишь одинокое сердце бьется размеренно и спокойно. Он, Пфердменгес, точно так же любил одиночество, жил им, наслаждался. Но его деньги все время крутились среди людей, в толпе, в наибольших дрязгах и кутерьме, именуемыми политикой. Он не любил политики. Она давит, душит, как петля. Это мертвое море отчаяния. Вынырнуть из него никто не может. Он не любил политики, но и не боялся ее, знал, что без нее никуда не сунешься, и уже давно уразумел, что лучшей защитой от политики является деятельность. Делать политику самому! Поддерживать политических крикунов, за которыми бежит толпа, ощущать именно таких крикунов, толкать за ними толпу, разбрасывая между ними медяки, а самому в это время стоять в стороне и наслаждаться одиночеством.
Только одинокое сердце бьется размеренно и спокойно.
Доктор Лобке между тем разглагольствовал о государстве и праве.
– Право базируется на неравенстве,– говорил он.– Чтобы сделать всех людей равными, нужно лишить их прав, оставив только долг. Добиваться, чтобы все были равны не перед правом, а перед долгом,– вот в чем смысл сущности государства. А долга нет там, где нет веры. Герр Аденауэр отметил это чрезвычайно тонко и точно. Библейский Декалог, который перечисляет десять главнейших обязанностей человека, куда более мудр, чем все так называемые конституции, вместе взятые. Мы, германцы, должны гордиться тем, что среди нас нашелся человек, который объединит немцев вокруг символов христианской веры и поведет к новому расцвету. Когда умирал Александр Македонский, спросили, кому он передаст империю. Он ответил коротко: «Наилучшему». Для нашей несчастной империи я вижу только одного такого наилучшего. Он среди нас, господа!
– Капитулировала немецкая армия, но не капитулировал немецкий народ,– сказал Аденауэр.– Как хорошо, если бы мир помнил об этом. Мы еще скажем свое слово, нас еще услышат. Из народа побежденного и угнетенного мы станем народом свободным и вновь великим.
– Величие в богатстве,– утверждал Лобке.– Если мы позволим уничтожить богатства нашей страны, если разрешим уничтожить самых энергичных, самых верных сынов Германии, мы никогда не подымемся с колен! Я не могу без страха думать о том, что союзники намереваются судить наших промышленников и банкиров. Судить Шахта и Круппа, Флика, Функа! Что ж это такое, господа? Представьте себе, что мы победили и стали бы судить американских и английских промышленников, которые производили оружие! Это же нонсенс! Раз идет война, кто-нибудь ведь должен делать самолеты, пушки, танки, подводные лодки! Иначе его сразу же объявят изменником. Он будет просто паршивой свиньей, если откажется помогать своей стране. И таких людей теперь собираются судить!
– Этого требуют большевики,– нарушил молчание Пфердменгес.
– А разве мы живем на свете для того, чтоб потакать большевикам? Мы прежде всего деловые люди. И должны заботиться о своих интересах, об интересах Германии. Судьба Круппа – это судьба немецкой промышленности. А судьба промышленности – это судьба Германии.
– К сожалению, спасти заводы Круппа невозможно,– сказал Аденауэр.– Во-первых, они сильно пострадали от бомбардировок. На один только Эссен совершено пятьдесят крупных налетов. Металлургические заводы, как таковые, уничтожены. Во-вторых, Круппу предъявлено обвинение не только в подготовке и развязывании войны (за это полагается отвечать политикам, а не промышленникам), но его обвиняют также в ограблении захваченных нацистами территорий и в использовании рабской силы. На предприятиях Круппа работали десятки тысяч военнопленных и завезенных с Востока рабочих; там эксплуатировали польских и еврейских детей. За это ухватятся союзники, и тут пока что ничем не поможешь. Мы имеем дело с известными Гаагскими конвенциями.