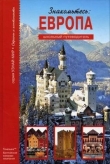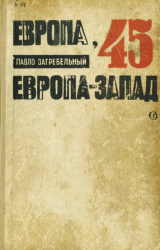
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 43 страниц)
– Пекари всего мира должны быть поэтами,– говорил пан Дулькевич.– Человек, живущий все время среди запахов печеного хлеба, должен быть необыкновенно мечтательным.
Однажды пан Дулькевич залез в темный лаз под большим каменным домом и подал оттуда большую картонную коробку. Он нашел ее, не зажигая даже фонарика, пользуясь лишь своим знаменитым нюхом.
– Держи, пся кошчь!—прошептал он Раймонду Риго, который склонился около закрытого решеткой окошка.
– Что здесь? – спросил француз.– Может, старые носки, которые немка забыла заштопать?
– Вино! – с присвистом прошипел пан Дулькевич.– Вино, пся кошчь, держи же!
Француз открыл коробку. Она доверху была забита сухими стружками. Запахло старым деревом. Риго хорошо знал, что в таких стружках сберегают лучшие вина из домашних запасов. Где-то на дне под спиралями стружек спрятана длинношеяя бутылка из темного как ночь стекла. А в ней, как светлое море в стеклянных берегах, неподвижно застыло вино. Кончиками пальцев француз нащупал бутылку, почувствовав под пальцами фольгу головки. Но в черном окне подвала снова забелело лицо Дулькевича.
– Дай сюда! – раздался шепот.
– Зачем? – удивился француз.
– Пся кошчь, быстро!
– Вернуть бутылку, не откупорив ее, это все равно что расстаться с девушкой без поцелуя,– засмеялся Раймонд. Его пальцы все еще гладили округлые бока бутылки.
– Давай! – крикнул пан Дулькевич.– Я не имею времени на французские церегелии! Прендко!
Удивленный француз подал коробку. Через минуту пан Дулькевич, вздыхая, протащил свое худущее тело через окошко.
– Идем,– коротко бросил он.
– Какая муха укусила мосье? – не унимался француз.
Пан Дулькевич молчал. Михаил не расспрашивал его: знал, что тот и сам не вытерпит, расскажет, что случилось в подвале. Но молчание затянулось.
– Я негодный человек! – воскликнул наконец Дулькевич.– Стопроцентный идиот!..
– Боже, сколько шума из-за одной бутылки вина, к тому же невыпитой! – вздохнул француз.
– Там шесть таких бутылок! – крикнул поляк.– Пся кошчь, шесть! И все одинаковые, и все лежат на одной полочке, на хорошо прилаженной деревянной полочке.
– Они лежат и смеются над вами. И характер же у вас! – продолжал свое француз.
– А над той полочкой еще одна,– не слушая его, говорил пан Дулькевич.– До дьябла симпатичная, а на ней шесть солдатских пилоток. Пся кошчь, и под каждой – белая длинная бумажка с молитвой. Пан понимает, что это значит? Там записаны молитвы за упокой Вилли, Лео, Вальтера, Отто, Альберта и Курта. Немец имел шестерых сыновей, и все они полегли на фронтах. Единственное, что от них осталось отцу,– это их пилотки и воспоминание: солдатики говорили отцу, чтобы он встречал их после войны с бутылкой доброго рейнвейна. Пся кошчь, он таки припас каждому по бутылке! И они долго будут лежать там, эти бутылки, если их не разбомбят англичане. Что же касается меня, то Генрих Дулькевич никогда не был осквернителем чужих могил. Там, в подвале,– домашний пантеон, мосье!
– Такие пантеоны сейчас в каждой немецкой семье,– тихо проговорил Гейнц.
...К утру они вышли на перекресток лесных дорог. Неподалеку белела маленькая гостиница с тихим названием «Цур Таубе» («Под голубем»). Когда-то гостиницу, наверно, заполняли мирные странники, которые сходились вечером в тесном зале ресторанчика, до полуночи потягивали густое пиво из высоких глиняных кружок, изредка бросали друг другу традиционное «прозит» и рассказывали то, что рассказывают все, кто пускается в путешествие: о таинственных красавицах и разбойниках, о том, какие чудеса бывают на свете, о ценах на картошку и лучших рецептах кровяных колбас.
Теперь готические буквы, переплетенные на вывеске, как черные лесные корни, напрасно старались убедить прохожего, что беленький домик прячется под крылом мирной птицы. За стенами гостиницы угадывалось другое: топот сапог на гулкой деревянной лестнице, грубые солдатские шутки, ругань, следы ваксы на простынях и запах казармы во всем доме. По шоссе теперь слонялись тысячи людей в мундирах жабьего цвета. Этот цвет царил и внутри гостиницы, хоть и красовалась она снежной белизной своих стен.
Партизаны не отважились войти в гостиницу. Снова осняк, сноба брошенные на снег разлапистые ветки, снова часовой на опушке оберегает покой товарищей.
Первым на дежурство стал Вернер. Перед ним пустынное шоссе и одинокий домик. Там, в домике, идет какая-то своя жизнь, там тишина и тепло. Может быть, даже любовь нашла здесь случайный приют, любовь, которой Юджин так и не успел узнать.
Впереди еще много времени. Можно делать, что хочется. Насвистывать блюзы Луи Армстронга. Любоваться фотографиями своего петуха, затертое изображение которого напоминает головной убор индейского вождя из Нью-Мексико. Танцевать, чтоб не замерзли ноги, или пробовать доплюнуть до первого сучка сосны. Все равно до утра не покажется ни одно живое существо.
Однако американец все свое внимание сосредоточил на двери домика, на низенькой красной двери под вывеской «Отель Цур Таубе». Что-то подсказывало Юджину, что дверь вот-вот откроется, ему даже казалось, что он слышит голоса. Он не мог оторвать взгляда от этой двери: чувствовал, что готовится что-то неожиданное.
И он угадал. Низенькая красная дверь под готической вывеской тихо открылась. С минуту в верхнем проходе не было никого, а потом вдруг вышел оттуда... американец!
Юджин протер глаза. Призрак не исчезал. На пороге отеля «Цур Таубе» торчал самый настоящий «джи-ай» – солдат американской армии в стальном круглом шлеме, в куртке цвета хаки с черным меховым воротником, с полевыми погонами. Солдат был не один. Его провожала женщина в клетчатой широкой юбке и теплом шерстяном платке, наброшенном на плечи. Женщина опиралась на плечо солдата. Она разомлела после сна, жалась от холода и не хотела отпускать от себя здорового, сильного мужчину. Тот обнял ее за плечи, оглянулся, быстро поцеловал в губы и толкнул назад в дверь. Она махнула ему вслед рукой, но американец не оглянулся, быстро сбежал по ступенькам вниз и, насвистывая, пошел по шоссе, воровато озираясь.
Это был американец – Юджин дал бы отрубить себе руку в доказательство такой очевидной истины. Но что же тогда делается на белом свете? Может, Юджин не в Германии, а в Америке? Может, сегодня не декабрь, а весенний «день коротких кальсон», когда все американские парни подшучивают друг над другом? Но нет, теперь не весна, а холодный декабрь. Может, пока они блуждали по лесам, сюда дошла американская армия? Но фронт ведь очень далеко. Даже канонады не слышно по ночам. И немцы последнее время так суетились, словно не американцы хотят наступать, а они сами готовятся отбросить американцев назад к океану.
Американец весело шагал по шоссе, топал новыми ботинками, усмехался, словно после двадцатипятицентового солдатского завтрака, и насвистывал, как насвистывают все американские солдаты. Ему бы еще резинку в рот – и перед вами стопроцентный янки. Но кто же будет жевать резину после такого поцелуя!
Больше Юджин не мог терпеть. Он оставил свой наблюдательный пункт, сбежал к сосне, что росла у самого шоссе, и, когда американец поравнялся с ним, тихо позвал:
– Хэлло! Парень, как ты сюда попал?
Тот испуганно прыгнул в кусты. Но кто же прячется в голые кусты зимой! Юджин, не теряя времени, вышел из своего укрытия.
– Ты что, испугался? – спросил он по-английски.
Увидев эсэсовца, «американец» немного успокоился.
Правда, из кустов не вылез, но лицо его снова приобрело самоуверенное, немного даже нахальное выражение.
– Фу ты черт,– сказал он по-немецки,– а я думал, это кто-нибудь из начальства.
– А я тебе не начальство? – начиная подозревать что-то недоброе, тоже по-немецки проговорил Юджин. Он намекал на свои унтер-офицерские погоны.
– У меня такое начальство знаешь где сидит? – солдат выразительно похлопал себя по штанам.– Я сам был фельдфебелем СС, а теперь вот, видишь...
– Перелицевали в американца?
– Перелицевали. Разве не видишь, доннерветтер?
– И ты говоришь по-английски?
– А что тебе сказать? – уже по-английски спросил бывший эсэсовец.
– Ну, например, что ты – болван.
– Это почему?
– Вырядился в американскую форму и разгуливаешь.
– А какое твое собачье дело?
– А такое, что у нашего отряда специальное задание: вылавливать таких субчиков, как ты, и посылать в гиммельсфарткоманду.[46]
– За что?
– За разглашение военных тайн!
– Какая же здесь тайна? Просто собрали со всей немецкой армии ребяток, которые знают чуть-чуть по-английски, приехал к нам штандартенфюрер Отто Скорцени и готовит грандиозную диверсию. Ему, видишь ли, мало Муссолини, за которого фюрер объявил Отто народным героем «третьей империи» и из капитана сразу сделал полковником.
– Так, значит, и я мог бы попасть в вашу банду? – засмеялся Юджин.
– А ты знаешь английский?.
– Немного.
– А ну, скажи что-нибудь.
– Ну, я могу сказать, что ты отменно поцеловал эту Деву!
– Плоховато ты говоришь. Акцент слышен. Вряд ли тебя возьмут. И на мускулы не посмотрят. Правда, наше начальство любит таких здоровенных лоботрясов. А это серьезно, что ты вылавливаешь здесь липовых американцев?
– Нет, наша группа выполняет специальное задание. Я просто хотел тебя напугать. Нет сигаретки?
– Как это нет! Самый настоящий американский «Кемел»!
«Американец» достал четырехугольную пачку с оттиснутым сверху рыжим верблюдом.
– Есть даже резинка. Все как у настоящих американцев. Нет только оружия.
– Почему это?
– Никак не могу достать. Какой-то пролаза закупил нам автоматы и пулеметы, но транспорт запаздывает. Отто страшно нервничает. Через несколько дней мы должны идти на акцию, а у парней ни одной пукалки. Сидим в казармах, две тысячи солдат и офицеров, и на всех – одна винтовка у часового возле ворот и еще восьмимиллиметровый пистолет у Скорцени. Он уже где-то добыл. Носит в белой брезентовой кобуре, нацепил прямо на пуп. Задается, зараза!
– Значит, вы воюете с женщинами?
– Стараемся, как можем. Фельдфебель у нас скотина, за каждую ночь отлучки берет двенадцать марок!
– И тебе жалко двенадцать марок?
Не в этом дело! Жалко отдавать их этой твари фельдфебелю. Я ведь сам такой же фельдфебель. Фюрер ничего не жалеет для нашей победы, а я буду жалеть какие-то двенадцать марок! Тем более что приехал с Восточного фронта.
– Ты был на Восточном фронте? И вернулся целым?
– Еще привез полный карман денег!
– Фронтовикам всегда хорошо платили.
– Ты думаешь, я был на передовой? В айнзатцкоманде!
– Ловили партизан?
– Хуже: жгли украинские села!
– Ну, это действительно не солдатское дело!
– Я прошел от Харькова до Львова. И везде жег. Там почти все дома покрыты соломой. Сухая как порох. Нам хорошо платили, конечно. За каждую избу.
– Сейчас вы, наверно, тоже зарабатываете хорошо?
– О, не говори! Я вижу, тебе хочется погреть руки возле нашего огонька. Ну, признавайся! Жаль, что у тебя акцент. Скажи еще что-нибудь по-английски.
– На этот раз вам придется, наверно, основательно поработать? – по-английски спросил Юджин.
– Нет, твой английский язык никуда не годится! Говоришь, как ученик гимназии. Нас выбросят в тыл на парашютах, мы захватим мосты через Маас, к которым через несколько дней должны будут пробиться танки Зеппа Дитриха. Группа ребят под руководством самого Отто Скорцени проберется в ставку верховного главнокомандующего и ухлопает этого их, как он у них называется.
– Эйзенхауэра?
– Вот-вот. Американцы называют его Айком. Ну, если до него доберется Отто Скорцени, то он только айкнет. Штандартенфюрер не таких субчиков отправлял в прогулку на небо.
– В гиммельсфартскоманду?
– Ну да!
– А помнишь, ведь я сегодня тебе тоже обещал вознесение на небо.
– Ну, ну... Ты не задавайся!
– Я пошутил. А после? Что будете делать дальше?
– Наше дело – устроить переполох. Остальное докончат танкисты. А мы подадимся в Альпы. На редут.
– На какой редут?
– Ты что – не слышал? Национальный редут Германии. Если Советам удастся прорваться за Балканы и в Альпы, они встретят в Австрии такой орешек, что поломают об него все свои зубы. Ясно тебе?
– А ну, сволота, поднимай руки вверх! – на чистейшем английском языке приказал Юджин.– И шагом марш вон туда, впереди меня.
– Да ты что, доннерветтер!
– Руки вверх!—Юджин потянул за рукоятку затвора автомата.– Я тебе покажу и Айка, и украинские села, и австрийский редут!.. Ну?!
– Ты что – опух?
– Ты липовый немецкий американец, а я настоящий американский немец. То-то! Ну, шевелись! И побыстрее!
Немец с поднятыми вверх руками полез наверх, к соснам. Снег сыпался из-под его новеньких американских ботинок, подбитых толстой подошвой из кожи техасских быков.
В сосняке их ждали. Кто-то заметил, что Юджин исчез со своего наблюдательного пункта, и Михаил послал Клифтона посмотреть, куда делся часовой. Англичанин вернулся быстро. Он торжественно вышагивал впереди, за ним шли эсэсовец и Юджин.
– Это кто? – спросил Михаил.– Земляка нашел?
– Мне земляк по одежде, а тебе по тому, что жег украинские села. Если хорошо потрясти эту штучку, окажется, что он всем нам «земляк». Гауптшарфюрер СС, поджигатель и убийца. Милости просим!
– Я никого не убивал! – крикнул эсэсовец.
– Предлагаю судить эту сволочь,– сказал Юджин.– Нашим партизанским трибуналом.
Все поднялись.
Михаил выпрямился, лицо его побледнело, когда он сказал:
– Представитель Польши майор Генрих Дулькевич!
– Так есть, пан командир! – вытянулся поляк.
– Назначаетесь председателем трибунала.
– Так есть!
– Представитель Чехословакии, композитор Франтишек Сливка!
– Здесь!
– Представитель Франции капрал Раймонд Риго!
– Да, мосье!
– Представитель Англии сержант Клифтон Честер!
– Да, сэр!
– Вы назначаетесь членами трибунала.
Эсэсовец вертел головой во все стороны, как старый волк в капкане. Здесь, наверно, собралась вся Европа, чтобы судить его, чтобы припомнить все преступления, все грехи, все зло, которое он причинил людям. Он упал на колени:
– Пощадите, помилуйте!..
Юджин уперся автоматом чуть ли не в спину эсэсовца, еле удерживаясь от желания вкатить в нее добрую очередь.
Пан Дулькевич одернул шинель, удобнее приладил на шее ремень автомата и обратился к Михаилу:
– Четное число, пан командир. Прошу назначить еще одного члена трибунала.
– Вы имеете трех человек – число нечетное,– ответил командир.– Председатель трибунала в счет не идет.
– А вы, пан Скиба? Ведь он был на Украине, жег там, стрелял...
– Я полагаюсь на вас, товарищи. Судите.
Вел допрос пан Дулькевич.
– Имя?
– Фридрих.
– Фамилия?
– Поске.
– Профессия?
– Солдат.
– Гражданская профессия?
– Нет.
– Где служил?
– В фатерланде.
– Еще?
– В протекторате.
– То есть в Чехословакии?
– Яволь.
– Еще где?
– В Польше, во Франции, в Голландии...
– Еще?
– В Норвегии, в Италии, в Югославии.
– Еще?
– На Украине.
– Еще?
– В Белоруссии.
– Прошу, Панове,– обернулся пан Дулькевич к членам трибунала.– Эти ноги достаточно хорошо изучили географию Европы. Что делал в этих странах? Что делал в Польше? Пытал людей? Расстреливал?
– Я ни в кого не стрелял! Я не стрелял, никогда не стрелял! – закричал эсэсовец.
– Пан фашист может считать, что мы ему поверили. Что же он тогда делал в Польше? Грабил?
– Не грабил! Я не грабил! – снова закричал эсэсовец.
– Это не эсэсовец, а девственница,– заметил француз.– Он ничего не делал, не убивал, не крал, не жег. Ездил, наверно, по Европе, как турист.
– Яволь, яволь,– забормотал гауптшарфюрер.– Я путешествовал по Европе, я люблю путешествовать...
– А села на Украине кто жег? – Юджин толкнул его автоматом.
– Пан Вернер,– обратился к американцу Дулькевич,– прошу не нарушать процедуру. Вопросы ставить могут лишь члены трибунала. Вы имеете право выступить как свидетель. Гауптшарфюрер Поске, отвечайте трибуналу: с какой целью вы ездили по Европе?
– Я солдат. Мне приказывали. Я ездил вместе с армией.
– С частями СС. Да?
– Яволь.
– С теми самыми частями, которые жгли Орадур и расстреливали женщин и детей? – спросил француз.
– Которые уничтожили Лидице? – тихо проговорил Франтишек Сливка.
– С теми, что удерживали на берегах Ла-Манша бетонированные укрепления для запуска «фау»? – добавил англичанин.
– С теми, что разрушили Варшаву? Пытали поляков? Жгли Украину и Белоруссию? С теми?
Эсэсовец молчал.
– Пану тесно было в Германии. Немецкая земля скупая и неприветливая. Так?
– Да.
– Пану хотелось хорошей земли. Верно?
– Да.
– Больше пан ни о чем не думал. Правильно я говорю?
– Правильно.
Дулькевич допросил в качестве свидетеля Юджина. После этого член трибунала Сливка заметил:
– Меня беспокоит то, что подсудимый не признал ни одной своей провинности...
Но юридическая подготовка пана Дулькевича после допросов и пыток в Моабите оказалась большей, чем мог подумать кто-либо из присутствующих. Председатель трибунала терпеливо разъяснял чеху:
– Можем ли мы отличить правду в словах подсудимого от неправды, если нет свидетелей? Независимо от показаний подсудимого нам известна серия преступлений, участником которых он был. Подсудимый признает: он мечтал о захвате чужих земель. Ему хотелось чужой земли. Я полагаю, что этого достаточно для вынесения приговора. Прошу панов членов трибунала высказаться. Пан Честер!
– Достаточно.
– Пан Риго?
– Достаточно.
– Пан Сливка?
– Достаточно.
– Позволю себе, Панове, от вашего имени сформулировать приговор нашего высокого трибунала. Прошу встать!
Все встали. Пан Дулькевич еще раз одернул шинель. Голос у него зазвенел:
– Партизанский трибунал, выслушав показания подсудимого, бывшего гауптшарфюрера войск СС Фридриха Лоске, и признав его виновным в наибольшем преступлении на свете – посягательстве и вооруженном нападении на чужие земли, приговаривает...
Пан Дулькевич сделал паузу.
– Фридриху Поске съесть три килограмма немецкой земли. Прошу голосовать. Пан Сливка?
– Я за.
– Пан Риго?
– За!
– Пан Честер?
– Тоже за!
– Пан Вернер, трибунал просит выполнить приговор.
Юджину не надо было повторять дважды. Он разгреб снег носком ботинка, толкнул эсэсовца на рыжую каменистую землю и приказал:
– Ешь!
Эсэсовец смотрел на землю полными слез глазами. Похоже, что он впервые увидел свою немецкую землю, сухую, каменистую, черствую. Он обрадовался радостью тупого животного, которого не убивают, а только заставили посмотреть на нож. Что же, правда есть землю?
– Ешь, подлая тварь!
И он припал к земле. Сгреб ногтями смерзшиеся комья, затолкал в рот, вытаращив глаза, попробовал проглотить.
– Жуй! – толкнул его американец.
Эсэсовец жевал. Камни хрустели у него на зубах. Это тебе не нежинские огурчики, которыми ты лакомился на Украине! Не французские шоколады! Не английские сандвичи, о которых ты мечтал, глядя из Кале на белые скалы Дувра! Юджин не позволял эсэсовцу глотнуть даже комочек снега – ешь землю, землю! Это тебе за то, что наливал свое чрево знаменитым пильзенским пивом! Это тебе, собака, за польские голубцы, завернутые в сочные капустные листья!
– Ешь! Жри! Жуй!
И он ел, жрал, жевал. Мычал, чихал, как кот, которому дали понюхать жженое перо, вытирал слезы и заталкивал, заталкивал в рот землю. Знал: чем больше съест, тем милостивее будут его судьи, тем дальше от него будет то, о чем страшно подумать,– смерть.
Эсэсовец долго давился землей. Глотал, пока всем не надоело смотреть на его физиономию.
– Достаточно,– сказал Дулькевич.– Пан запомнит этот маленький эпизод из своей жизни. Пусть рассказывает всем: своим друзьям, детям и внукам. Если они когда-нибудь будут... Пан скажет им: «Не зарьтесь на чужую землю! Для человека достаточно одного килограмма своей земли, чтобы быть сытым на всю жизнь». Не так ли, пан?
Эсэсовец что-то промычал в ответ и закивал головой.
– А теперь мы отпустим пана на все четыре стороны, и пусть он расскажет все, что видел,– продолжал поляк.
– Нет, он поведет нас сегодня ночью к казармам,– сказал Михаил.– Привяжите его к дереву. Пусть немножко остынет после теплой постели в «Голубе».
– Это будет замечательно – разогнать банду, что сидит там и мечтает погулять по тылам американской армии! – воскликнул Юджин.– Командир решил правильно.
...Ночью они подошли к казармам, расположенным на окраине города Гемер. Юджин и пан Дулькевич впереди вели эсэсовца. Перед воротами их остановил часовой:
– Стой! Пропуск?
– «Вестфалия»,– ответил эсэсовец.
– Ты что – вчерашним днем живешь? Говори сегодняшний!
– А если мы со вчерашнего не были в казармах?
– Тогда по вас плачет карцер! Сейчас позову вахмистра.
– Подожди, куда спешишь? Пачку сигарет хочешь?
– Чихал я на твои сигареты! Я некурящий!
– Нашли кого ставить на пост! Ну бутылку шнапса!
– Не пью!
– Может, ты выскочил из монастыря? Девчата тебя тоже не интересуют?
– У меня есть жена и двое детей. Идите сюда и подожди-те, пока я вызову начальника караула. Посидите в карцере, тогда будете знать.
Юджин подтолкнул эсэсовца вперед: «Покажись ему, подойди поближе! » Тот прошел несколько шагов и остановился между партизанами и часовым. Часовой присмотрелся и свистнул:
– Э-э, да ты, я вижу, из пижонов! Вырядился в американскую форму и разгуливаешь по бабам! Здесь пахнет большим, чем карцер. Разглашение военной тайны! Преступление перед фатерландом! Ого! А те субчики – тоже пижоны?
Часовому приятно было чувствовать себя хозяином положения.
– Эй, ты,– сказал он эсэсовцу,– ты что ползешь один? А твои дружки? Подходите все сразу. Нет у меня времени устраивать прием для каждого в отдельности. Сдам вас целой пачкой. Ну!..
Партизаны на миг замешкались. Эсэсовец, заметив, что внимание их сосредоточилось на часовом, отскочил в сторону к воротам.
– Стреляй! – закричал он. – Стреляй – это партизаны! Стреляй!..
Часовой растерялся. Он был из тех, что за долгие годы войны привыкли ко всему. Разве не он сам под видом польского жолнера провоцировал в сентябре тридцать девятого года нападение Германии на Польшу? Разве не он в форме гвардейца датского короля бежал по улицам Копенгагена в сороковом году? Разве не его сбрасывали под Киевом летом сорок первого года в форме советского милиционера, чтобы жечь, убивать и резать. Неудивительно, что часовой растерялся и не знал, в кого стрелять: в того, что подбежал к нему, или в тех, кто сзади. На первом была американская форма, которая лежала в каптерках у фельдфебеля, остальные были в настоящих эсэсовских шинелях. Часовой не выстрелил. Эсэсовец подскочил к нему, схватил его винтовку. Он хотел отомстить за свой страх, за три килограмма земли, которую проглотил утром. Наука пана Дулькевича пропала даром.
Но в распоряжении Юджина было достаточно времени, чтобы на бегу выбросить вперед короткое тело автомата и нажать на спусковой крючок. Эсэсовец свалился на снег. Часовой не стал ждать развязки. Очередь из партизанского автомата прогремела тогда, когда полы его шинели мелькали уже по ту сторону ворот.
Партизаны тоже побежали туда, через широкий плац, к хмурым четырехугольным казармам. Пиппо Бенедетти и Клифтон Честер остались у ворот.
Часовой вскочил в первую казарму. Наверно, он сразу поднял переполох, но еще больший переполох вызвала граната. Юджин бросил ее в окно нижнего этажа. Гранаты полетели одна за другой. Пули полоснули по стеклам. Партизаны бежали от одной казармы к другой, а позади разрасталась паника. На двор выскакивали очумелые немцы. Выскакивали в белье, в немецких мундирах и в американской форме. Никто ничего не понимал, никто не знал, кто напал на казармы, откуда пришла опасность. Несколько человек наткнулись на партизан, но ни одному из них, наверно, не пришло в голову, что это и есть враги. Где-то стреляли из пистолетов, наверно офицеры, наобум. Самые догадливые бросились за казармы, где были гаражи, и вскоре мимо партизан стали пролетать одна за другой машины: грузовики, легковые, вездеходы и даже броневик.
Юджин, который сегодня возглавлял операцию, тоже бросился к гаражу. Он вскочил в первую попавшуюся машину и вдруг увидел перед собой белый автомобиль, раз-малеванный большими красными крестами. Отчаянная идея возникла в голове американца. Прыжок к дверце – и Юджин уже в кабине. Удар ручкой пистолета по щитку – и открылись гибкие змейки электропроводки. Несколько движений ловкими пальцами – и уже работает зажигание без ключа, можно заводить мотор. Стартер действовал безотказно – машина завелась сразу. Юджин вырулил к воротам.
– Хэлло! – крикнул он товарищам. – Садитесь в карету! Будем выбираться из этой ярмарки! Верно, герр группенфюрер?
«Группенфюрер» вскочил на подножку, размахивая автоматом, подождал, пока все скроются в закрытом кузове. Какой-то эсэсовец, не разобравшись, что за люди, хотел присоединиться к ним. Гейнц Корн оттолкнул его прикладом:
– Иди, не смерди тут!
У ворот они остановились, чтобы взять Клифтона и Пиппо. Мимо них бежали перепуганные эсэсовцы, цеплялись за подножки.
– А ну, отцепись! – кричал Юджин. – Что говорю! Раненых здесь нет, а перепуганных не берем! Шпарь пехотой!
ПОД ДИКИМ ВЕТРОМ
Михаил положил руку на плечо Юджину:
– Бензина много?
– Километров на триста.
– Куда едем?
– А я откуда знаю? У меня есть командир! – Американец засмеялся.
Он был доволен собой. Сумел вывезти товарищей из этой каши. Что там делается сейчас!..
– Думаю, надо рвануть на юг, в Альпы, найти эсэсовский редут. Вот это будет операция!..
– Давай порадуем Гейнца,– предложил Михаил.
– Чем?
– Заедем в его родной город, пусть повидается с женой. Это как раз на юг отсюда, а там – и на Альпы. Однако почему мы решаем судьбу Гейнца, не спросив его самого? – Михаил отодвинул стекло, отделявшее кабину от кузова, позвал Корна.
– Хочешь, заедем к твоей жене?
– Об этом можно было бы и не спрашивать, командир. Только опасно. За Дорис, если она еще на свободе, наверно, слежка.
Михаил наклонился к Гейнцу:
– Опасно? Дорогая цена? Отец мой говорил: если тебе что нравится, не торгуйся. И потом, я не верю, чтобы гестапо полгода следило за ней в такое время, когда все летит кувырком.
– Ах, командир! – вздохнул Гейнц.– Вы не знаете, что такое гестапо.
– Что ж, поборемся и с гестапо. Как думаешь, Юджин?
– Украли у гестаповцев Гейнца, теперь украдем и его жену. Как называется твой город?
– Дельбрюк.
– Далеко до него?
– Три часа езды.
– Значит, к утру будем там?
– Конечно. Вот здесь возьми направо.
Наконец-то хоть один из них ехал домой, навстречу радости и любви!
В кузове шла спокойная, неторопливая беседа.
– Всегда мечтал встретить такую женщину, чтобы влюбиться с первого взгляда,– вздохнул пан Дулькевич.
Француз засмеялся:
– С первого взгляда – это все равно что вскочить в трамвай, не посмотрев на номер.
– О, что пан понимает!..
– Я против того, чтобы тратить большую половину жизни на женщин. Обратите лучше внимание на мужчин, с которыми вам приходится работать, создавать и защищать государство, найдите среди них преданных друзей, товарищей. Заверяю вас, что это будет интереснее.
– Пан Риго полгода тому назад призывал нас все внимание направить на женщин, а теперь призывает к противоположному. Был такой польский фильм «Его величество субъект». Пан имеет психологию этого субъекта.
– Благодарю за комплимент!..
– Прошу пана!
– Для чего синьор Дулькевич старается показать себя злым человеком? – тихо сказал Пиппо Бенедетти.– Ведь мы все знаем, что он очень добрый.
Пан Дулькевич повернулся в сторону итальянца так быстро, словно тот укусил его.
– Есть два сорта добрых людей, прошу пана,– те, что умерли, и те, что еще не родились.
На рассвете наконец добрались до Дельбрюка, прогремели по длиннейшей центральной улице, потом Юджин свернул вправо, и машина остановилась. Старая мостовая от дождей осела посредине, прогнулась кривым каменным желобом. Машина остановилась по одну сторону желоба. С другой стороны стоял четырехэтажный дом из красного кирпича. У каждого из них где-то был такой дом.
Сегодня на долю одного из них выпала короткая минута счастья. Что же, они не завидовали! Даже пан Дулькевич, когда высокая фигура Гейнца скрылась в темном подъезде, шепнул французу:
– Если у домов отнять воспоминания о любви, они превратятся в груду мертвого камня. Пан согласен со мной?
– Полностью.
Михаил расставил их вокруг дома, на другой стороне улицы, у соседних ворот, в подъезде – везде могла грозить опасность. Он не знал – да и кто из них мог знать! – что опасность придет совсем не оттуда, откуда они ее ждали.
Никто не видел, как к стеклу одного из окон первого этажа прижалось изнутри белое пятно детского лица. Не видели, как одиннадцатилетний мальчик – круглоголовый, русый соплячок – торопливо натягивал на себя коричневую рубашечку с одним погоном на правом плече, как он обувался, как выбежал из квартиры и затих в темном уголке под лестницей.
Зато мальчишка видел все. Видел большую санитарную машину, слышал, как открылась дверь квартиры на третьем этаже, той самой квартиры, за которой он с товарищем по «Гитлерюгенду» следил несколько месяцев и скрип дверей которой изучил за это время не хуже, чем голоса своих «ляйтеров»[47]. Ляйтеры поучали его с семилетнего возраста: «На свете есть Германия и фюрер, перед которыми ты должен склониться, приказы которых ты должен выполнять, и есть враги, в которых надо стрелять. Стрелять, как в мишень». Эти ляйтеры, так и не дождавшись, когда их воспитанники завоюют мир, весной сорок пятого года послали тысячи двенадцатилетних мальчиков под командой генерала Венка умирать за фюрера, за коричневые рубашки с одним погончиком и маленький кинжал в черных ножнах, повешенный через плечо.
Один из таких выкормышей «Гитлерюгенда», содрогаясь от страха и холода, сжимая острый кинжальчик, сидел под лестницей и прислушивался к тому, как с третьего этажа спускаются двое. Он различил шаги женщины, за которой ему поручили следить, легкие, пружинистые шаги женщины, в которую он был тайно влюблен. Услышал также, что с женщиной идет мужчина: так твердо и тяжело ступать мог, конечно, только мужчина.
Мальчишка не отважился выглянуть на улицу сразу же. Он не видел, как Гейнц и Дорис подошли к машине, как немец знакомил жену с товарищами. Захлебываясь от счастья, Гейнц сообщил товарищам, что они с женой ждут сына. Но стоило Юджину завести мотор, как из подъезда тотчас высунулась маленькая головка в черной пилотке. Она моргнула глазками, шмыгнула носом и скрылась за двёрью.
А еще через несколько минут телефон разнес по всему правобережью приказ: проследить, куда идет машина. На левый берег она прорваться не могла.
Затянутые в блестящую кожу мотоциклисты выводили из гаражей свои «цюндапы» и «бмв». В Дейце и Зигбурге, в Леверкузене и Вуппертале ожидали появления белой машины с красными крестами. Из Кельна черев мост Гинденбурга прошумели два черных длинных лимузина и стали на перекрестке.
Машину засекли, когда она выезжала из Дейца. В Зигбурге два мотоциклиста попробовали задержать автомобиль, но командир крикнул Юджину: «Дави!»—и тот пошел на двухколесные «цюндапы», как бульдозер. На тесных изогнутых улицах трудно было набрать нужную скорость. Когда наконец выбрались из Зигбурга, Юджин в боковое зеркальце увидел, что за ними идут два черных лимузина. Они мчались почти вплотную за машиной, прижимаясь к земле, как охотничьи псы. Американец указал Михаилу на зеркальце. Тот взглянул и глазами спросил: «Погоня?» – «Не знаю. Наверно»,– тоже глазами ответил Юджин.