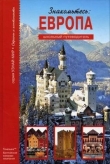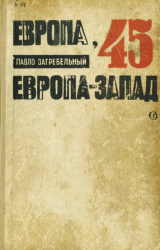
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 43 страниц)
Капитан Билл поспешно отдавал приказания. Круглые кулаки «панцерфаустов» угрожающе высунулись из-за камней, нацеливаясь в то место, где должен был появиться первый танк. Партизаны устраивались поближе к шоссе, чтобы пустить в действие гранаты. Пиппо Бенедетти с сожалением посматривал на мощные стволы спиленных позавчера груш, лежащих по обочинам дороги. Загораживать ими шоссе уже не оставалось времени.
И как это они вдруг решили, что война окончилась, что боев больше не будет, что враг уничтожен? Ведь никто толком ничего не знал. Не знали, взят ли Берлин, передвигаются ли еще по широким полям Европы огромные армии или уже остановились на мирный постой? Неизвестно – катят на них теперь вражеские танки или союзнические, столь долго ожидаемые танки хваленого-перехваленного американского генерала Кларка, который вступал своими стальными колоннами в вечный Рим по вечной дороге цезарей – виа Аппиа.
Небо излучало над горами серебристое сияние. Тяжелые тучи, которыми оно было обложено все эти дни, наконец рассеялись. Небо очищалось и радовалось, было такое прекрасное и спокойное, прямо за душу хватало! И вспомнилась Михаилу песня-стон, песня-мечта: «Чому меш, боже, ти крилець не дав, я б землю покинув i в небо злiтав...»
Первый танк выскочил из-за изгиба дороги, охватил пространство твердой рукой орудийного дула, стрельнул сизым чадом из выхлопных патрубков и быстро понес свое многотонное тело туда, где затаились партизаны.
Впереди, закрывая крутой лоб танка, прикрывая его широкие лапы-гусеницы, поблескивал огромный стальной резак, какой-то удивительный острый совок, навечно приклепанный к танку, выставленный вперед, как непробиваемый щит.
– Бульдозер,– сказал капитан Билл Михаилу.– Танк-бульдозер для расчистки завалов на городских улицах и узких шоссе. Американская штучка.
– Так что наши груши так или иначе не сдержали бы этой чертовщины,– пробормотал Скиба,– танк сразу смел бы их с дороги.
– Расчищать завалы можно тогда, когда возле шоссе друзья,– капитан Билл усмехнулся.– А если бы здесь были боши?
Однако американцы уже, вероятно, знали, что район этот контролируется партизанами,– танкисты совсем забыли о предосторожности. Башенный люк переднего танка был открыт, и в нем, высунувшись по пояс, стоял американец в каске, совершенно невооруженный. Довольно равнодушно он посматривал вокруг, его челюсти медленно шевелились,– очевидно, он дожевывал свою резинку, положенную в рот еще с того времени, когда их колонна начала марш по этому шоссе, тянущемуся вдоль ущелий. Он и не подумал оглянуться назад, чтоб убедиться, не отстала ли колонна, не слишком ли вырвался вперед его танк.
Капитан Билл поднялся из своего укрытия и помахал над головой автоматом.
– Э-э-эй! – крикнул он в сторону американца.– Эй-эй– эй! Партизаны! Партизаны!
Он кричал так, будто американец мог его услышать. Колонна уже вытягивалась за головным танком-бульдозером на прямую ленту шоссе. Скрежет металла наползал на кучку партизан отовсюду, топтал, мял, уничтожал слабые человеческие голоса, однако капитан Билл продолжал выкрикивать: «Партизаны! Партизаны!», а за ним поднялись все его товарищи и тоже махали оружием, расцветали улыбками, кричали радостно и беспечно: «Партизаны! Партизаны!»
В железных чревах танков, очевидно, прозвучала команда – и колонна остановилась. Моторы уже не гремели, а тихо ворчали, словно свирепые псы на цепи. Только смрадный чад по-прежнему вырывался из кривых патрубков под танковыми моторами, паскудил чистый воздух, карабкался своими грязными лапищами в чистое, прекрасное небо.
Партизаны высыпали на шоссе и побежали в сторону головного танка. Горсточка людей, капелька огромной армии борцов против фашизма, они бежали к своим товарищам по оружию, бежали, чтобы приветствовать их, так долго, так тяжко ожидаемых, бежали, чтобы соединиться с ними, слиться в единую силу, бежали в ожидании братских слов, привета и радости, точно такой, какая отражалась на их лицах, расцветала в их сердцах.
Грозное бормотанье ударило им в грудь. Черный вихрь пролетел низко над землей, едва не задевая их голов, шальной смертельный вихрь ненависти и угрозы.
Донельзя изумленные, встревоженные, возмущенные партизаны остановились. Что это значит? С переднего танка навстречу им бил пулемет, расстилая веера пуль над партизанскими головами, приказывая остановиться, распластаться на земле, замереть в страхе и покорности.
Скиба, рискуя получить в руку с десяток американских пуль, поднял автомат и потряс им.
– Мы партизаны! Партизаны! – закричал он в отчаянии и выругался так круто, как, пожалуй, не ругался за всю войну.
Невидимые железные звери во чревах танков рычали, словно требуя поживы. Пулемет продолжал стрелять, хотя теперь уже все партизаны размахивали оружием и кричали так, что их, пожалуй, слышно было не только в первом танке, но и во всех остальных: «Не стреляйте! Мы партизаны!»
Кричали по-итальянски, по-немецки, кричали на чешском языке, на русском. Проклинали невидимого стрелка и того неуязвимо-равнодушного американца в каске, что стоял в люке переднего танка и спокойно жевал резинку.
Наконец пулемет умолк. Рядом с американцем вырос здоровенный негр, сверкнул белозубой улыбкой, нацепил на плечо короткий автомат, легко выпрыгнул из люка и, как тигр выгибая свое сильное двухметровое тело, соскользнул с танка на шоссе.
– Бросай оружие! – рявкнул он.
Его вначале не поняли – тогда он жестами показал, что надо делать. Когда первый из них, к кому он подскочил, отрицательно помотал головой, негр легко вырвал у него автомат из рук и швырнул его прямо под загребущие гусеницы танка.
– Бросай оружие! – снова заревел он, наставляя круглое очко своей автоматической винтовки на партизан.– Бросай оружие!
Указательный палец его правой руки угрожающе лежал на спуске автомата. За спиной у негра громоздились стальные горы танков, ежесекундно готовых смести с лица земли смельчаков, в случае если те откажутся подчиниться этому здоровиле. И партизаны сдались. Первым бросил автомат капитан Билл. Швырнул, проклиная американцев, свое оружие пан Дулькевич. Неуверенно положил на шоссе пистолет Франтишек Сливка. Чуть не со слезами расставались с оружием гарибальдийцы капитана Билла.
– Обыщи их, Уайтджек!—приказал стоящий у башни, вероятно командир.—Хорошенько обыщи их, Уайтджек!
Черный танкист, которого только в насмешку можно было назвать Белым Джеком[53], подбегал то к одному, то к другому партизану и, тыча в грудь своей винтовкой, быстро обшаривал свободной рукой партизанские карманы, ловко ощупывал людей и отпихивал в сторону, ближе к танку.
– Ну что, a farewell to arms?[54]– расхохотался офицер, закуривая сигарету и любуясь, как умело и ловко справляется со своим делом Уайтджек.
«А farewell to arms» ...прощай, оружие... Да читал ли вообще тот офицер Хемингуэя? Вполне вероятно, что читал. Ведь он американец, как и Хемингуэй. Возможно, читал перед тем, как попасть сюда, на север Италии, ведь и Хемингуэй тоже воевал здесь когда-то, в таких, как эти, горах, или то было среди иллирийских холмов, возле мелких лагун, по которым плавали на длинных лодках охотники, и гребцы пели непонятное: «Пизомбо! Пизомбо!» – подзадоривая себя к труду, а охотников – к бдительности. Кто знает, может, и этому лейтенанту осточертела война, и он мечтает о том времени, когда наконец сможет распрощаться с ненавистным оружием и будет иметь дело разве что с дробовиком, который пригодится на тот случай, если он будет скользить в лодке среди камышей по лагунам Адриатики, охотясь за перелетными птицами.
А может быть и так: не имея еще возможности само бросить оружие, охотно помогает в этом другим?
Но чему же тогда он смеется? Почему смеется так нагло и так свысока? Почему подхлестывает своего солдата: «Обыскивай их хорошенько, Уайтджек!» И почему встретил их пулеметной очередью? Их, своих союзников и помощников?
Михаил смотрел, как его товарищи бросают оружие, как летят под гусеницы «шермана» с таким трудом раздобытые, выстраданные автоматы, винтовки и пистолеты, и в ярости стискивал зубы.
Он не отдаст оружия. Ни автомата, ни пистолета, не отдаст ничего. Пусть угрожающе рычат танки, пусть сверлит его глазами этот лейтенант, пускай расправляется с ним неумолимый Уайтджек – он не изменит своего решения! Прощай, оружие? О нет, рано еще с ним прощаться! Еще не время. И не этому скучающему лейтенантику решать, когда должен сдавать оружие он, Михаил Скиба!
Негр был уже рядом. Еще один партизан – и очередь за Михаилом. Уайтджек отлично видел, что Скиба – единственный из всех, кто не сдал оружия. Он увидел, что автомат у Скибы тоже готов стрелять, как и его, Уайтджека, винтовка Браунинга. Возможно, он угадал или просто почувствовал, что решимости у Михаила не меньше, чем у него самого, хотя за ним стояла сила, а за плечами Михаила – всего лишь незащищенное шоссе. И все же негр явно медлил, невольно опасаясь этого странного, почти столь же высокого, как он, партизана, с глазами, темными не то от гнева, не то от презрения.
«Застрелю! – решил тем временем Михаил.– Как толь-ко коснется меня или моего автомата, так и сделаю из него решето. Прощай, оружие? Черта с два!»
Солдат подскочил к Михаилу и остановился в нерешительности.
– Долой оружие! – рявкнул он. Крикнул и оглянулся на своего офицера, так как уже знал, хорошо знал, что партизан не послушается его приказания, не подчинится и не отступит.
Офицер крикнул что-то зло и неразборчиво, что подтолкнуло негра вперед, просто бросило на Михаила, и только дуло автомата остановило его, сразу охладив пыл и рвение. Ни один из них не вышел бы живым из этого поединка – каждый знал это слишком хорошо. Знал, что даже в смертельной конвульсии палец еще нажмет на спуск и загонит в тело противника добрых пол магазина пуль. Отступать они не могли: одного здесь держал приказ, другого – долг человека и солдата.
Негр не выдержал и снова оглянулся. Офицер сердито махнул ему рукой – и Уайтджек обрадованно отскочил в сторону.
Его черное тело успело только мелькнуть в воздухе, а хмурая громада танка уже шевельнулась, заскрежетала сталью и двинулась на Скибу. Широченные лапы-гусеницы подминали под себя партизанское оружие, кромсали, корежили его, алчно заграбастывая дорогу, выискивая на ней новую добычу, новые жертвы.
«Прощай, оружие!» – прошептал Михаил, следя, как холодная сталь перемалывает оружие его товарищей, и совершенно позабыв о том, что танк движется прямо на него, движется, чтобы расплющить и его самого и его автомат, который он крепко сжимал в руках.
– Стойте! – зарычал пан Дулькевич.– Стойте, ко всем дьяблам! Стойте, треклятые янкесы!
Франтишек Сливка умоляюще протянул Михаилу руки – отойди, мол. Пиппо что-то шептал, скорее всего молитву. Танк продолжал ползти, уже подбирался к ногам Михаила, уже угрожал перерезать его, скосить, как стебель, а Скиба стоял все так же неподвижно и сжимал автомат в побелевших от напряжения пальцах.
Тогда танк остановился.
– Почему не бросаешь оружия? – заорал офицер, и рот его перекосился.– Почему, эй, слышишь?
– Потому что я партизан и советский офицер,– ответил Скиба.– Советский офицер, понятно?
– Попался бы ты нам где-нибудь в другом месте, герой воевать пальцем в дырке сапога,– окрысился пан Дулькевич,– мы б тебе показали, что в траве пищит! Союзники называются! К дьяблу таких союзников!
– Да разразит меня гром, если я знал, кто вы такие! – расхохотался американец, соскакивая наземь.– Советский офицер в Альпах! Да откуда вы здесь взялись? Уайтджек, чертова образина! Это все ты виноват! Твоя работа! Тащи сюда бутылки, чтоб тебя холера забрала! Да пошевеливайся, бездельник!
Негр достал из танка две бутылки вина, раздобыл несколько походных пластмассовых стаканчиков, совал их каждому из партизан. Винтовки уже не было на его плече. Не было и зловещей ухмылки на губах, не было ненависти, которая еще за минуту до этого искажала его лицо. Он как бы хотел сказать им: «Забудьте о том, что было. Не моя в том вина. Мне приказали – я выполнял. Забудьте и простите».
От соседних танков подошли еще солдаты и офицеры. Вино разлили по кружкам. Были пожатия рук, звучали слова о дружбе и союзничестве. После пили вино. Оно было горькое. Ах, если б кто знал, какое это было горькое вино!
Он уехал первым, если не считать Юджина, которого американцы отправили в госпиталь, как только добрались до Комо.
Он уехал первым, как ни напускали на себя чрезмерную занятость военными делами его новые знакомые – союзники, как ни уговаривали его повременить.
Он должен был вернуться к своим – и немедленно.
– Не кажется ли вам, что я уже достаточно бездельничал? – сказал Михаил американскому подполковнику Службы информации и образования. Тот пытался убедить Скибу, что ему совершенно незачем торопиться и что у американской армии теперь слишком много дел, чтобы заниматься устройством людей такой судьбы, как он и его друзья.
– Вы собираетесь осуществить переход через Альпы? – спросил его Михаил, даже не пытаясь скрыть иронии.– Уверяю вас, вам уже нечего там делать.
И все-таки он едет! Машиной в Рим. Там обещали устроить его на самолет, летящий в Париж, где он сможет обратиться в советское посольство и договориться, чтобы по дороге домой заехать на Рейн и позаботиться о ребенке, временно оставленном у доброй синьоры Грачиоли.
Ах это дитя! Голодное, без материнских ласковых рук, оно кричало днем и ночью, будто вот-вот должно было умереть. Сосало соску, глотало смесь из молока и подслащенной воды и кричало пуще прежнего, негодуя на весь мир за то, что его обманывают, заставляют вместо материнского слушать биение чужого сердца.
Зеленый «додж» катился по раскисшим на солнце весенним дорогам Италии. Зеленый «додж» с болтливым подполковником американской армии и Михаилом Скибою, на руках которого надрывался от крика ребенок. Они ехали по стране, где за каждой придорожной надписью вставали целые столетия истории. Отделялись от их шоссе асфальтовые иглы и тянулись к Флоренции, к Пизе, к Болонье – так бы и полетел он в любой из этих городов, очарованный одними лишь их названиями, так бы и полетел туда, если б имел время, возможность и силы.
О эта вечная занятость! Сколько нужных вещей не делаем мы из-за нее, как много теряем чудес, и все только лишь для того, чтобы успеть сделать то, что кажется самым важным, самым необходимым. И в конечном итоге оказывается, что не успеваем сделать почти ничего. И это самое обидное.
Болонья, Феррара, Сиенна...
– Италия... Впечатление такое, будто едешь в музее,– сказал американец.
– А у меня самое сильное ощущение – свобода,– засмеялся Скиба.– Все время хочется петь.
– Жаль, что с нами нет какого-нибудь негра. У них это здорово выходит. Вы когда-нибудь слышали, как поют наши негры?
Слышал ли Михаил?
Слышал в тот самый вечер, когда впервые встретились они с американской танковой колонной. Танкисты не торопились. Спешили только офицеры тыловых служб. А танкисты знали, что после того, как они проторчали в Италии столько месяцев, лишний день или час роли уже не играют. За Альпами все будет закончено и без них. Если уже не закончено.
...Они остановились перед первым попавшимся им на шоссе городком. Заняли автомобильную мастерскую, устроили в ней нечто вроде солдатского дансинга, пили вино, пели, показывали друг другу, и партизанам в том числе, фотографии своих невест, одаривали долларами и пакетиками жевательной резинки, снова пили вино и все, что попадалось под руку, все, от чего можно было стать веселым, одуреть, забыть о войне, почувствовать себя вельможей, этаким заокеанским набобом в сей прекрасной, но бедной горной стране.
У кого-то нашлось банджо с несколькими струнами, с приглушенным, хриплым и тоскующим звуком. Пан Дулькевич всем представлял Франтишека Сливку как гениального композитора и обещал после войны сделать для него и для себя визитные карточки из черной бумаги, на которой буквы будут выписаны белой тушью.
Американцы смеялись и пили. Они пили так много и с таким остервенением, что все те, кто был рядом, тоже пили. Пил в тот вечер и Михаил Скиба: вино приносило облегчение, благодаря ему спадали оковы постоянной настороженности, не оставляющей его вот уже несколько лет. Пил еще и потому, что был молод, а это вино войны давало ощущение молодости людям даже пожилым, слабым и больным.
Впоследствии, когда он пытался вспомнить все, как было, с самого начала, у него почти ничего не получалось. События того вечера никак не хотели становиться в определенный порядок, между ними не было необходимой последовательности. Они запечатлелись в его памяти хаотично, запечатлелись точно в таком же сумбуре и неистовстве, как тогда, после вина, после пожатий рук.
Кто-то танцевал; кажется, танцевал и он, показывая американцам и итальянцам украинский гопак. Кажется, пан Дулькевич учил американского сержанта подпрыгивать в краковяке и щелкать в воздухе воображаемыми шпорами. «К дьяблу, что это за армия! – кричал пан Дулькевич.– Фурда! У вас даже шпор нет! »
Все это, несомненно, было в тот вечер, но виделось теперь как бы сквозь сизую мглу. Все отступало куда-то, заслонялось одним-единственным ярким воспоминанием, одним отчетливым переживанием.
Начала Михаил не уловил. Скорее всего, он с кем-то разговаривал, возможно, что пили за дружбу, возможно, целовались в тот момент с Франтишеком Сливкой, а может быть, гладил по плечу Скибу ласковый Пиппо Бенедетти.
Все так же хрипло бренчало банджо. Стоял невообразимый шум в прокуренном помещении автомастерской, где под стенами еще громоздились станки, а в углу покрывался пылью чей-то старенький «фиат», так и не дождавшийся ремонта. Но неожиданно Михаил почувствовал, что позади него происходит что-то необычное. Он оглянулся и увидел в кругу солдат Уайтджека, того самого огромного негра, что утром вырывал из партизанских рук оружие, а позже потчевал их итальянским вином, разливая его в пластмассовые стаканчики.
Уайтджек двигался по кругу, крался, как хищный зверь. Он кружился в замкнутом пространстве, как кружит в клетке тигр, ежесекундно готовый к прыжку. Очевидно, он был в кругу уже несколько минут, так как на него уставилось множество глаз и, по-видимому, ждали от него не только этих крадущихся движений, а еще чего-то. Постепенно шум в автомастерской стихал, обрывались на полуслове разговоры, расплетались объятья, застегивались карманы, пряча в своих тесных тайниках подаренные фотографии, сувениры и адреса друзей,– все внимание поглощено было центром круга, где ритмично двигалось большое темное тело, затянутое в тонкую униформу.
Уайтджек не сбросил даже каски. Белый брезентовый пояс стягивал его тонкий стан. Такие же белые короткие гетры охватывали щиколотки, не давая спадать широким штанам на красные ботинки из грубой кожи. Уайтджек был одет, как любой американский солдат. Он ни в чем не нарушил форму. Разве только расстегнул две пуговицы на рубашке да еще выше положенного, чуть ли не до плеч, засучил рукава. Но и этого было достаточно, чтобы его удивитёльное тело показало свою силу и привлекательность.
Уайтджек танцевал.
Уайтджек разматывал невидимую нить ритма, разматывал чем дальше – быстрее, чем дальше – стремительнее, и уже теперь ритм служил символом силы, красоты напряженных мышц. Казалось, негр боролся с кем-то невидимым, боролся со своей судьбой, может быть, со своей недолей. Он стремительно выпрямлялся, приседал, почти падал, будто Сраженный смертельным ударом, снова взлетал, распластывался в воздухе, вырывался из могучих объятий своего врага и бросался в бой еще более исступленно и страстно.
Робкий лучик света пыльной электролампочки скользил по лоснящейся черной коже, выплясывал на ней, искрился по сторонам, бессильный охватить это до сумасшествия верткое тело.
Движение просто ослепляло. Не верилось, что человек может выдержать такое напряжение. Хотелось крикнуть Уайтджеку: «Довольно!» А он все ускорял темп, а он ввинчивал свое тело в еще более тугую спираль черного вихря. И когда уже казалось, что негр не выдержит, сейчас свалится в изнеможении прямо на цементный пол, свалится, обливаясь потом, задыхающийся, безмолвный и обессиленный,– Уайтджек запел. Песня его была выдержана в том же бешеном ритме, это тоже была черная песня, черная, как его тело, песня, выхваченная из неистового вихря, из которого Уайтджек вырывал отдельные слова и бросал их слушателям, толпившимся в мастерской.
Пан Дулькевич, неизвестно как очутившийся возле Михаила (а может, он был рядом все время, да только Скиба его не замечал), переводил своему командиру слова песни Уайтджека, и в памяти Михаила навеки запечатлелись страшные слова, выкрикиваемые негром во время танца в итальянской автомастерской на берегу озера Комо:
Никогда белый не станет черным,
Ибо красота – черна
И черна мудрость;
Ибо презрение – черно
И черно – мужество;
Ибо терпение – черно
И черно – предательство;
Ибо черен мрак
И черна магия;
Ибо черна любовь
И черна ревность;
И весь танец чёрен
И чёрен ритм;
Ибо умирание черно
И черно движение;
И смех тоже черен,
Ибо радость черна,
Как черна вся жизнь!
Уайтджек... С нечеловеческой силой напряженные мускулы, черные, как сон, мускулы первобытно прекрасны и могучи. И черное тело в неуемном движении. Он кричит неистовым голосом силы, кричит каждый мускул, каждая клетка его...
Уайтджек...
– Хо-хо, джунгли,– сказал подполковник.– Вы сидели когда-нибудь в джунглях, лейтенант? Хотя спрашивать бессмысленно: конечно, не сидели. Три недели на одном обезьяньем мясе... Я там был по делам нашей фирмы. Это, знаете... я вам доложу... Первозданный хаос... Извечный сумрак, зеленый сумрак – и обезьянье мясо.
Михаил не слышал слов подполковника. Да он и не слушал его. Погрузился в свои воспоминания, а видел: черное тело, черный голос, черный вопль о черной жизни...
EX OREMO[55]
Еще вокруг бесновалась война. Война была совсем рядом, она выплясывала на кельнских руинах, на развалинах всей Германии вот уже сколько месяцев и лет, но земля в саду, влажная и рыхлая, пахла точно так же, как пахла тысячу лет назад, и упругие стебли роз все так же наливались молодой зеленой силой, как наливались они каждую весну в далеких селах Дамаска, Мешхеда или Стамбула
Старый человек наслаждался ароматами весенней земли. Они возвещали о конце ожиданий, которыми были наполнены зимние дни, сулили новое великолепие цветов, которого он дождался наконец, ухаживая за своими розами и заботясь о них, лелея каждый лепесток, посвящаясь в тайну непостижимых процессов зарождения дивных бархатисто-нежных цветов, сопровождающих человека на всем нелегком пути его по дороге цивилизации, красоты и мудрости.
Много километров отдаляло двухэтажную виллу в Рендорфе от Кельна, от растерзанного, испепеленного, разбомбленного Кельна, огромного города, где когда-то был бургомистром старый человек, отныне живущий здесь, в этом доме. Вилла старого человека была обращена к Кельну глухой стеной, глухой и слепой стеной, густо обсаженной буйно разросшимся плющом,– старый человек не желал знать, что творится в городе, где он некогда хозяйничал.
Кельн был разрушен, как вся Германия. Покореженные обрывки мостов свисали с исклеванных взрывами устоев, и рейнская вода печально журчала вокруг них. Закопченные, щербатые стены уцелевших домов и церквей вздымались над пепелищами вымершего города, как некая колдовская готика войны.
У входа в Рендорфер-хейм ярко поблескивала на весеннем солнце латунная табличка, на которой натренированной рукой гравера было написано: «Доктор Конрад Аденауэр». Табличка была тщательно начищена, видимо, кто-то следил, чтобы она не потемнела, чтобы блестела всегда радостно и празднично, чтобы не было на ней копоти, покрывающей кельнские развалины.
В виллу в Рендорфер-хейме (улица Циннигсвег, номер восемь «а») почти никто, за исключением родственников, никогда не приходил и не приезжал. В кабинете хозяина, в том самом кабинете, окна которого выходили в сад, где росли розы, в кабинете с молчаливыми томами Плутарха, Сенеки, Гёте, Шопенгауэра, давно уже не звонил телефон.
Быть может, все забыли хозяина этого дома? Нет, кое-кто еще помнил. Кое-кто вспоминал. Когда начались первые налеты алиантов на Кельн, неизвестные люди часто просили через коммутатор Гоннеф номер восемьсот шестьдесят семь, номер Конрада Аденауэра, бывшего обер-бургомистра Кельна, и взволнованными, скорбными голосами сообщали:
– Герр Аденауэр, бомбы упали на Линденталь.
– А мне что до этого? – отвечал старый человек.
И в самом деле, что ему до того, что в Линдентале, тихом, зеленом, едва ли не в самом очаровательном районе Кельна, разрушено десять, двадцать, а то и сто домов? Возможно, что бомбы попали в те два дома на Макс-Брухштрассе, принадлежавшие некогда его семье,– что ему до всего этого! Ведь гитлеровцы выплатили ему за те дома двести тридцать тысяч марок.
– Герр Аденауэр! – раздавались среди ночи голоса по телефону, полные отчаяния.– Бомбы падают на Эренфельд!
– А мне что до этого? – слышалось в ответ.
– Бомбы падают на Дейц, на Мариендорф, на Мюльгейм, на Ниппес! !
А ему какое дело до всего этого?
Даже когда бомба упала на собор, на прославленный Кельнский собор, гордость всего христианского мира, когда бомба пробила графитовую кровлю и взорвалась в центральном нефе святыни, разрушив при этом статуи великомучеников, он ответил по телефону:
– Не думаю, что ущерб действительно столь велик, как об этом пишут в газетах.
Двенадцать лет. Двенадцать долгих лет «великолепной изоляции», по его собственному выражению. Двенадцать лет он думал не о Кельне, не о Германии вообще, не о боге, которому молился ежедневно со всей истовостью и страстностью, на какие только был способен, нет, он думал и заботился только о себе самом.
Что главное в жизни? Поиски истины? Служение правде? Сохранение собственного достоинства?
Главное – это переждать. Выждать. Как сказано у Сенеки: «Если судьба устранит тебя с главенствующего положения в государстве, стой, однако, мужественно и помогай голосом, а если тебя кто-нибудь за горло схватит, стой, невзирая на это, и помогай молчанием».
Он избрал молчание, предпочел одиночество, сад с розами, отгородился от бывшего своего города глухой стеной виллы, а от всей Германии – собственной спиной.
Когда в сорок третьем году к нему пришел давний его знакомый по католической партии Центра Вильгельм Карл Герст и завел разговор о политике, Аденауэр сказал ему, что в данное время не интересуется ничем, кроме своих роз. В его саду были ценнейшие сорта этих роскошных цветов. Влюбленно гладил он склеротическими пальцами лепестки белой розы «Пий XI», восторженно рассказывал о нежно-розовых сортах, носивших название «Тысячи красот», однако, когда подвел своего собеседника к пурпурной розе и сказал, что этот сорт носит название «Лучшие времена» и что он, Аденауэр, вывел родственную с ним розу, которую назвал своим именем «К. Аденауэр», Герст снова перевел разговор на политику.
– Среди моих знакомых,– оглядываясь, не слышит ли их кто-нибудь, сказал он,– среди моих знакомых немало таких, которые предвидят в вашем лице первого имперского канцлера после краха Гитлера.
Аденауэр отвернулся от Герста и пробормотал:
– Я не слышал этих слов.
Он верил в бога, и это помогало ему понять и принять слова Гёте о том, что лучше несправедливость, чем непорядок. В Германии царила несправедливость, преступная, страшная несправедливость, одной из жертв которой пал он сам, Конрад Аденауэр. Но следовало удержаться на той грани порядка, куда отбросила его судьба. Самосохранение стало для него высшим принципом действия. Он очертил вокруг себя магический круг одиночества и теперь следил, чтобы никто, упаси боже, не переступил бы этого круга. Он познал вкус и цену одиночества. Пил его, как пьют терпкое вино, дающее радость, силу и забвение. Наслаждался им, возвышался, благодаря своему одиночеству, над всеми распрями, над мелкими страстишками, над суетностью мира. Оглядываясь назад, на свои семьдесят лет, он видел в своей жизни прежде всего одиночество, видел только себя одного, только собственные силы и заботы.
Ибо разве не он сам, своими руками создал для себя все в жизни? Отец его, секретарь городского суда в Кельне, не оставил в наследство трем своим сыновьям ничего, кроме бедности. Даже образование они получили только благодаря случайным благодетелям. Но разве мало было людей с образованием? Разве мало было таких, как Конрад Аденауэр, что учились в кельнской гимназии Святых Апостолов, а потом штудировали право в Фрейбурге, Мюнхене, Бонне? Разве мало было в Германии адвокатов, обычных, заурядных людей?
Он не был богат. Лицо его отмечено скорее печатью упрямства, нежели привлекательностью. Никто в те времена не отмечал его умственных способностей. Но он знал, чего хочет. Он был последователен в своих действиях, умел доводить начатое до конца. Сорок лет – слишком длительный отрезок времени, чтобы возродить в сердце те чувства, которые в нем тогда бушевали. Любил ли он Эмму Вайер, ставшую его женой? Очевидно, любил, если подарила она ему троих детей, двух его первенцев – Конрада и Макса – и дочь. И возможно, только случайному сплетению обстоятельств должен быть он благодарен за то, что его первая жена Эмма Вайер была родственницей Валлрафов, богатейших тогда людей в Кельне, родственницей кельнского обер-бургомистра Макса Валлрафа. Даже если допустить, что Валлрафы сами выбрали себе в зятья тридцатилетнего адвоката Аденауэра, у которого на лице не отражалось еще в те годы ничего, кроме упрямства, то и тогда – разве не его в этом заслуга?
Да он, собственно, об этом и не думал. Знал только, что всегда держал свою судьбу в собственных руках, был, как говорят в Америке, селфмейдмэном – человеком, который сам себя сделал.
Когда умерла Эмма, он женился на Августе Цинсер – милой Гусси, которая помогла ему в самые тяжелые годы. Теперь уже выбирал не он – выбирали его, потому что он был обер-бургомистром города Кельна, самым молодым бургомистром в Германии – ему было всего лишь сорок три года, а Гусей была дочерью профессора дерматологии Кельнского университета – и все. И опять же только случай виноват в том, что Лени – сестра Гусси – стала вскоре супругой американского миллионера Джона Макклоя. У Цинсеров были еще какие-то родственные связи с известным банкирским домом Моргана, но разве это ему помогло в те злосчастные двенадцать лет? И вообще, помог ли ему кто-либо выстоять после того, как в тридцать третьем году гитлеровцы устранили его с поста обер-бургомистра Кельна?