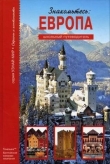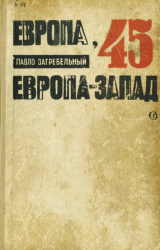
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 43 страниц)
– Пся кошчь! Наконец я буду пить ром, сделанный из сахарного тростника, привезенного с Кубы!
Михаил промолчал. А на привале, когда Гейнц Корн готовил завтрак, обратился к партизанам:
– Друзья,– сказал он,– сегодня у нас небольшой праздник. Мы может отметить свой первый значительный успех. Наконец-то мы попали в самый водоворот войны и боремся с нею всеми силами. Поэтому, как командир партизанского отряда «Сталинград», я хочу огласить свой первый официальный приказ. Прошу встать.
Приказ № 1
по партизанскому отряду «Сталинград».
Голландия
24 сентября 1944 года
За молниеносное уничтожение фашистской ракетной базы для запуска ракет «фау-2», предназначенных для ударов по Лондону и другим городам Европы, объявляю всему личному составу отряда благодарность.
Командир партизанского отряда «Сталинград»
лейтенант Скиба».
– Виват! – первым прокричал пан Дулькевич. Все дружно поддержали его.
– Отмечая это,– продолжал Михаил,– приказываю интенданту отряда Гейнцу Корну выдать всем по сто граммов трофейного рома.
– Но это же до дьябла мало! – воскликнул поляк.– Пан Скиба хитрый, как посол.
– У меня на фронте был товарищ – Леня Сапрыкин,– Михаил повернулся к пану Дулькевичу.– До войны он работал на шахте в спасательной команде. У них в команде были ребята двухметрового роста, с могучими легкими, с сердцами как дизельные моторы. И вот эти двадцатилетние хлопцы даже не нюхали алкоголя. Если спасатель выпьет незадолго до аварии двадцать граммов водки – верная погибель. В кислородной маске, которую он надевает, спускаясь в пылающую шахту, в клапане образуются кристаллы и за-кроют доступ кислороду. И человеку конец. Все это творят двадцать граммов алкоголя.
– Алкоголь делает человека злым,– буркнул пан Дулькевич.– Разве пан считает, что нам злость не нужна?
– Мы должны быть злыми, но пьяными – нет,– твердо ответил Михаил.– Разве мы застрахованы от того, что нас через полчаса не окружат?
– Это узурпация моих прав,– пробормотал пан Дулькевич, но выпил, как и все, полкружки коричневой горькой жидкости и на большее не претендовал.
Он подвинулся к голландцу, который молча потягивал свою трубку.
– Что пан Роот думает делать после войны?
Якоб ответил не сразу. Что он будет делать? Снова вернуться в Амстердам, сидеть в киоске и раскладывать перед собой калейдоскопы марок?
– После войны я стану глобтротером,– наконец сказал Якоб.– Я обойду на своей одной ноге сначала Европу, а потом весь мир. И везде буду рассказывать о войне. Пусть знают люди, что это такое, и пусть ценят мир.
День их отдыха, день бесед и мечтаний прошел. А перед заходом солнца северную сторону серого неба прочертила прямая полоса ракеты. Ее увидел Пиппо Бенедетти, который стоял на часах. Испуганный, он прибежал к шалашу:
– Командир, снова она!
– Где?
Итальянец молча махнул рукой на север.
– Далеко?
– Не очень.
– Кто видел еще?
Никто больше не видел. Но не верить Пиппо не было оснований. Молча стали собираться. Не говорили, идти или не идти, не отдавал никаких приказов Михаил. Все и так знали: надо идти.
Гейнц запаковывал продукты. Аккуратные буханки хлеба, завернутые в станиоль. Похожие на ядра круги голландского сыра. Жестянки с консервами. Кофе, сахар. Два контейнера «Листер» – один с водой, другой с ромом. Каждому досталась немалая ноша. Освобожден от всего был только Якоб. От всего, но не от оружия. Голландец даже слушать не захотел, когда Михаил сказал, что одного автомата и четырех запасных магазинов с него достаточно. Почему достаточно? Почему все должны нести по десятку магазинов, автоматы, пистолеты, а он будет прогуливаться с тремя несчастными патрончиками? Или, может быть, они не в Голландии и он не голландец?
Когда все были уже готовы, оказалось, что исчез пан Дулькевич. Михаил попросил всех задержаться и сам отправился на розыски.
Он нашел поляка за соседней дюной. Пан Дулькевич стоял на коленях, сложив руки, зажмурясь, и что-то бормотал. Михаил тихо остановился у него за спиной. Поляк молился. Слезы текли по его старому, морщинистому лицу, горькие горячие слезы, и холодный ветер студил их. Худые плечи содрогались под тяжелой эсэсовской шинелью. Ветер прибил, согнал в сторону жидкие мягкие волосы, и грустно белела среди них большая лысина, которую Михаил раньше не замечал.
Только теперь, впервые за все долгие дни их мытарств, увидел Скиба, какой старый, измученный и несчастный пан Дулькевич. И жаль ему стало старика. Что-то отцовское взглянуло на него сквозь эти худые, горько опущенные плечи, сквозь морщинки на лице, сквозь глухой голос, изъеденный ржавчиной лет.
– За муки старых и малых, замученных в костелах и в домах, помилуй нас, господи!
За муки жолнеров, которые полегли на войне за свободу, спаси нас!
За раны, слезы и терпение всех страдающих в плену, изгнанников и скитальцев польских помилуй нас, господи!
Оружия и героев, орлов народных пошли нам, господи!
Пошли нам и врагов на путях наших, чтобы мы могли победить их, господи!
Покоя для костей наших в земле родной просим у тебя, господи!
Михаил вслушивался в шепот поляка, и слышалось ему в словах пана Дулькевича иное, выстраданное и передуманное за долгие годы войны: «Люди! Мы обращаемся к вам. Нас мало. Горстка. Перед нами страшный враг. И мы не боимся, мы идем против него. Для нас нет страха, мы забыли о риске, нам неведомы колебания. Вы должны знать о нашей твердости, о нашей решимости и о нашей смерти!»
Поляк закончил молитву, но все еще не поднимался. Неясные звуки вырывались из его горла, еще больше сгорбились худые плечи, заметнее содрогалась спина. Пан Дулькевич плакал. Он всхлипывал неутешно и тяжко. Слезы катились по лицу все обильнее, крупнее. Ветер уже не успевал осушить их, они падали на песок и прожигали его.
Михаил подошел к поляку и обнял его за плечи. Пан Дулькевич был сухой и легкий, как перо. Михаил прижал его к себе, наклонился и поцеловал соленое от слез лицо. Он поцеловал его в щеку, в колючую щеку, и пан Дулькевич вцепился в него, охватил его шею и зарыдал еще горше, неутешнее. Разве место было здесь словам? Михаил молча гладил волосы поляка, мягкие волосы, что слабо укрывали такую непокорную, казалось, голову. И пан Дулькевич затих.
Только изредка еще вырывались из глубины его прокуренной груди вздохи и всхлипывания, постепенно обретая форму слов.
Он не граф. Он не холостяк. А говорил все это просто так. Потому что любит мистификацию. У него есть где-то панна Данута. И сын Казик. Он, наверно, погиб, как и подхорун-жий Казик, который спас его, пана Дулькевича.
Было когда-то все – и нет ничего. Был дом – и нет его. Была Варшава – и нет ее. Была Польша – и нет ее. А вокруг чужие пески, чужие деревья, чужие судьбы...
– Мы защищаем и свои судьбы,– тихо сказал Михаил.– И судьбы наших детей и наших отцов защищаем мы здесь, в дюнах. Мы узнали смерть. Мы победили ее и будем бороться за жизнь на земле, полную любви, счастья и...
– И горя,– всхлипнул пан Дулькевич.
– Что же, будет, наверно, и горе. Но не от войны!
– Слова,– проговорил поляк.– Красивые, торжественные... Когда-то я верил в них. Сейчас не верю.
– Сейчас надо действовать. Надо идти на север.
– На север?
– Да. На север.
– А завтра? Завтра на юг?
– Возможно. Мы пойдет туда, куда надо. Без отдыха. Без колебаний. Днем и ночью.
– И без страха? И никогда не повернем назад?
– Никогда. Как поется в этой вашей песенке...
– То песенка о любви.
– А разве мы еще не будем любить?
– Да... Будем! А сейчас надо идти...
И они поднялись с мокрого темного песка, вернулись к товарищам, взяли каждый свою ношу и двинулись в путь. В этот раз на север.
Монотонность движения постепенно убивает все мысли, кроме одной: скорей бы дойти! В однообразном шорохе шагов слышится то же: дойти! Взмахи рук подчинены категорическому: быстрее, быстрее! Не останавливаться!
– У меня был товарищ,– говорил пан Дулькевич, выходя вперед, чтобы все слышали.– Казик Марчиньский. То был настоящий поляк и жолнер!
– Он был, наверно, такой же болтливый, как и мосье Дулькевич? – высказал предположение Риго.
– Пан просто пустышка. Пан Казик Марчиньский спас меня от смерти. Он учил старого Генриха Дулькевича, как жить на свете. Он сказал: «Если мы должны танцевать, то будем танцевать среди сотен мечей. Если спать – спим без тревог над бездонными пропастями. Если натягивать, то самый тугой лук. Ров перепрыгивать в самом широком месте». Если бы я послушался пана Казика, он не погиб бы. Его смерть на моей совести...– Мы боремся теперь с этими дьявольскими ракетами. А знаете вы, господа, что Казик Марчиньский боролся с ними задолго до нас?
– Где же он их видел? – спросил француз.
– В Польше. В нашей Польше за эту войну можно было увидеть все. Даже ракеты. Пан Казик рассказывал мне. Он партизанил в польском Прикарпатье. Партизаны искали ставку Гитлера, которую сооружали боши. Панове думают, то было легкое дело? Все разведчики, которых посылали на розыски, исчезали, как иголка в воде. Они попадали в мертвую зону около ставки, где людей расстреливали только за то, что они вступали на запретную территорию. На двести километров вокруг Стрижова не осталось ни одного поляка. Одних выселили, других просто убили. Со временем там началось такое, чего еще никто не видел. На восток от Жешува каждый день летели какие-то зелено-серые самолеты. Они летели высоко, а ревели так, словно проносились над самой землей. Хвосты дыма и искр тянулись за ними как кометы. Когда умолкал этот сатанинский мотор, самолет падал, врезался в землю и раздавался адский взрыв. Моторизованные отряды жандармерии охраняли места взрывов, пока специальная команда собирала кусочки этих летающих бомб. Видно, боши испытывали свое новое, страшное оружие.
– Что же дальше? – заинтересовался Сливка.
– О-о, дальше начинаются приключения, которые могут быть только в Польше! Один такой самолет упал и не взорвался. Пока жандармы разыскивали место, где он упал, там уже ничего не осталось. Партизаны попали сюда раньше. Они позвали из соседних сел хлопцев, и те перенесли снаряд в сарай и заложили его сеном так, как мы прятали «хорх», на котором катался со своей графиней мосье Риго.
– Мосье Дулькевич забыл, что он рассказывает про мосье Марчиньского,– подпустил шпильку француз.
– О-о,– заверил его Дулькевич,– я никогда не забуду про пана Казика. То был герой! Как они надули немцев!.. Целую неделю те искали свою ракету, а партизаны сидели в сарае и смеялись. Потом им удалось связаться по радио с англичанами. Из Лондона прибыл транспортный самолет. Англичане забрали немецкое тайное оружие и отвезли к себе. Так была раскрыта тайна «фау-1».
– Но мы сейчас имеем дело с «фау-2»,– напомнил Клифтон.
– Тем лучше,– приподняв бровь, промолвил Дулькевич. —Это только подтверждение факта: ничто на этом свете не делается без участия поляков.
– У поляков, как я вижу, гордости не меньше, чем у англичан высокомерия,– заметил Юджин.
– Не гордость, пан Вернер, а гонор! – воскликнул Дулькевич.– Как сказал Йозеф Понятовский в битве под Лейпцигом: «Бог мне вверил гонор поляков, богу его только и отдам».
– Может, синьору помочь нести его мешок? – спросил Пиппо. Он давно уже заметил, что силы поляка стали сдавать.
– Пусть пан не тревожится,– успокоил его Дулькевич.– Я попрошу помощи, когда будет нужно. Неужели пан считает, что Генриха Дулькевича могут испугать эти длинные переходы? Я вырабатываю в себе лучшие качества только в дороге. Я бы хотел и умереть в дороге. Как сказал наш поэт: «И только смерти красивой я жажду: смерти в скитаньях».
ОНИ СРАЖАЛИСЬ
Ночи стояли над Голландией тёмные, как прославленный черный тюльпан. Дождь лил безостановочно, словно хотел затопить эту маленькую страну, над которой господствуют воды.
Где-то за дюнами пролег канал. Ласточкиными гнездами прилепились к нему села и городишки. Партизаны обходили их. Торные дороги они сменили на бездорожье диких зарослей. Лишенные уюта и тепла голландских деревушек, они находили приют среди суровых сосен и тополей Фрисландии.
Снова дорогу указывала им колеблющаяся, как судьба, стрелка компаса, и снова дымный прочерк гигантского карандаша ракеты на предвечернем небе подтверждал правильность их пути.
Никто не знал, почему фашисты пускают ракету только вечером, перед заходом солнца. Сначала это отнесли за счет немецкой пунктуальности. Клифтон Честер высказал мысль, что вечернее время выбрано нарочно. Под вечер английские семьи собираются дома после работы. Вся Англия в эти часы отдыхает. Матери выводят детей на прогулку. Отцы поливают цветники. Это время, когда англичанин с особенной силой чувствует красоту и тишину мирных дней. И вот тогда-то с неба на него и семью падает война. Как божья кара, о которой каждый день читает он в библии.
– Очевидно, ракеты привозят сюда прямо с завода,– сказал Гейнц.– Запаса никакого нет, вот и цедят по ракете в день, чтобы была иллюзия непрерывных ударов с воздуха. Психологический эффект!
– На станцию Хогсварт через день привозят по две ракеты,– поделился своими наблюдениями Якоб.– Иногда – три. Коротенький поезд из четырех или шести вагонов. Ракета в одном вагоне не помещается, ее укладывают в два.
– А как же они доставляют ракеты туда, куда мы идем? – поинтересовался Вернер.
– Возможно, и здесь есть железная дорога,– отозвался Якоб.
Эсэсовская форма спасала их от случайного взгляда. Они шли теперь и днем. Взбирались на дюны, влезали на деревья, чтобы увидеть ракету.
Ракетная база пряталась в тополевой роще. Такие тополя Михаил видел только на Украине. Гибкие, высокие, могучие. Они белели своею серебристой корой над серыми песками, и от этого кругом было словно светлее. Темная стена листвы скрывала и бетонированную площадку, и казематы, и острый карандаш ракеты. Только вершины у тополей были безлистные, засохшие. Может, их опалили вихри огня, которые вырывались из ракетных дюз?
Клифтон выбежал вперед и через минуту вернулся бледный, испуганный: ракета стоит, готова к запуску, на площадке ни живой души.
Они бросились туда, забыв об опасности. Ракета торчала посреди площадки, воткнув в небо сизое острие. Тополя спокойно шелестели свою вечную песню, дождь шуршал в траве. Тянуло запахом сгоревшего дизельного топлива. Для ракетных баз немцы не жалели ничего. Электростанция работала здесь не на деревянных чурках.
– Надо перерезать провод питания,– сказал Михаил.
Где этот провод, никто не знал. Как его перерезать, если он под напряжением,– эту задачу тоже предстояло решить. Но оцепенение уже прошло. Искать! Искать провод! Висит он вверху между деревьями или лежит где-нибудь на земле, гибкий и страшный, как змея,– все равно надо искать и найти!
Пиппо Бенедетти, ничего не говоря, кинулся почему-то вправо, выхватив у Якоба из-за пояса острый немецкий тесак. Якоб заковылял за итальянцем.
Провод лежал на земле. Итальянец сразу нашел его. Про-вод был толстый и гибкий. Где-то глубоко под землей, спрятавшись за толстыми бетонными стенами, сидит капитан или майор немецкой армии, удобно устроился в кресле и смотрит, как перед ним вытанцовывают электрический танец разноцветные стрелки и стрелочки. Он в последний раз проверяет верность расчетов, убеждается в том, что острие траектории вопьется в самый центр большого заморского города. Он делает последнее предупреждение всем, кто спрятался под землей, и сейчас нажмет кнопку...
Пиппо оглянулся. Сумерки уже укрывали землю мягкой, влажной пеленой, только стволы тополей вокруг ракетной площадки чуть заметно белели. Итальянец исчез в кустах и через минуту вынырнул оттуда, размахивая топором, сделанным из палки и тесака.
– Сушняк! – шепнул он.– Давай сушняк! Побольше, ворох! Сюда!
Какой там сушняк! Все вокруг было мокрое, ни одной су-хой веточки.
Стали собирать ветки. Сгребли большой ворох. Пиппо упал на него, занес топор над головой, что-то крикнул и с размаху рубанул по красному проводу.
Яркие, голубоватые искры с треском вырвались из провода. Бывший берсальер вздрогнул, изогнулся и затих на ло-же из ветвей.
Ракета стояла на сером бетоне холодная, мокрая, неподвижная, и огненное кольцо не загоралось у ее подножья. Где-то за тучами уже заходило солнце. Хронометры в казематах начинали отсчитывать первые секунды ночи, а ракета не взлетала. После того как Пиппо разрубил провод, внизу, в подземелье, наверно, остановились все стрелки. Шкалы, циферблаты и экраны потемнели. Однако начальник базы, видимо, не отваживался командовать отбой.
Так думали партизаны. Они не знали, что за ними следят бдительные глаза. Их ждали на этой ракетной площадке, зная, что она притягивает к себе, как притягивает каждого честного солдата место, где гремит бой. Вызванный Пиппо яркий электрический разряд, треск голубой молнии не встревожили немецких солдат, затаившихся вокруг. Они имели твердый приказ: стрелять с появлением сигнальной ракеты. И автоматы заработали, когда над тополем повисла ракета и стала стекать на темные верхушки молчаливых деревьев холодным соком зеленоватого огня.
– Ложись! – крикнул Михаил.
Теперь их должны были спасти темнота, земля, собственное мужество и командирская смекалка.
– Не стрелять! – уже тихо приказал Скиба.– Проверить оружие. Клифтон и Юджин, приготовьте гранаты. Господин Сливка, попробуйте добраться к Якобу и Пиппо. Пусть ползут сюда. Мы должны быть вместе. Ударим одним кулаком. Надо нащупать слабое место. Это сделают Дулькевич и Риго.
Судя по ожесточенному огню автоматов и пулеметов, который окружил партизан плотным кольцом, прижал их к земле, немцев было много и они успели занять выгодные позиции. Но Михаил уже заметил: с правой стороны площадки, где были самые густые заросли, не хлопнул ни один выстрел. Командир подполз к Дулькевичу.
– Вам задание с мосье Риго: проползти туда, направо, и проверить, нет ли прохода.
– Пан может спокойно ждать. Все будет сделано.
– Желаю удачи!
– Благодарю. Мы пошли. Мосье Риго, прошу пана!..
А в это время Якоб Ван-Роот, почти не пригибаясь, словно это не по нему стреляли фашисты, торопливо обкладывал неподвижного Пиппо мокрым тяжелым песком.
Пиппо лежал без движения. Якоб разгневался на святую деву. Он молча сидел, слушал скороговорку выстрелов, шипение пуль и гладил голову товарища. Буйные черные волосы– они видели столько ласки, столько тепла под итальянским солнцем, под мягким морским ветром!..
И Пиппо Бенедетти услышал тихие прикосновения доброй грубой руки. Он открыл глаза, хотел подняться и, почувствовав, что его что-то мощно держит, жалобно проговорил:
– Святая мадонна, где это я? Если бы знала моя мама, она бы умерла.
А бой разгорался. Дулькевич и Риго уже почти доползли до того места, где не слышно было ни одного выстрела, как вдруг поляк схватил француза за руку.
– Стой!..
– Что такое?
– Пахнет кельнской водой...
– Какая там вода! – француз попробовал выдернуть руку.
– Говорю же, стой! Пан не знает, какие ноздри имеет Генрих Дулькевич! Пахнет кельнской водой. Неподалеку немцы. Засада. Они действуют только так. Мне рассказывал Казик Марчиньский... .
– Надоел мне ваш Казик. Мемуарами будете заниматься после войны. Сейчас надо действовать. Аллон![42]
– Пан – пижон! Я не позволю оскорблять память пана Казика Марчиньского! Мы имеем дело с классическим образцом «охоты на куропаток». Вы слышите, везде стреляют, а здесь тишина! Они рассчитывают, что мы ткнемся сюда – тут они нас и схватят. Но они еще не знают Генриха Дульке-вича! Я им покажу сейчас!..
– Ради всего святого, что вы придумали?
– Бить проклятых швабов!
Однако же, если здесь действительно засада, не лучше ли вернуться? Доложим, а потом пробьемся где-то в другом месте.
– Не могу же я уйти, не разогнав всю шмаркатерию, что притаилась в кустах! Вперед, мосье Риго! Сейчас будет хорошая стрельба!
Дулькевич пополз вперед. Теперь поляк отчетливо почувствовал запах одеколона, который доносился спереди, из молчаливых кустов. Дулькевич нарочно шелестел травой, постукивал автоматом, чтобы обратить на себя внимание. Странные чувства кипели в его сердце. Торжество над врагом. Ненависть к жестоким, подлым людям, что не отваживались принять честный бой с партизанами. Молодецкая удаль, которая толкала Дулькевича на отчаянные поступки. Пусть услышат партизаны, что и здесь враги, пусть знают, что тут засада! Может быть, самая опасная...
Сцепив зубы, пан Дулькевич полоснул очередью из автомата по кустам.
Немцы не ответили. Они, наверно, поняли, что их прово-цируют, и не хотели выдавать свое убежище. Поляк еще раз ударил по кустам. Снова ответило молчание. Зато француз не вытерпел. Он повернул и быстро пополз назад.
Он забыл, что у Генриха Дулькевича ухо так же чутко, как и нос.
– Куда, пане? – крикнул Дулькевич.– Ко мне! Стрелять, пся кошчь! Мы, поляки, имеем девиз: «Чинь альбо гинь!»[43].И мы стреляем, когда надо стрелять, пся кошчь!
И снова резанул по фашистам, рассчитывая, что француз присоединится к нему. Но немцы впереди молчали, а позади слышался быстро удаляющийся шорох.
Тогда поляк повернулся и сыпанул вслед мосье Риго доб-рую пригоршню пуль. Он стрелял вверх, просто чтобы испугать. И, наверно, испугал: Риго заверещал, как раненый заяц. А может, в него попала фашистская пуля – те, что молчали в кустах, наконец не выдержали и тоже открыли огонь.
Гауптман Либих, который ждал партизан на этой базе уже два дня, праздновал успех. Он был уверен, что ни один из партизан не минует хитрой ловушки, и заранее сочинил рапорт бригаденфюреру Гаммельштирну.
Выстрелы Дулькевича озадачили гауптмана. Либих приказал не отвечать на стрельбу сумасшедшего партизана, который сознательно шел на смерть, лишь бы предупредить товарищей.
Но фельдфебель Арнульф Финк не удержался и ввязался в перестрелку, а за ним и остальные солдаты, что лежали в укрытии.
– Проклятье! – крикнул Либих. Лишь теперь понял он, как опасно было выходить с такой разнокалиберной командой на поиски отчаянно смелых партизан.
Где-то неподалеку дважды бухнуло о землю, и два клубка красного света разодрали тьму. «Гранаты», – сообразил Либих. Потом в той стороне густо-густо застрочили автоматы, и вдруг настала тишина. Гауптман понял: партизаны вырвались из кольца.
– За мной! – крикнул гауптман и не узнал собственного голоса.
Арнульф Финк поднялся первым. Он поднимался не спеша, долго стряхивая с себя в темноте песок и какие-то невидимые соринки.
– За мной, фердаммте![44]—повторил Либих, но никто не двинулся – ведь и сам гауптман стоял на месте.
А там, в темноте, казалось, все замерло. Партизаны не стреляли, чтобы не демаскировать себя, а немцы,– наверно, с перепугу. В тишине отчетливо слышался шорох дождя.
И вдруг Либих услышал шаги. Где-то совсем близко бежало множество людей. Куда и зачем? Кто они?..
Либих пустил очередь из автомата и бросился вперед. Туда, где шаги, где неизвестность. И он увидел этих людей! Двое протягивали руки, чтобы поднять третьего, который беспомощно, как ребенок, сидел на земле. Еще несколько человек стояло поодаль, но никто не обратил на Либиха внимания. Гауптман прицелился и ударил из автомата по тем двоим, что поднимали сидящего. Они исчезли. Упали на землю, живые или мертвые – неизвестно. Попадали и остальные. Либих тоже упал. Лишь теперь он спохватился, что рядом нет ни фельдфебеля, ни солдат.
– Фельдфебель, солдаты!– заорал гауптман.– Сюда! Стрелять! Стрелять!..
Он ударил из автомата по темноте вдогонку партизанам. Но они исчезли. Шумели кусты – ветер или дождь... А может, люди?
Выстрелы затихли. Снова вокруг залегла тишина, она наполнила душу Либиха страхом. Он переполз на другое место. Финк чуть не налетел на гауптмана.
– Осторожнее,– зашипел Либих.– Что там?
– Там...– Голос у фельдфебеля срывался.– Там лежит один. И кажется, мертвый...
РАНЕНЫЕ НЕ СТОНУТ
Где-то позади ширился слух о неуловимых партизанах, которые стали хозяевами дюн.
Им снова надо было спрятаться в безлюдье песков, уйти от погони. Она отстала, но может вынырнуть из-за любого холма.
Они шли в том же порядке, что и раньше. Впереди – командир, за ним самые выносливые – Юджин и Клифтон. Дальше пан Дулькевич и Сливка; француз и Гейнц, поддерживая итальянца под руки, замыкали цепь. Якоба среди партизан не было. Он погиб в ту ночь, стараясь вернуть к жизни Пиппо Бенедетти. Упал вместе со своим командиром. Только у Михаила хватило сил подняться на ноги, а голландцу пуля попала прямо в сердце. Он спал теперь где-то под мокрым небом на мокрой голландской земле,– партизаны не смогли даже похоронить его.
Михаил шагал впереди, накинув на плечи кожаный плащ. Полы его расходились, и были видны белые бинты на груди. Автоматная очередь, скосив Якоба, пробила Михаилу руки, и Скиба попросил прибинтовать их к груди.
Когда кто-нибудь подбегал, чтобы поддержать Михаила при спуске с дюны, командир отстранял помощь движением плеча:
– Помогите лучше Пиппо и Риго.
Однако француза пуля обожгла в каком-то деликатном месте, он не признавался, что ранен, и делал вид, будто ему совсем не больно. Он только перестал разговаривать с Дулькевичем.
Для пререканий не было ни времени, ни сил. Слишком измучили всех та страшная ночь, мокрые и тяжелые пески.
Вокруг летела косыми струями вода. Ее было так много, что казалось, это слезы миллионов людей, пролитые за время войны, падают с неба.
Далеко на юге в реве орудий и стоне земли захлебывалась в это время кровью английских парашютистов одна из величайших авантюр войны, план фельдмаршала Монтгомери,– прорваться через Ваал и Маас, перейти Рейн и Шельду и ударить на немцев через Рур.
Где-то шла подготовка к зимнему «стоянию» на волнистой линии Западного фронта. Генералы и офицеры искали квартиры поуютнее, солдаты запасались теплым бельем.
А у партизан были свои планы, которые не предусматривали ни отдыхов, ни зимнего затишья, ни подтягивания резервов.
Шли на север все через те же дюны, через тополевые рощи и жиденькие сосновые боры. Шли усталые, но бодрые, и пан Дулькевич снова рассевал на мокром песке чужбины звонкие зернышки польских песенок.
Ночь эта – наша,
Ничего у нас нет, кроме ночи.
Тихая ночь
Наклонилась над нами, как мать.
Ночь эта – наша.
И забудем, забудем о прочем.
Что нам ценности дня,
Если солнце заходит опять,
Если мир для того и родился,
Чтоб нам ночь эту дать?..
Партизаны слушали песенки пана Дулькевича о том, что никогда не вернутся молодость и любовь, и считали, что сами они тоже никогда не вернутся туда, откуда пришли. А вот вернулись – и снова в Германии, снова в немецких прирейнских лесах.
Леса эти были для них календарем. Летом они зеленели буйной листвой. Ранней осенью тешили глаз желтыми холодными пожарами. Потом мокрые ветры оборвали листву с деревьев, проливные дожди ополоснули кору, и леса притихли– черные, печальные, как залитые водой пожарища. В середине ноября, после долгих безостановочных дождей, выпал снег. Теперь леса днем были белыми, а ночью под призрачным сиянием месяца играли синими и зелеными отсветами.
И среди этих снегов шли люди.
Шли, прячась, обходя маленькие заснеженные городки с горбатыми уличками, поселки со сказочными узорами деревянных островерхих домиков. Шли по шоссе и читали на дрожащих под холодным ветром фанерных щитах: «Пст! Враг подслушивает!», «Победа или Сибирь», «Радуйтесь войне – мир будет ужасным! »
Шли через железнодорожные линии, оставляя позади себя взорванные мосты.
Каждый час – днем и ночью – чудился им запах пороха. Они забыли слово «отдых». Лица у них были худые и измученные, но веселые.
Германия заметно сдавала. «Генерал Унру»[45]метался по стране, выскребал последние человеческие резервы – шестидесятипятилетних инвалидов и четырнадцатилетних мальчиков – и бросал их на восток, чтобы заткнуть гигантские прорывы в линии фронта, пробитые Советской Армией. Газеты пробовали утешать: «Войска наши отступили спокойно и в порядке, а враг поспешно занял новые позиции». Наполеон был первым военачальником, который поставил себе на службу прессу. Когда остатки его армии тонули в Березине, газеты извещали: «Здоровье его императорского величества– прекрасное». Гитлер каждую неделю выступал по радио и под серебряные звуки фанфар гавкал в микрофон, что чувствует себя прекрасно и здоровье его не пошатнули ни взрыв бомбы, подложенной полковником Штауффенбергом, ни наступление русских на востоке, ни бомбардировки немецких городов англо-американскими самолетами, ни «спокойное» отступление фашистских армий. Пусть идут на смерть тюрингские хлеборобы тем же медленным и тяжелым шагом, каким всю жизнь ходили за плугом. Пусть гибнут прирейнские города, лишь бы только фюрер был жив-здоров!
Над Рейном возникла зона запустения. Такие мертвые города, засыпанные горами битого камня, можно увидеть разве что в диких пустынях Востока, на местах стародавних цивилизаций. Магометанская вера запрещает разбирать дома, которые разрушены или остались без хозяина. В доме будто бы живет душа. Потому так много руин на Востоке, потому до сих пор ломают головы историки и археологи над загадками покинутых городов и тысячелетних каменных стен, засыпанных песками.
Теперь и на Западе будет много руин. Здесь дома умирают вместе с душами их владельцев. И если бы у домов действительно были души, то и они умирали бы от бомб и воздушных торпед. Руины... Ветер развевает бурую пыль над ними, дожди катят по камням свои слезы, и снега засыпают то, что когда-то называлось человеческим пристанищем.
А Гитлер призывал немцев начать новую войну. Двинуться в поход опять со своей территории, как в тридцать восьмом и сороковом годах, и снова захватить Европу, а потом и весь мир. В конце октября был отдан тайный приказ о подготовке большого наступления в Арденнах. В прирейнских городах сосредоточивались резервы и техника. Леса кишели солдатами. Колонны беженцев смешивались с колоннами эсэсовцев, которые маршировали на запад.
И среди этого смешения танков, людей, машин затерялся маленький отряд людей, одетых в форму врага, в ненавистную эсэсовскую форму, которая была здесь, в Западной Германии, лучшим пропуском.
Михаил, однако, не забывал об осторожности. Они выбирали глухие дороги, никогда не останавливались даже на короткий отдых без часовых, а неожиданные налеты совершали только после тщательной разведки.
Сейчас они двигались к имперской автостраде, которая соединяла Берлин с Рурской областью. По ней идут колонны машин на восток и на запад. Она перепрыгивает глубокие ущелья, и где-то гудят бетонные мосты под тяжестью темных машин, наполненных оружием. Там и место партизану!
Продукты, захваченные на ракетной базе, уже давно кончились, и теперь снабжение отряда целиком взяли на себя Гейнц и пан Дулькевич. Гейнц иногда отваживался забежать на крестьянский хутор и выпросить мешочек картошки «для фронтовиков, спешащих снова в бой». А пан Дулькевич вспомнил науку, которую преподал ему покойный подхорунжий Марчиньский,– он забирался по ночам в подвалы богатых домов и выуживал оттуда все, что попадалось: консервированные овощи, колбасы, сыр, паштеты. Хуже было с хлебом: его не хранили в подвалах. Иногда ранним вечером, проходя вблизи какой-нибудь немецкой деревушки, они чувствовали запах хлеба – его пекли в специальной печи, одной на всю деревню, так здесь водилось. И тогда думалось партизанам, что ничто на свете так не пахнет, как свежеиспеченный хлеб.