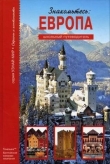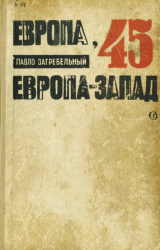
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 43 страниц)
И вот Аденауэр приехал в этот монастырь, хотя не верил в святость его обитателей и не мог поставить их рядом с богом в своих помыслах и молитвах. Знал об их суетности и все же прибыл к ним. Знал об их бессилии – и обратился к ним за помощью.
Вот если б ведал об этом тот американский солдат, столь беспечно крутивший баранку своего «джипа»! Как бы смеялся он, как бы позабавился над этим старым, слабым человеком! Ибо тот приехал в монастырь, в святость которого не верил.
Нет, не к францисканцам приехал он! Не они ждут его здесь, не они интересуют.
Аденауэр вылез из машины и поспешил к монастырской часовне, на которую указал ему брат-привратник. Именно там находился человек, к которому столь издалека прибыл бургомистр города Кельна, занятого американскими войсками.
Часовня была построена из дикого серого камня. Полумрак царил в ней. Широкие каменные плиты на полу вбирали в себя звук шагов старого человека. Никто не обернулся, никто не посмотрел на вошедшего. Ни те, что стояли на коленях перед аналоем – табернакулюмом, – главнейшей святыней храма, украшенной белыми кружевами и позолоченными подсвечниками, в которых оплывали белыми слезами высокие парафиновые свечи – в Германии не хватало воска даже для церковных свечей! Ни те монахи, что замерли, распластавшись в молитве на голых плитах центрального нефа, разметав по полу свое ободранное коричнево-красное облачение и рваные сандалии, сквозь которые виднелись черные от грязи ноги. Ни те несколько темных фигур, скрытых в тени мрачных аркад боковых притворов (всюду есть зрители, даже в храме, даже в такое время!). Ни те двое, сидящие позади всех на черных скамьях для моления,– один в мантии епископа, другой в штатском костюме (разве еще кто-нибудь приехал к епископу для беседы, а не он один?).
Впереди, с левой стороны часовни, словно балкончик в рыцарских замках, жалась к холодной стене небольшая кафедра для проповедей. Толстая нога-колонна со скрытыми в ней ступеньками подпирала кафедру. Она напоминала уродливый каменный бокал – тоже из дикого камня. Все здесь было из неотесанного серого камня, все светилось нарочитой, показной бедностью, только белели драгоценные кружева на четырехугольном табернакулюме, поблескивали золотом канделябры, да на пузатых боках кафедры проступали примитивно вырезанные по камню фигуры неизвестных святых.
Зато в нише алтаря, за тонким крестом, который высился над свечами аналоя, освещенное каким-то скрытым боковым светом, висело изображение святого Франциска, привлекающее к себе взор каждого, кто переступал порог часовни.
Аденауэр знал это изображение. Он давно любил лики святых, считал самыми ценными в живописи именно эти минуты экстаза, которые помогали художникам оставить дела земные, забыть о них и отдать свой гений делам небесным, приобщиться к сферам трансцедентным. Особенно ценил он Эль Греко, этого критянина, своевольного византийца, который, попав в суровую католическую Испанию Филиппа Второго, проникся духом католицизма, его сдержанной, но безграничной в своих глубинах силой и всю дальнейшую жизнь отдал поискам выражения этой силы. Он создал более ста изображений одного лишь Франциска Ассизского, и этот висевший в часовне лик также приписывали Эль Греко, хотя и не стояла на полотне обычная подпись – тщательное и изящное факсимиле художника.
Еще до войны Аденауэр не однажды бывал в этом монастыре, чтобы лишний раз полюбоваться картиной. Знал ее до малейших деталей. Помнил все, хотя видел ее в последний раз двенадцать, а то и больше лет тому назад.
Черная патина столетий лежит на этом холсте. Багрянец пурпура, червонное золото и лиловые тона слились в неразделимую гамму красок, словно отрицая простые цвета, которые видел человек в окружающем его мире, выйдя за ворота монастыря. Но тьма не хотела выпускать из своих владений богатства этих красок. Тьма окутывала лик святого, тьма выплескивалась из его бездонных, широко открытых очей, которые стремятся поймать ясный небесный луч, ищут его вверху, но наталкиваются только на мрачный серый свод часовни и наполняются болью, наполняются отчаянием, мраком, тенями. А разве теперь тени не тяготят души многих?
Франциск протягивал вверх руки. Длинные руки, с пятнами стигматов – кровавых знаков мученичества Христа на кресте, – он жертвовал их богу. Аденауэр видел эти руки так, будто Франциск поднес их к самому его лицу. Пальцы расставлены веером. Длинные безвольные пальцы с утолщениями кожи на суставах, пальцы человека, который от всего отказывался, не делал ничего, уповая на ласку и милосердие божие. Аденауэру вдруг показалось, что он знает эти пальцы, что он видел их не двенадцать лет назад, а только недавно... Он поглядел на свои руки, на одну и на другую, и вздрогнул: его венозные, дряблые пальцы были точно такие, как у Франциска. Кожа на них тоже собиралась складками на распухших суставах; точно так же в его пальцах проступало безволие и бессилие. Он ведь также не желал ничего делать. Теперь будет делать. Будет!
Аденауэр крепко сжал пальцы в кулак, впился ногтями в ладони. Будет делать!
Быть может, у него сходство с Франциском не только в руках? Быть может, у него теперь точно так же заострились черты лица, так же покрыто зернистой влажностью волнения чело, так же глубоки глазные впадины... Но у них разные цели. Тот далекий святой видел свою цель в смерти, он говорил: чем больше живу, тем больше умираю... А он, Аденауэр, идет к жизни, великой и славной жизни.
С руками, сжатыми в кулаки, с напряженными до предела нервами, каким-то непривычным для самого себя степенным шагом приблизился он к той скамье, на которой сидел епископ рядом с незнакомым человеком, и тихо присел на краешек.
Те двое его не заметили, молились молча, а он молиться не мог, только смотрел неотрывно на голову святого Франциска, обрамленную тяжелым, гранатового цвета, капюшоном, и ждал.
Молитва незнакомца была короче, нежели у епископа. Он закончил ее, поглядел на Аденауэра, чуть заметно поклонился и улыбнулся ему, как старый знакомый. Аденауэр не знал этого человека. Не знал его водянистых глаз, мясистых щек, ехидного, почти безгубого лица. Незнакомцу можно было дать лет пятьдесят, волосы его уже несколько поредели, хотя на висках были еще довольно густые. Он тщательно их зачесывал, прикрывая свои несколько большие уши (у Аденауэра тоже были большие уши). Лицо умное. Ну еще бы! Стал бы епископ якшаться с дураком! Не в его принципах приглашать к себе кого попало!
Хитрый политик проснулся в душе Аденауэра, хитрый, полный подозрений и осторожности, готовый к отпору, готовый охранять свои, взлелеянные в мечтах, позиции, их неприкосновенность и святость.
Он приехал к епископу, который укрылся в монастыре, дабы переждать это смутное время,– приехал за помощью. Он организовал новую религиозную партию, вместо католической, той, которую распустил Гитлер. Новую партию, где идеи католицизма должны быть объединены с идеями демократии. Вокруг этой партии он сплотит куда больше сторонников, чем крикливые социалисты, так как начертит на своих знаменах тот же идеал, что и социалисты, – демократию. Но будет обладать силой, которой лишены социалисты, – поддержкой церкви, единого государства над государствами, единой армией, силы которой не иссякли в этой великой войне, а, наоборот, укрепились, – ведь она молилась и за тех и за других, ведь в ее поддержке и благословениях нуждались и те и другие: и Гитлер и Муссолини, и Черчилль и Рузвельт. Даже гордый де Голль и тот склонил голову перед могущественной властью папы.
Месса окончилась. Епископ поднялся, увидел Аденауэра, осенил его крестом. Человек в штатском не отходил от них.
– Думаю, мы пройдем прямо ко мне, – сказал он, нарушая безмолвие.
Они вышли из часовни. Аденауэр был гостем у епископа, он приехал к нему как проситель, его дело – покорность и послушание.
Епископ не спешил начинать разговор..
Они вошли в небольшую келью, обычную монашескую келью с кирпичным полом, с выбеленными известью стенами, с маленьким окошком, прорубленным в стене столь высоко, что к нему невозможно было дотянуться. Хозяин кельи заметил взгляд Аденауэра, брошенный им на окошко, усмехнулся.
– Людям, которые здесь живут, незачем видеть мир, – сказал он. – Они носят его в себе.
Голос у него был тихий, вкрадчивый. Таким голосам верят женщины и государственные деятели. Аденауэр поймал себя на этой мысли и с возмущением откинул ее прочь. Почему, собственно, государственные деятели должны верить таким голосам? А сам знал, что поверит, сам уже подпадал под власть этого человека, несмотря на то, что боялся этой власти и в то же время не хотел признаться, что боится.
Всему виной был епископ. Раз он столь смиренно и послушно шел за этим странным келейником, то, выходит, человек этот влиятельный. Но кто же он, кто?
– Вы, кажется, знакомы, сын мой? – спросил его епископ, усаживаясь на грубо отесанную скамью, стоявшую вдоль стены,– единственное, что здесь было, кроме простого ложа в углу да еще столика, сбитого из двух досок.
– Да мы знаем друг друга, пожалуй, уже лет сто.– Незнакомец скривил в усмешке свои тонкие губы.
Аденауэр не верил своим ушам.
– Позвольте! – воскликнул он вопреки присущей ему сдержанности, испугавшись какой-то западни, каких-то козней со стороны этого странного незнакомца. – Я не имею чести вас знать. К сожалению, это так, не имею чести...
– Дорогой господин Аденауэр,– спокойно ответил незнакомец, – попросту вы знали меня более молодым, вернее, знали меня совсем молодым, но за это время и вы порядочно постарели, однако я все же узнал вас. Неужели вы забыли своего покорного слугу Ганса Лобке?
Ганс Лобке! Вежливый, чрезмерно вежливый и предупредительный чиновник из кельнского полицай-президиума. Тот самый Лобке, что перехватывал переписку бургомистра Кельна с его биржевым маклером, делая копии со всех писем, и, когда Аденауэр запутался в финансовых махинациях, в которые влип вместе с папским нунцием в Германии кардиналом Еудженио Пачелли, ныне папой Пием Двенадцатым, этот самый Лобке показал фотокопии там, где следует. Аденауэра спас его давнишний друг банкир Роберт Пфердменгес: он внес те несколько сот тысяч марок, которые обер-бургомистр взял заимообразно под честное слово в банке и не смог возвратить. Аденауэр понял, что попался в руки циничного молодчика, как кур в ощип, и испугался его так, как никого никогда. Впоследствии Лобке еще раз поймал обер-бургомистра, когда тот добился выгодного таможенного закона для голландско-немецких фирм и получил от них в виде вознаграждения на миллион марок акций текстильных предприятий. Снова начались у обер-бургомистра неприятности, довольно значительные, хотя некоторое облегчение приносил объемистый пакет акций. Молодчика за его немалые заслуги перевели в Берлин, в аппарат министерства внутренних дел.
Больше Аденауэр его не видел. Но знал, что он существует, продвигается не без успеха по службе и стал активным нацистом. В тридцать шестом году в руки Аденауэра попала книга, изданная в Мюнхене и Берлине. Книга называлась «Закон о защите немецкой крови и немецкой чести, прокомментированный статс-секретарем доктором Вильгельмом Штуккартом и старшим государственным советником доктором Гансом Лобке». Позорнейший закон, согласно которому вскоре были убиты миллионы немцев. Это был ужасающий документ человеконенавистничества, и Аденауэр даже обрадовался, что под этим законом стояла подпись его давнишнего врага. Теперь можно было считать одним врагом меньше, так как после поражения нацистов доктора Лобке – раз его подпись стояла в книге – должны были привлечь к ответственности точно так же, как всех его хозяев.
И вот Ганс Лобке снова здесь, на Рейне, в родных местах, в монастыре, да еще и под опекой самого епископа!
– Наш дорогой господин Лобке, – как бы предвидя недоумение Аденауэра, тихо произнес епископ, – принадлежит к ордену святого Франциска, к братьям терциариям, место коих – на миру, среди кипучих мирских страстей.
– Если не ошибаюсь, – резко сказал Аденауэр, злой на епископа за то, что тот втянул его в столь лицемерную игру, – если не ошибаюсь, господин Лобке был старшим государственным советником в министерстве внутренних дел, которое чинило такой произвол, что ныне весь мир восстал против Германии. Не слишком ли злоупотреблял господин Лобке своей миссией быть в самом центре кипучих мирских страстей?
– Каждый поступал так, как ему подсказывала совесть, – доктор Лобке смиренно сложил руки на груди. – Одни бросались прямо в пасть льву, чтобы выдрать у него из зубов хоть несколько несчастных, угодивших туда. Другие же придерживались принципа Макиавелли: «Стой в стороне и присматривайся»...
Он намекал на него, на Конрада Аденауэра, он укорял его за невмешательство, за изолированность, он, этот бывший оберрегирунгсрат[61]подписывавшийся под самыми кровавыми законами, какие когда-либо знало человечество! Лицо у Аденауэра покрылось неживой бледностью от гнева. Он мог быть страшен в ярости. Лобке еще не знает этого. Прошли времена, когда он безнаказанно шпионил за каждым шагом бургомистра, прошло и время его пребывания в Берлине, – теперь он, Аденауэр, самый могущественный среди них! За ним стоят американцы! Это к нему первому пришли американцы на второй день после захвата Кельна. Это его называют первым американцем в Европе.
– Дети мои, – ласково вмешался епископ, – разве вы собрались здесь для спора?
– Я не желаю иметь ничего общего с господином Лобке,– хмурясь заявил Аденауэр. – Он внесен в список военных преступников, его будут судить. Я ограждаю себя от таких, как он. Я горжусь тем, что не имел ничего общего с нацистами. Мои руки чисты. Это знает весь мир.
– Разве вам не известно, сын мой, что в своем рождественском послании наш наисвятейший папа призывал к милосердию над побежденными? – епископ укоризненно посмотрел на бургомистра. – И разве не памятуете вы, как нашего всеблагого миропомазанного кайзера Вильгельма тоже собирались судить когда-то, но наисвятейший папа Бенедикт Пятнадцатый подал свой апостольский голос из святого города, и его послушался весь мир. Господин Лобке выполнял волю наисвятейшей церкви. Он укрощал заклятых врагов рода человеческого. Не будь он на своем посту, кто знает, не суждено ли было увидеть миру во сто крат более кровавые убийства и преступления. Вот с какими словами обращается к нашему дорогому господину Лобке сам наисвятейший папа Пий Двенадцатый. Подайте, сын мой, письмо, прошу вас,– обратился он к Лобке, и тот, словно только этого и ждал, схватил с подставки для бревиария небольшую папку и, раскрыв ее, протянул епископу.
Письмо было написано по-немецки. Еудженио Пачелли знал немецкий язык. Оно было написано его рукой. Аденауэр достаточно хорошо помнил руку своего бывшего союзника по биржевым махинациям. Одного взгляда на письмо было достаточно, чтобы прочитать его. «Горячо вверяем в наших молитвах господина Лобке и его семью опеке божьей. Передаем господину Лобке и его супруге выражения нашей милости и наилучшие пожелания». Подписано: «Пий XII. П. П.» Епископ листал бумаги в папке. Аденауэр увидел еще письмо с гербом Апостольской канцелярии Ватикана, письмо от кардинала Монтини, который точно так же заверял Лобке в том, что за него молятся все и желают ему, добра и всяческого благополучия. Доктор Лобке стоял против Аденауэра в позе, которую рекомендовал в своих «Изложениях духовных» отец иезуитов преподобный Игнатий Лойола: «Как только впадаем в грех, складываем руки на груди и внутренне возбуждаем в себе жалость».
Доктор Лобке словно бы хотел сказать Аденауэру: «Мне вас жаль, господин бургомистр. Точно так же жаль, как тогда, когда я раскрыл ваши финансовые махинации. Но что поделаешь: мы живем в столь жестокое время, что невольно приходится и самим становиться жестокими».
Аденауэр еще раз взглянул на папку в руках епископа, на письма из Ватикана, перевел взгляд на Лобке. Недаром же он не любил францисканцев и не доверял им. Некогда святой Франциск сделал постником волка в Агоббио и взял с него обещание, что тот будет питаться только дозволенным и данным людьми... А теперь в монастырях, которые процветают под эгидой всепрощающего Франциска, расплодилась целая стая кровожадных волков, против которых бессильны даже такие прожженные политики, как он, Аденауэр.
– Короче говоря, господа,– сказал он, охлаждая свое раздражение, – чем я могу вам помочь? О чем пойдет речь?
– Бог карает людей, – молвил епископ, – чтобы их дух не возвеличивался; он накладывает на них неисчислимые наказания, и среди них извечная, нескончаемая кара – построение. За Вавилонскую башню люди расплачиваются не только смешением языков. И египетские пирамиды, и Китайская стена, и Эскориал Филиппа Второго, и Петербург, и американские небоскребы – все это от бога, это уже божьи символы, это укрощение непокорного человеческого духа, о горе нам всем! Теперь строить будем мы, немцы. Вся Германия будет строиться в голоде и холоде, в бедности и немощах, чтобы умилостивить бога, чтобы снять гнев.
– Мы, немцы, боимся только бога,– тихо вставил Лобке.
– Это сказал Бисмарк! – сердито уточнил Аденауэр.
– Да, мы боимся только всевышнего и всеблагого бога,– продолжал епископ.– И не под божьим ли знамением должны мы сплотиться, дабы завершить то великое дело, которого ждет ныне от нас мир: соединить воедино всех наилучших, наидостойнейших, наисильнейших. Не брат против брата, а брат за брата – в этом наша сила, дети мои! Сказано ведь у апостола Павла: «Блаженны, кому отпущены беззакония и кому прикрыты грехи». И еще сказано: «Блажен человек, которому не посчитает господь греха».
– Я знаю о вашей идее организации христианско-демократической партии, – на ухо Аденауэру сказал Лобке, не перебивая епископа. – Это блестящая идея. Всячески вас поддерживаю и буду первым вашим помощником.
– Но как? Как это можно? – воскликнул Аденауэр, боясь даже подумать, что когда-либо его фамилия может фигурировать рядом с фамилией Лобке.
– Терциарии никогда не стремятся к главенствующим положениям, – сказал Лобке, – они довольствуются позицией второстепенной. Позади всегда больше видно, чем впереди. Главное – это выбрать такую позицию, чтобы всегда своевременно прийти на помощь передним. Вы можете не сомневаться, что я сумею избрать именно такую позицию.
– Но мне уже нужны люди действия. Надо начинать.
– Тем лучше. Начнем не откладывая. Вы возьмете меня к себе в магистрат.
– Вас – в магистрат? К американцам?
– А что ж тут такого? Моя старая специальность при мне: я стану советником по вопросам общественного порядка и безопасности.
– Этим занимаются сами американцы.
– Тем лучше. А мы будем им ассистировать. Поверьте, я неплохо разбираюсь в этом деле.
– А списки военных преступников? Вас же схватят, едва только вы появитесь вне стен монастыря!
– Это уже ваша забота – сделать так, чтобы вашего советника не схватили.
– Коммунисты поднимут страшный шум.
– Не разумнее ли предпочесть шум и протесты коммунистов, нежели терпеть недовольство самих немцев? – криво усмехнулся доктор Лобке, намекая и на епископа, который согласно кивал головой на каждое его слово, и на него, доктора Аденауэра, который тоже недолюбливал коммунистов и никогда не пропускал случая засвидетельствовать свою к ним неприязнь словом и делом.
– Хорошо, – сказал Аденауэр, – кто хочет творить чудеса, должен помнить, что его ждут дела исключительно трудные. А разве я не хотел творить чудеса?
– Аминь, – заключил епископ, подымаясь со скамьи.
Встреча окончилась. Снаружи светило яркое солнце. В машине ждал улыбающийся, беззаботный шофер, который во время отсутствия бургомистра порядком позабавился, наблюдая за отцами францисканцами.
МИССИЯ «ПЕЙПЕР-КЛИПС»
Чтобы произнести одно слово, требуется работа семидесяти двух мускулов. Так заявил Юджину доктор, когда тот попытался что-то сказать и скорчился от боли, вызванной этим, казалось бы, совсем незначительным усилием. Никогда не представлял себе Юджин, что в его крупном и таком на первый взгляд обыкновенном теле может вмещаться такое сложное приспособление мускулов, нервов, сосудов и прочей чертовщины.
Боль приковала его к постели. Не давала возможности даже на локтях приподняться. Впервые за свои двадцать с лишним лет Юджин Вернер испытал такое чувство: ты хочешь подняться с кровати, ты полетел бы из этой постылой комнаты, белой и чистой до рези в глазах, куда угодно, а тебя не пускает какая-то бессмысленная дырка в боку, и ты недвижно лежишь в постели, будто прибит трехдюймовым костылем. Ты даже крикнуть как следует не можешь, ибо тебя мгновенно пронзит адская боль в теле и – что, пожалуй, еще хуже – сбегутся санитары, фельдшера, врачи, замашут на тебя руками, насупят брови, начнут мотать головами, будто кони в жару.
Однако – ничего не поделаешь. Надо было привыкать. И он привыкал. К тому же у него были свои маленькие утешения. Главное – он в Сицилии. Это напоминало сказку. Мыслями своими он все еще оставался там, на севере Италии, на горном шоссе возле озера Комо, а его тело, оказывается, уже в Сицилии.
«Быстро же меня перебросили сюда»,– подумал он, жмурясь и пытаясь представить себе, каким образом и чем его «перебрасывали»: самолетом, пароходом или машиной? Было, очевидно, всего понемножку, а он, оказывается, ничего не помнит.
Вскоре ему принесли медаль. Так называемое «Пурпурное сердце», даваемое всем американским солдатам за ранение.
– Это для начала, – ободряюще улыбаясь, сказал офицер из Службы информации и просвещения, принесший Юджину медаль, – а поправишься, пойдешь на фронт – получишь все награды, которые может получить американский вояка: медаль меткого стрелка, Бронзовую звезду, Серебряную звезду, Военный крест с пальмами и в довершение Почетную медаль конгресса.
– Вы считаете, что война продлится до тех пор, пока вы станете дедушкой? – не без ехидства спросил его Юджин.
– Но-но, сержант, – насупился офицер. – Я вижу, что вас плохо учили уважать старших!
А еще неделю спустя пришел тот же офицер (оказалось, что он служит здесь при госпитале), взял Юджина за руку, хлопнул другой рукой сверху, забыв о боли, которую мог причинить раненому.
– Друг мой! – воскликнул он.– Вы родились в сорочке. Во-первых, вы значитесь в списке мертвых. Во-вторых, все те награды, которые я вам посулил, у вас уже имеются. Оказывается, их выдавали вам автоматически за все то время, пока вы блуждали где-то там по Европе. А в-третьих, дружок, вы уже не сержант, а лейтенант американской армии. Лейтенанта вам присвоили посмертно, по всей вероятности для утешения ваших безутешных родичей...
Так Юджин Вернер стал лейтенантом.
Его сразу же перевели в офицерскую палату, где у него оказался только один сосед, жилистый, угрюмого вида капитан, только накануне привезенный из Рима. Капитан был ранен в ногу, ранен при каких-то загадочных обстоятельствах, о которых у него не было ни малейшей охоты рассказывать новоиспеченному лейтенанту. Зато у этого жилистого черта оказалась под кроватью объемистая бутыль в плетенке; бутыль, по самое горлышко наполненная отличным сицилийским вином «мальвазия сичилиана». И хотя Юджин еще далек был от выздоровления, а капитану сделали только вторую перевязку, на следующий день они дружно взялись за мальвазию, ибо тот день оказался Днем Победы – счастливейшим днем для солдат всего мира.
Их госпиталь помещался в бывшем пансионате курортного сицилийского городка Таормина. Весь городочек, собственно говоря, был сплошным пансионатом, а теперь, как они думали, стал сплошным госпиталем; на его тесных и кривых уличках, на террасах, нависающих над синим-пресиним морем, не видно было ни одной живой души, но в день окончания войны, в День Победы, оказалось вдруг, что в Таормине, кроме раненых, находятся еще целые полки солдат и офицеров, которые, очевидно, отсиживались здесь именно в ожидании этого счастливейшего дня. На улицах Таормина взревели десятки военных оркестров, настоящих американских военных оркестров; в бешено-веселом ритме они могли сыграть вам даже траурный марш! На улицах городка не умолкали радостные крики, объятия, толкотня, песни. И Юджин с капитаном пили сладкое сицилийское вино и плакали от радости, проклиная свои ранения; пили и плакали, а на улицах Таормина кипела радость и играли оркестры, играли оркестры, играли оркестры!
Вино и победа немного согнали мрачное выражение лица капитана. В коротких паузах между очередными стаканами вина он расспросил Юджина о его военной судьбе и, узнав, что тот хорошо знает Германию, учился в специальной школе, а затем прошел с партизанами от Северного моря до самой Италии, сказал:
– Можешь возблагодарить бога, что встретился со мной. Я помогу тебе устроиться после госпиталя так, как никому и не снилось. Держи стакан!
Им досаждали журналисты и какие-то субъекты из Службы информации и просвещения. Приходили с метровой длины блокнотами и задавали глупые и бессмысленные вопросы: «Довольны ли вы своей судьбой?», «Любите ли вы своего сержанта?», «Что бы вы хотели взять с собой на необитаемый остров?», «Какой ваш наибольший порок?»
Капитан поднялся первым. Ему принесли алюминиевые костыли с пластмассовыми подлокотниками, он немного попрыгал по комнате, прилаживаясь к «добавочным ногам», и поковылял на улицу, где светило солнце и отливало синевой теплое и прекрасное море.
Вернулся он после первого своего бегства из белой прохладной палаты уже не таким мрачным и угрюмым, как обычно, и в его резком голосе послышались даже теплые нотки, когда он сказал Юджину:
– Быстрей поправляйся, лейтенант, да пойдем странствовать с тобой по этой благословенной земле. Никогда не думал, что Сицилия так прекрасна!
– Мы в Америке привыкли, что Сицилия – это родина всех знаменитых гангстеров,– вспомнив о своем давнишнем споре с Пиппо Бенедетти, сказал Юджин и засмеялся,– поэтому и рисовалась она нам всегда как нечто голое и жалкое.
Раны их заживали на диво быстро. Видимо, в этом играл свою роль сухой климат Сицилии. Они уже ходили вдвоем, грелись на солнышке, любовались с террас то живописными глыбами розового камня, брошенного в море и названного «Изола Белла», что означало – «Прекрасный остров», то купальнями пляжа Мортелле, то дворцом герцога Сан-Стефано. Они понемногу бродили по Таормину, начиная свои странствия от собора и спускаясь все ниже и ниже, к самому морю, к пляжу Мазарро, скрытому меж двух высоких мысов; вода была там настолько теплой и синей, что даже нельзя было в это поверить. Вопреки запретам врачей, они пристраивались на машины, идущие в Мессину или в Катанью, и постепенно знакомились с южным побережьем острова. Они видели густые рощи лимонных деревьев, посаженных сицилийцами в золотых пазухах долин у самого моря. Видели ряды террас на склонах суровых кремнистых гор и пепельные заросли олив на этих террасах. Видели, как делают эти террасы, целыми семьями карабкаясь на отвесные скалы и собирая там большие и маленькие серые камни, чтобы на их месте посадить оливы. Это дерево растет долго. Только внуки, а то и правнуки дождутся первых маслин. Но человеческим желаниям нет предела. Человек трудится даже тогда, когда не надеется увидеть непосредственных результатов своего труда. Кто-кто, а Юджин, сын фермеров с деда-прадеда, отлично понимал этих людей, что так упорно взбирались на крутые скалы.
Сицилия раскрывалась их глазам, великолепная и суровая. Нигде не могло быть такого синего моря, как то, что омывало Сицилию. Такое море существовало только в старых сказках. Да не все сицилийцы видят свое море. У многих жизнь проходит на каменистых плато центральной Сицилии, где они вдыхают пыль сицилийских дорог, такую мелкую и столь белую, что, как говорил Данте, на свете и снега нет такого белого... И ухо их ласкает не шум прибоя, а грохот выстрелов бандитов «мафии» – бандитской организации, которая на протяжении столетий наводит страх на весь остров. Юджин и капитан ездили к вулкану Этна. В солнечные дни он отлично был виден из Таормина. По дороге они досыта наслушались рассказов о «мафии», об убийствах, убийствах из-за угла, которые не прекращались ни во время войны, ни после, когда на Сицилии уже давно хозяйничали союзники.
Юджин и капитан до сих пор вспоминали, как сладко было вино «мальвазия сичилиана»,– они пили его в День Победы. Но когда они увидели, как сицилийский виноградарь вспахивает свой клочок земли деревянным плугом, сохранившимся, вероятно, еще с тех времен, когда и вправду существовали боги, столь ценившие, если верить мифам, мальвазию, то невольно подумали, что не для всех так уж сладко это сицилийское вино... Да и пили здесь больше не вино, а сок из кактусов, кроваво-черный сок опунций, густо усеявших горы, нависая своими колючими лапами-ветвями над шоссе и над руслами высохших рек, заваленными камнями.
История оставила на Сицилии бесчисленное количество следов. Здесь были греки и римляне, византийцы и арабы, норманны и... гитлеровцы. Каждый завоеватель действовал на свой лад. Одни воздвигали храмы и строили театры, другие разрушали их,– а ныне потомки с одинаковым чувством заинтересованности и изумления осматривали уцелевшие сооружения, все эти храмы, палаццо, замки, фонтаны без воды, дома правосудия, развалины театров, святынь, римских купален... Одни только названия городов напоминали об истории: Таормин, Сиракузы, Палермо, Агригантум. Это было не то что в Америке, где просто копировали названия Старого Света, называя мелкие города Вавилоном, Москвой, Лондоном, Парижем, Варшавой. Здесь царила подлинная история, седая и древняя, как сама земля.
А что за ландшафты открывались твоим взорам из одного только Таормина! Из-за руин греко-римского театра, насчитывающего две тысячи лет существования, проступали синяя даль Ионийского моря и мрачный конус Этны в центре острова. Но диво дивное: душа сицилийца, невзирая на грозные чудеса его земли, невзирая на величественно-монументальные памятники истории его острова, осталась мягкой, ласковой и нежной.
Юджин убеждался в этом, вслушиваясь лунными ночами в сицилийскую песню, которая пробивалась откуда-то с затененного безмолвными горами морского берега. Убеждался, впервые увидя неповторимое произведение рук сицилийца– так называемую «карето сичилиано», небольшой, двухколесный деревянный возок, куда впрягают осликов или мулов, возок, подобно тончайшему кружеву вырезанный из дерева, раскрашенный красками, вобравшими в себя все богатство и разнообразие оттенков сицилийской земли; украшенный миниатюрными панно, на которых изображены опять-таки мечтания сицилийца о лучших временах – о богатстве, благосостоянии, счастье.