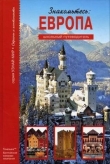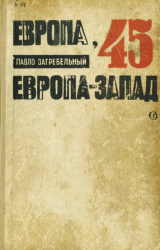
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 43 страниц)
– Черт побери,– восклицал Юджин,– я начинаю сожалеть, что мои предки выбрали для переселения из Германии Америку, а не сей дьявольски очаровательный уголок нашей земли. А не плюнуть ли мне на все, жениться на сицилианке и остаться здесь разводить лимоны?
Капитан молчал. Сицилия была прекрасна, но что ему до этого? И что ему до восторгов Юджина, если его судьба уже предрешена?
Вернер отплывал из Мессины под вечер летнего дня. Капитан, несмотря на то что ранение у него было куда более легким, почему-то задерживался в Таормине, а Юджина ждала новая служба, о которой позаботился капитан.
Теплоход отошел от причала. Порт оставался позади. Все оставалось позади: горная земля, благоухание лимонных и апельсиновых рощ, разогретые на солнце камни городских улиц, женщины с удивительно черными, таинственными, как сама любовь, глазами, мужчины с печальными лицами.
Чайки летели вслед за пароходом. Летели стайкой, шумливой, беззаботной. Вот они опустились на воду, едва касаясь ее, на миг замерли, потом поплыли назад, чем дальше– всё быстрее, поплыли вместе с водой, с берегом, с городом, с людьми, заполнившими узкую набережную, с горами...
Но чайки не хотели плыть назад. С резким криком взметнулись они в воздух и полетели вслед за пароходом, догоняя и обгоняя его...
Юджин стоял на палубе, смотрел на чаек, на берег Сицилии и с грустью думал, что порой птица, слабая, маленькая, незначительная пушинка в мироздании, способна на большее, чем всемогущий человек.
«Вот черт!—подумал он.– Уж лучше не показывали бы американцам этой Европы вообще, тогда б они считали, что Америка – лучшая страна в мире... А теперь боюсь, что их не выгонишь отсюда. Да и меня б не выгнали, будь у меня такая возможность».
После Сицилии Юджин очутился в Тироле. Он входил в группу, носившую загадочное и несколько нелепое название «Пейпер-Клипс»[62], где нашел десятки офицеров, молодых, интеллигентных, вежливых. Они получили университетское образование, знали все существующие на земле языки, разбирались в психологии человека, знали как свои пять пальцев не только маленький городок Альтаусзее, не только Тироль, а похоже было, что всю Европу,– среди таких людей Юджин чувствовал себя явно не в своей тарелке... Однако ему намекнули, что его услуги для миссии «Пейпер-Клипс» могут быть весьма ценными. После этого он успокоился.
В Альтаусзее преобладал женский пол. Здесь должен был быть центр того безумного Альпийского редута – одна из затей глуповатого фюрера, и под защиту редута собрались жены высокопоставленных берлинских чиновников, семьи партайляйтеров, генеральские дочери, любовницы эсэсовских головорезов. Мужчины сочли более благоразумным не попадаться на глаза завоевателям. В горах было достаточно убежищ и без этого. Ходили слухи, что где-то здесь скрывается сам Мартин Борман, которого искали, чтобы приобщить к главным военным преступникам на Нюрнбергском процессе. Бывший гаулейтер Тироля Франц Гофер скрывался якобы с группенфюрером СС Карлом Вольфом – бывшим офицером связи Гиммлера в главной квартире Гитлера, организатором и руководителем секретных переговоров между гитлеровцами и союзниками в Северной Италии. Об этих птицах и птичках меньшего калибра говорили меж собой офицеры, когда сходились во время обеда в местном ресторанчике под вывеской «Четыре времени года». Здесь можно было услышать целые легенды. О том, как был пойман Кальтенбруннер и как из-под самого носа у американцев сбежал Адольф Эйхман, организатор уничтожения шести миллионов евреев, один из самых кровавых преступников среди всех нацистов. Рассказывали, как повезло одному английскому полковнику, который обнаружил в небольшом городке Волькенштейн фрау Герду Борман – жену пресловутого Бормана. Она бежала в Тироль из Оберзальцберга вместе со своими девятью детьми и привезла с собой целый чемодан писем супруга. Там же, в этом чемодане, находились секретные документы и стенограммы всех бесед Гитлера, которые он вел на протяжении всей войны во время обедов. А еще рассказывали, что в окрестностях горного озера Теплитцзее все время, находят новые и новые трупы немцев, хотя война уже окончилась и никаких вооруженных групп в горах не должно было оставаться.
Офицеры, пришедшие в армию из университетов, целые дни корпели над бумагами, так как гитлеровцы заполонили город тоннами разнообразнейших архивных материалов. Юджин не представлял себе, что может быть интересного в этих бумагах, на каждой из которых стояла печать с общипанным орлом: у орла распластаны крылья, он как бы собирался взлететь. Юджин потешался в душе и над офицерами-архивариусами, и над этим нелепым орлом, что так и не мог взлететь выше этого убогого городишка, заброшенного в диких голых горах.
Наконец ему наскучило сидеть без дела, и он стал донимать свое начальство просьбами поручить ему какое-нибудь дело. Его послали в нудный и никчемный Волькенштейн в качестве... шпиона. Ему вменили в обязанность шпионить за каким-то английским полковником, который остановился со своей миссией в Волькенштейне. По слухам, это и был тот самый полковник, который выудил у Герды Борман содержимое ее чемоданов, чем невероятно разгневал американского полковника.
Но на этом и окончилось пребывание Юджина Вернера в Тироле. Два дня спустя его отправили на Рейн, отправили по собственному желанию, потому что он просил – уж если посылать куда-нибудь, то в знакомые места, пусть это будет Рейн. Там он хоть чем-нибудь сможет быть полезен для этой бесполезной, на его взгляд, миссии «Пейпер-Клипс».
Тому способствовал вышеупомянутый английский полковник, следить за которым поручено было Юджину, да еще юджиновский пистолет, полученный им при зачислении сотрудником миссии. Пистолет, правда, не такой, как был у него когда-то, еще в бытность сержантом, не переносная гаубица, а так себе – хлопушка. Но и из этого пистолета при желании можно было уложить такого здоровягу, как этот британский сукин сын, если б только Юджин не промазал.
А он промазал. У него дрогнула рука, заслезился глаз, заколотилось от неожиданности и гнева сердце, перехватило дыхание – и все погибло: негодяй удрал, скрылся, а его, Юджина, поторопились отправить из Тироля подальше, чтобы, чего доброго, он еще раз не встретил этого полковника и еще раз не стал охотиться за ним.
А было это так.
Поиски полковника Юджин поставил на широкую ногу. Он не стал забавляться переодеванием, как это делают дешевые детективы, не занялся выслеживанием, подглядыванием, перехватыванием писем, подслушиванием телефонных разговоров.
Просто сел в машину, сел как был – в форме, при оружии– и поехал в Волькенштейн. Там он спросил американского коменданта, где живет британец. Тот и знал и не знал.
– Бывает здесь у нас в одном доме, занятом английскими офицерами, какой-то чин, но он это или не он, сказать не могу. Не интересовался,– таков был ответ.
Юджин не стал расспрашивать коменданта. Полиция никогда ничего не знает, будь она обычной или военной – это не имеет значения. Лучше всего делать все самому. Он стал прогуливаться по городку, бродил по узким уличкам. Как бы от нечего делать расспрашивал прохожих, кто живет там, а кто вон там... За информацию платил (американцы платят за все, поэтому для них не существует вещей недоступных в этом мире). Мужчинам протягивал сигаретку «Честерфильд», женщин и детей угощал шоколадом, которым были набиты его карманы. И уже полчаса спустя знал все, что ему нужно было знать: где живет полковник, когда он выезжает из дому, когда возвращается, какая у него машина и какой шофер.
Можно было и увидеть своего подопечного: в этот час он допивал утренний чай перед тем, как куда-то отправиться по делам.
Юджин подъехал к дому как раз тогда, когда оттуда вышел человек в мундире английского офицера с красными петлицами генерального штаба, с тремя золотыми коронами на погонах, выпуклыми, новенькими коронами, весело сверкающими в лучах горного солнца.
Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать полковника. Все повторялось. Карусель жизни продолжала бешено кружить Юджина. С этим полковником он встречался, когда тот был не полковником, а майором. И Юджин в ту пору был еще не лейтенантом, а сержантом, а точнее – партизаном, а сей «полковник» – просто шпионом и негодяем. Это был Норман Роупер, убийца Дорис и Клифтона. Это дело его рук – дырка, которую Юджин до сих пор ощущал в своей груди. Ловкач. Рьяный служака. Не чересчур ли рьяный и ретивый?
Юджин не знал о случае на римском аэродроме Чампино. Он и вообразить не мог, что его друг Михаил Скиба уже сталкивался с Роупером. И он поступил точно так же, как поступил Скиба: не задумываясь, схватился за пистолет, загнал патрон в патронник, прицелился и выстрелил...
Ах, проклятая рука! Проклятый глаз! Проклятое сердце!
Он промахнулся.
Роупер не стал убегать, не сел в машину, ждавшую его с заведенным мотором, он молниеносно повернулся и скрылся в доме. Хлопнул дверью, и дверь закрылась надежно и плотно. Юджин сгоряча пальнул еще дважды в нее, но это было уже бесполезно. Он подбежал к двери, рванул, ударил ногой раз, другой – дом безмолвствовал. Английский сержант сидящий в машине полковника, почел за лучшее исчезнуть. Юджин обошел дом – дверь была только одна. Он стал ждать. Решил, что не отойдет от двери, пока не появится Роупер. Должен же он когда-нибудь выйти!
Так он простоял до вечера. Вечером приехал на «додже» тот самый американский комендант, с которым он утром разговаривал, приехал не один, а в сопровождении порядочного эскорта военной полиции и «снял» Юджина с его добровольного поста.
В штабе ему разъяснили, что он не совсем верно расшифровал слова своего полковника: следить за британским офицером вовсе не означало стрелять в него из пистолета при первой же встрече.
– Но ведь это шпион! – воскликнул Юджин.– Он чуть не убил меня. Он убил моих друзей по партизанскому отряду. Это бандит!
Офицеры слушали его и улыбались. Они, столь молодые и корректные, никак не могли взять в толк, как это можно ни с того ни с сего стрелять в союзнического офицера да еще кричать при этом, что он бандит или шпион... Если он офицер, и к тому же офицер высокого ранга, и если ему доверили важное дело, выходит, он и прежде был офицером, и тогда ему доверяли какое-нибудь дело, как каждому из них... И если он во время выполнения своего долга вынужден был где-то там стрелять – что ж поделаешь! Незачем было попадать под его пули – вот и все!
Но разве мог понять такие вещи этот новоиспеченный лейтенант, этот выскочка, вчерашний сержант Вернер? И разве таким людям можно доверять столь сложную и деликатную работу, как распутывание тончайших нитей минувшей войны? Его фермерские руки годятся только для грубой, черной работы. Его место в полиции – и больше нигде!
И Юджина послали на Рейн, где в рамках миссии «Пейпер-Клипс» нужно было проводить акции, весьма близкие к полицейским.
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ
Это уже граничило с проявлением массового психоза. Бежали все. И те, кому действительно грозила опасность, и те, кто мог безнаказанно пересидеть дома. Всех охватило немыслимое беспокойство, испуг и нетерпение перелетных птиц. Лететь! Лететь! Лететь! Куда? К теплу, к теплу! В Испанию, в Южную Америку, на острова Тихого океана, к черту в зубы, лишь бы только избежать рук правосудия. В то время как вся Европа жила словом «репатриация», дышала одним желанием – возвратиться на родину, когда миллионы людей, насильно угнанные фашистами из родных мест, теперь торопились вернуться домой, они – те, что совсем еще недавно кричали о «новом порядке» в Европе, кто молился на Гитлера, верил каждому слову Геббельса, восхвалял несуществующую солдатскую доблесть Германа Геринга, знали нынче только одно-единственное слово «экспатриация», что означало: бегство, позорное, трусливое, жалкое бегство от собственной земли, от собственной родины.
Доктор Гйотль ненавидел беглецов. Он знал, что рано или поздно они вынуждены будут вернуться, верил, что Германия, стараниями лучших ее сыновей, вновь возродится. Некоторым из них на это время и впрямь лучше было скрыться, замести следы. Но ведь не всем! И что будет, ежели все покинут Германию, спасая только собственную шкуру?
Он хорошо помнил последнее совещание у Бормана, состоявшееся незадолго до того, как они эвакуировались в горы Тироля. Безрукий Борман, твердокаменный и непоколебимый Мартин с непроницаемым лицом, прислушиваясь к звукам сирен воздушной тревоги, сказал: «Вас не должно поражать то, что вокруг все рушится и уничтожается большевиками. Когда большевизм сожрет другие государства, немцы неожиданно воспрянут, возвысятся, уничтожат все гнилое вокруг себя и захватят власть над поверженным в хаос миром. Малые народы с радостью встретят тогда немецкую армию, как свою освободительницу из-под коммунистического ига, и гораздо легче, нежели теперь, согласятся на наше руководство, которое уже не станут, как нынче, саботировать».
Пока Гйотль управился с важными грузами в Альтаусзее, пока городок заполнялся бегущими группенфюрерами СС, СА – фюрерами, гаулейтерами, бывшими генералами и чиновниками берлинских министерств, он ощущал какое-то странное спокойствие, какую-то даже гордость оттого, что невозмутимо расположился здесь, даже устроил в уютном гнездышке свою семью. «Разве вы не уезжаете отсюда?» – в страхе спрашивали его переодетые, перелицованные до неузнаваемости беглецы, видя на нем форму оберштурмбанфюрера. Он молчал, только загадочно улыбался. Когда-нибудь они возвратятся. Когда-нибудь, когда их обратный путь будет лежать через эти горы, через эти маленькие гористые городки, они вновь увидят здесь его – и только тогда поймут оказанное ему доверие и порученную ему роль.
С приходом американцев изменилось только то, что доктор Гйотль сменил свою форму на отлично сшитый серый костюм. Теперь он был просто «господин профессор», владелец школы-пансионата в Бадаусзее, где обучались дети богатых людей не только Германии, но и Франции, Швейцарии, Англии. А чтобы не дразнить завоевателей и не вызывать их излишнего любопытства, фамилию свою он тоже изменил, назывался отныне доктором Хагеном. Не изменил только своих мыслей, не прекратил деятельности. Рискуя иметь дело с американскими патрулями, принимал по ночам неизвестных людей в партикулярной одежде, спроваживал их до итальянской границы, вверяя надежным рукам опытных проводников – бывших контрабандистов, которых называл коротко: Курт и Вальтер. Сам он мог исчезнуть в любую минуту. В горах, на большой высоте, стоял готовый к вылету английский самолет «Черный Лизандр», специальный самолет, добытый задолго до конца войны доктором Гйотлем по приказу людей, которых нынче уже не было на свете или же которые хотели, чтобы все считали, что их нет на свете. В любой момент Гйотль мог сесть на «Лизандр» и лететь в любом направлении. У него были деньги, золото, у него были большие знакомства. Но он никуда не улетал. «Лизандр» стоял на горной площадке, готовый к старту. Два летчика бессменно находились возле самолета; единственная ведущая туда горная тропинка охранялась людьми, которым доктор Гйотль доверял и веру свою скреплял высокой оплатой. Почти каждую ночь он проверял готовность самолета, но сам не покидал Бадаусзее.
Какие-то австрийцы – партизаны, что ли,– попытались пробраться на горную площадку. Вероятно, они знали о ее существовании, хотя вряд ли могли догадаться о самолете. А возможно, кто-либо из людей Гйотля выдал тайну. Австрийцев было двое. Будь их даже двадцать два или двести два, то и тогда немыслимо было пробраться по узкой тропинке, у основания которой достаточно было посадить одного автоматчика, чтобы он снял смельчаков одного за другим – как птиц. А у Гйотля там было несколько таких автоматчиков. Австрийцы не вернулись. Никто не подозревал о самолете в горах.
Американцев больше интересовало то, что осталось в Аусзее и Бадаусзее от немцев; они бросились разбирать огромные ящики, которыми были набиты грузовые машины, брошенные их владельцами. Американцы искали небезызвестных нацистов, их прежде всего интересовала крупная дичь – доктор Гйотль покамест мог спать спокойно.
Однако покой его внезапно был нарушен, и нарушен довольно-таки грубо. И не американцами, а британцами, которые тоже откуда-то взялись в этой горной местности и сразу же заинтересовались доктором Гйотлем. Ничего не помогало: ни ссылка на то, что он доктор Хаген, владелец и директор школы-пансионата для детей зажиточных родителей любой национальности. Ни рекомендательные письма, подписанные довольно влиятельными личностями Англии, Франции, Швейцарии. Ни вполне законное требование о встрече с офицером американской военной администрации – поскольку власть принадлежала американцам и их войска первыми захватили эти места.
Его доводы никто не принял во внимание. Пришли два британских сержанта, здоровенных молодых парня, молчаливых, как все среднего ранга англичане, сказали Гйотлю, что он арестован, что не имеет права выходить из дому, и предупредили, что малейшая попытка к бегству автоматически повлечет за собой его смерть.
Арестовали и всех тех, кто сунулся в ту первую ночь в «школу» доктора Хагена-Гйотля. Захватили бы, конечно, и ожидающий в горах самолет, если б знали о нем, захватили б и еще кое-что, но доктор Гйотль молчал, а сержанты не интересовались ничем, кроме его собственной персоны.
Прошло несколько тревожных, полных напряженного выжидания дней. Доктор Гйотль опасался, что никто не узнает о его аресте и что те, для кого он держал наготове самолет, придут к нему и угодят в мышеловку. Это была бы наибольшая бессмыслица, чего никак нельзя было допустить. Однако, хотя в своем положении он ничего не мог предпринять, кто-то из ночных посетителей, очевидно, пронюхал о готовящейся западне и вовремя ускользнул из рук неповоротливых британских сержантов. А ускользнув, дал знать кому следовало. Ночные визиты в школу доктора Хагена прекратились, теперь ему оставалось беспокоиться только о самом себе. Это оказалось делом весьма нелегким. Пока он думал о других – чувствовал себя увереннее; пока гордился беглецами и в душе восхищался собственным мужеством, все шло как нельзя лучше. Теперь им постепенно овладевало отчаяние. Вначале это было просто равнодушие. Он не удивился этому чувству, зная, что это нормальное психическое состояние людей, которых внезапно выключили из активной деятельности. Но за равнодушием пришло другое, пришло разочарование, пришло отчаяние. Пожалуй, только он один поверил в то, что после войны их сопротивление не прекратится, что истинные национал-социалисты сойдут с арены только для того, чтобы вскоре вернуться. Теперь пришли другие мысли: а что, если все они бегут вовсе не для того, чтобы возвратиться назад, а бегут, просто спасая свою шкуру? А Бормана, для которого он держит самолет в горах, быть может, давно уже нет в живых? И он, Гйотль, как последний идиот, сидел здесь, пока его схватили!
У него теперь в избытке было свободное время для раздумий, и чем больше он думал, тем горше становилось у него на душе. Германия представлялась ему огромнейшей пустыней, где не осталось ни одного человека мало-мальски достойного доверия. Все пошло прахом. Фюрер покончил с собой не потому, что не выдержал нервного напряжения и поручил продолжать свое дело твердокаменному Борману, а скорее всего потому, что разуверился во всем. Человек бессилен. Он ничего не может сделать. Как ни пыжься – все втуне... Все возвращается в первозданное, определяемое природой, а возможно, даже богом – если он действительно существует – состояние. Все возвращается в прежнее положение, как телефонный диск – к цифре ноль. Сколько ни крути, все равно будет ноль. Так и вся жизнь. Хотя и больше цифр на текущем счету твоей жизни, но в конце ее одинаково все пропадет, все исчезнет. Будет ноль – черный кружок, мрачный, как петля, и безнадежный, как могила.
Хуже всего то, что его даже ни о чем не спрашивали. Сержанты приносили ему еду – обычный солдатский паек, не препятствовали ему принимать ванну (только один из них непременно торчал в комнате, чтобы доктор Гйотль, упаси бог, не утонул), разрешали бриться (хотя бритву у него отобрали и принесли электрическую, зарезаться которой было невозможно). Но никто ни о чем не спрашивал, будто все о нем было известно и его просто держат как подсудимого, ждали, пока соберется трибунал.
Он даже допускал возможность, что его могут опознать, докажут, что он – доктор Гйотль, оберштурмбанфюрер СС, замешанный в темных делах гестапо. Но так или иначе, должны же они спрашивать его о чем-нибудь! Хотя бы о том, что он делал у Гейдриха и Кальтенбруннера и как очутился здесь, в горах.
А в горах ждал самолет. Маленький, однокрылый самолет, на котором должен был полететь некий человек; о существовании этого человека ничего более не знала Европа. Полетел ли он? Выполнил ли последнюю свою миссию доктор Гйотль, уже находясь под арестом?
Конечно, можно было бы скрыться с успехом, если б он не ждал никого из Германии и рискнул использовать самолет для себя. Тогда не было бы этих назойливых сержантов, бессмысленного ожидания и мрачных мыслей, упирающихся в отчаяние.
Когда в комнату Гйотля вошел английский полковник, арестованный улыбнулся с облегчением: как бы там ни было, а это уже какая-то перемена в его положении. Уже не будет безысходного отчаяния, гнетущего ожидания, не будет самого худшего – неизвестности.
Когда же он всмотрелся в лицо полковника, то всплеснул руками от радости:
– Господин Швенд!
– Ошибаетесь,– сухо сказал полковник, делая знак сержанту, чтобы тот оставил их.
– Господин оберштурмбанфюрер Вендинг! – не растерялся Гйотль.
– Ошибаетесь! – столь же спокойно и бесстрастно ответил полковник.
– Тогда ради всего святого объясните, что это значит? – простонал Гйотль.
– Сядьте, Гйотль, и прежде всего успокойтесь.– Полковник пододвинул к себе стул.– Как видите, нам все известно.
– Кому это – вам?
– Только не задавайте бессмысленных вопросов. Ведь вы хорошо меня знаете. За время нашего бывшего сотрудничества я тоже вас хорошо изучил и знаю, что вам отнюдь не свойственны всякие там аффекты. Сами понимаете: сейчас не время для сантиментов.
– Послушайте, полковник. Я подозревал тогда, что имею дело с проходимцем, допускал, что вы могли продаться какой-нибудь иностранной разведке, но поверьте, ни на секунду не возникала мысль, что возле меня – разведчик, к тому же в нешуточном чине!
Роупер скупо ухмыльнулся в ответ на этот замаскированный комплимент, высказанный, как и можно было ожидать от немца, грубо и даже оскорбительно для достоинства офицера его величества.
– В данный момент никого не интересует, что вы думали,– сказал он.– Знайте одно: я специально приехал в Альтаусзее арестовать вас, а если не вас, то ваших сообщников и найти здесь все касающееся вашей деятельности на протяжении последних лет и тем самым представить материалы для союзнического трибунала, который будет проходить в Нюренберге. Раз вы попали нам в руки, то считаю нужным предупредить вас, чтобы вы не пытались отнекиваться
– Отнекиваться? Но от чего?
– Не ставьте риторических вопросов. Вас обвиняют в экономической диверсии против союзников, в частности против Великобритании.
– Давеча вы намекнули, что я только свидетель обвинения.
– Совершенно верно. Трибунал в Нюрнберге будет судить главных военных преступников. Вас, разумеется, нельзя причислить к главным, поэтому вы будете давать показания.
– Чтобы после всего получить отдельный приговор?
– Вполне возможно.
Было время – Гйотль восхищался твердостью и невозмутимостью Швенда – Вендинга; ему импонировало службистское рвение своего подчиненного, он радовался, что нашел наконец человека, начисто лишенного всяческих чувств, человека голого интереса и долга. Все то, что некогда приводило его в Швенде в столь восторженное состояние, теперь обернулось против него самого. Бывший Швенд сидел напротив. На его мундире выделялись красные петлицы британского генерального штаба. Новенькие золотистые полковничьи короны поблескивали на погонах. Он сидел, устремив твердый взгляд на своего бывшего шефа, и с невозмутимым видом сулил ему если не виселицу, то, во всяком случае, веселенькую жизнь в тюрьме.
– А что, если я раскрою вас перед трибуналом? – Гйотль неожиданно пошел в атаку.
– Как вы это сделаете? – спросил Роупер равнодушно.
– Очень просто. Расскажу о том, как вы сотрудничали со мной, сколько прошло через ваши руки фальшивых фунтов стерлингов, сколько вы дали нам валюты, которая, естественно, пошла не на елочные украшения для немецких детей, а на оружие, на борьбу против союзников.
– Это отпадает. Вы ведь не знаете даже моей фамилии.
В самом деле... Как это Гйотль не подумал об этом?
Швенд, Вендинг – все это были вымышленные фамилии, их можно найти на дороге сотню и тысячу. Сказать трибуналу, что в этом деле был замешан какой-нибудь британский полковник? Но ведь в армии его величества много полковников. Гйотль с грустью подумал о самолете в горах. Вот когда бы он бежал! Его обманули, как сопляка-мальчишку. Обещали, что перемена фамилии, школа, родители учеников – все это послужит ему надежной защитой и он окажется вне всяких подозрений. А что получилось? Этот англичанин с рыбьей кровью не нуждается ни в каких доказательствах и знает все столь же хорошо, как сам доктор Гйотль. Обладай он силой, то и этого полковника можно было бы посадить на скамью подсудимых вместе с Гйотлем. Свидетель обвинения...
Это звучит издевательски. Свидетель, которого после поведут на виселицу или же навеки упрячут в тюрьму!
Гйотль сделал последнюю попытку воздействовать на чувства полковника, хотя знал почти наверняка, что у него вместо чувств – пустота.
– Нет, кроме шуток, я страшно переживал по поводу вашего исчезновения тогда, после вашего свидания со Скорцени,– сказал он.– Вы не подавали никаких признаков жизни.
– Как видите, я подал эти признаки теперь.– Желваки на лице полковника заиграли.– Однако не думаю, чтобы вам от этого было легче.
– Я уже опасался,– не слушая его или делая вид, что не слушает, продолжал Гйотль.– Я боялся, что Скорцени... э-э... убрал вас... есть у него такая мерзкая манера.
– Была,– уточнил полковник.
– Что вы хотите этим сказать?
– Только то, что теперь Скорцени будет думать не о своих манерах, которые у него были при третьем рейхе, а только о своей шкуре.
– Да, это правильно. Он, несомненно, удрал за границу. На его совести слишком много грязных дел. Но тогда я искренне сожалел, поверьте мне, сожалел, не получая от вас вестей.
Роупер усмехнулся. Наконец! Наконец-то он возьмет реванш и за Скорцени, и за те выстрелы, которые направлены были против него на Римском аэродроме и здесь, в Волькенштейне.
– Это верно: Скорцени действительно хотел меня убить,– сказал он,– и, очевидно, не без вашего умысла, а то и просто указаний...
– Что вы! Что вы! – испуганно замахал руками Гйотль.
– Как видите, я жив и невредим.
– Бог услышал мои молитвы о вас.
– Любопытно. Вы и теперь продолжаете молиться за меня?
Осталась последняя попытка. Если уж и это не поможет– тогда конец всему. Последняя попытка заключалась в том, чтобы поговорить начистоту. Он ведь ничем не рискует. Свидетелей не было. Своего и без того незавидного положения ухудшить он не мог. Но зато мог выпытать до конца взгляды своего противника.
– Я буду молиться за всех, кто введен в заблуждение...– поспешил заверить его Гйотль.
– То есть? – Отдаленное любопытство, едва уловимая нотка заинтересованности послышалась в голосе полковника. Надо воспользоваться этим любопытством до конца. Не слезать же с коня, на которого с таким трудом взобрался! Не следует менять лошадей посреди переправы через реку, как сказал кто-то.
– Я считаю, что этот трибунал в Нюрнберге – величайшая бессмыслица всех времен! – выпалил Гйотль.
– На вашем месте я бы говорил точно так же.
– Нет, это не просто состояние аффекта, как вы изволили выразиться в начале нашей встречи. Это мое глубокое впечатление. Нюрнберг – непоправимый политический просчет западных союзников. Когда-нибудь, несколько лет спустя, вы сами это поймете, если не хотите понять сейчас. Трибунал – это политический обман и софистика. Нет, никогда не было и быть не может такого права, по которому судили бы целое государство с его аппаратом, судили бы министров, генералов, армию, промышленников. Вспомните прецеденты из истории. Было время – хотели судить Наполеона, но здравый смысл тогдашних руководителей государств-победителей не допустил этого беззакония. Собирались судить нашего кайзера Вильгельма Второго,– весь христианский мир восстал против этого во главе с папой. Теперь взялись за национал-социалистов. И за что, спрашивается? За то судить, что они хотели доказать свое право на существование? Разве это не ошибка? И разве главное основание Нюрнбергского трибунала – так называемые преступления национал-социалистов? Отнюдь нет. Просто никто не желает признать, что главное здесь – страх победителей, которым самим придется отвечать перед мнением всего мира за те руины, в какие они превратили Германию. Да плюс еще шум, поднятый коммунистами. Большевики жаждут мести. Они живут этим чувством. И горе нам, европейцам, если мы поддадимся этой азиатской идее мести. Вы помните, что сказал Монтескье о европейцах? Он писал, что европеец – это человек, который хочет быть свободным, или человек, который по крайней мере стремится к этому... Мы перестанем быть свободными с той самой минуты, когда трибунал в Нюрнберге утвердит, что над волей народа стоит право.
– Вы действительно доктор? – спросил полковник, который, казалось, пропустил мимо ушей всю эту страстную тираду Гйотля.
– Да. Венского университета.
– Это прекрасно.
– Я не совсем понимаю вас. Какое это имеет отношение...
– Вы сможете дать прекрасные показания трибуналу. Ибо я не сомневаюсь, что судьям союзников в Нюрнберге придется столкнуться с проявлениями невероятной интеллектуальной убогости, когда они будут допрашивать всяких там эсэсовцев и гестаповцев. Поэтому легко можно себе представить наслаждение, с которым будет слушать трибунал такого высокообразованного человека, как вы.
– Вы просто насмехаетесь надо мной!
– Ничуть.
– К чему же тогда весь этот разговор?
– Видите ли, я хотел просто вас предупредить, что не все из того, что вы знаете, может заинтересовать трибунал...
Наконец-то! Полковник раскрывался нехотя, исподволь, как устрица, раскрывающая створки своей раковины, если на нее брызнуть чем-нибудь кислым. Но все же раскрывался!