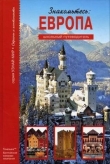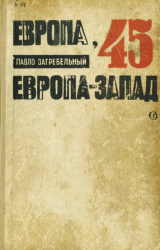
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 43 страниц)
– Гаагские конвенции устарели,– вмешался Лобке.– Мы должны подходить к явлениям с общехристианских позиций. Если промышленники Германии в чем-либо и провинились, то это не их вина: они действовали по принуждению, а раз так, то следует представить прошлое на божий суд. Судить же всеми уважаемых граждан, людей с именами мировой известности – это не акт справедливости, это акт политической мести, вызванной военным психозом.
Пфердменгес думал о Круппе.
Год назад они вместе были в Страсбурге. Собрались в Страсбурге, городе, который всегда стоял на ничейной земле, переходил то к французам, то к немцам, служил как бы вратами войны между двумя соседними странами. После Версаля Страсбург перестал быть немецким, но на портале собора, среди библейских фигур еврейских пророков, по-прежнему выделялось изображение усатого кайзера Вильгельма. Оно продержалось до нового прихода немцев. Теперь немцы снова готовились к отступлению, покидая своего бывшего кайзера среди бородатых пророков на произвол судьбы. Для этого и собрались тогда в Страсбурге самые известные экономические эксперты «третьей империи», для этого и прибыли туда начальник гестапо Кальтенбруннер и один из помощников Гиммлера, полковник СС Адольф Эйхман, работавший над «разрешением» еврейского вопроса в Европе. Факты были настолько очевидны, что все присутствующие на том совещании пришли к единодушному мнению о приближении конца «третьей империи». Следовало подумать о будущем «их» Германии. Эйхман заявил промышленникам, что в казне гестапо сберегаются огромные ценности, отобранные у евреев и у всех тех, кто был уничтожен по приказу фюрера.
Кальтенбруннер добавил от себя, что, заботясь о будущем, они решили разделить между самыми доверенными из промышленников золото и драгоценности, доставшиеся от десяти миллионов уничтоженных, с тем чтобы, когда национал-социалисты возвратятся, все это было возвращено с соответствующим процентом. Рачительные гестаповцы тотчас же взялись за составление списков, в которых подробно отмечалось, кому, на какую сумму и что именно поручено сохранить «до лучших времен». Вскоре списки эти отправились в тайные сейфы гестапо, а нынче, очевидно, пропали где-то вместе с Кальтенбруннером, которого схватили американцы. Зато тайный капитал не погиб и теперь весьма пригодился делу восстановления немецкой промышленности.
Но Крупп в тюрьме. И не он один. Это плохо. Это очень, очень плохо.
– Круппы трудились в поте лица; всю свою жизнь они боролись с ударами судьбы, которая преследовала наш народ,– сказал Пфердменгес и закашлялся от непривычно длинной тирады.– Я не могу допустить, чтобы американцы согласились на конфискацию всего его имущества.
– У меня есть сведения, что на этом настаивают советские представители,– сказал Аденауэр.– Во время обсуждения Устава Международного трибунала они хотели вставить пункт о конфискации имущества всех наказанных военных преступников. Но американский прокурор Джексон не согласился с этим требованием, считая, что эта кара устарела, точно так же, как устарело, скажем, четвертование.
– Конфисковать имущество Круппа означает допустить Россию к Рейну, к Рурскому бассейну... Впустить большевиков в самое сердце Европы!– воскликнул Лобке.– Дело даже не в конфискации капиталов. Капиталы мы, в конце концов, найдем. Но допустить большевиков в сердце Европы!
Пфердменгес насторожился. До сих пор он не очень-то вникал в болтовню этого советника из городского магистрата. Понимал, что у того на сердце скребут кошки от страха за свою активную деятельность при Гитлере и что своим многословием он старается скрыть собственный страх, и ничего больше. Но он разглагольствует о капитале. Что-то о том, что капитал, мол, найдется, даже в том случае, если их всех пустят по миру...
– Что вы имеете в виду? – быстро спросил он доктора Лобке.
Тот взглянул на Аденауэра, затем на Пфердменгеса. Его мясистые щеки дрогнули от плохо скрытой радости.
– Я имел в виду то, что имеете в виду и вы, герр Пфердменгес.
– То есть? – не отступал банкир.– Я не умею разгадывать шарады.
Он сам дивился неслыханному своему красноречию, но не мог остановиться, что-то толкало его, что-то приказывало выведать у этого толстощекого советника, что он за тип и что может быть ему известно.
– Я имел в виду,– медленно, смакуя, сказал Лобке,– я имел в виду тот тайный капитал, который сберегут все честные немецкие промышленники для восстановления Германии.
Для Аденауэра это прозвучало как еще одна пропагандистская фраза, фраза, за которой не кроется ничего решительно, кроме пустых слов. Для Пфердменгеса же за словами Лобке крылось одно – Страсбург. Он понял, что Лобке известно о совещании сорок четвертого года и о результатах этого совещания. Возможно, именно ему и поручено хранить эти гестаповские списки? Что ж, он еще раз убедился, что Аденауэра необходимо поддерживать, если он умеет выискивать людей, подобных Лобке.
– Вы собираетесь домой, господин Лобке? – спросил он советника уже более приветливо, но с присущим ему чопорным равнодушием в голосе.– В моей машине найдется место.
– Вы меня обяжете, если довезете до Ниппеса,– Лобке усмехнулся.
Договорились ли они о чем-либо определенном в тот вечер? И да и нет. Обычный разговор для выяснения взаимных взглядов, обмен мнениями, раскрытие своих козырей – когда не показывают всей карты, а ограничиваются кончиком ее, уголком.
В автомобиле и Пфердменгес и Лобке молчали. Пфердменгес молчал, так как высказал все, что мог. Лобке молчал – его связывало присутствие шофера. В одном из самых безлюдных районов Ниппеса Лобке попросил остановить машину. Поблагодарил еще раз Пфердменгеса, попрощался и скрылся в темных развалинах.
Вилла-ротонда стояла безмолвная и мрачная, как городской газгольдер. Ни одно окно не светилось. Но ее обитатели не спали. Не успел доктор Лобке постучать, как дверь отворилась.
– Можно было бы приехать и раньше,– дыша на доктора алкогольным перегаром, прошептал в темной прихожей Финк.
– Заткнитесь,– посоветовал ему Лобке.– Где Шнайдер?
– Вместе с Лашем приканчивают третью бутылку коньяка. Я продал сегодня краденый «мерседес» за пятьсот литров коньяка пятнадцатилетней давности. Бочки были закопаны в подвале. В песке. Пальчики оближешь!
Двое сидели в круглом холле перед погасшим камином и действительно глушили коньяк.
– Пьете? – не без ехидства спросил Лобке.
– Пьем,– спокойно ответил тот, кого звали Шнайдером.
– Новехонький «мерседес» и пятьсот литров коньяка! – Финк смачно причмокнул, забегал перед Лобке.– Хотите попробовать, Лобке?
– Я, кажется, советовал вам заткнуться. Где вы взяли эту машину?
– Нашел. Один субчик спрятал ее в копне сена. Проверенный способ скрыть машину от олуха, но не от меня. Я загнал ее ресторану. Ехал вчера ночью домой, у меня спустило колесо. Стал его накачивать, тут подходит ко мне какой-то кривоногий и матюкается по-русски. Я ему отвечаю тем же. Что ж оказывается: он был под Сталинградом. Как я. И еще оказывается, я остановился как раз напротив ресторанчика. Тут выяснилось, что он хозяин этого заведения. А потом оказалось, что ему нужна именно такая машина и что у него есть коньяк, а мне машина ни к чему, зато я употребляю коньяк. Вы меня поняли, доктор?
– Я понял только то, что вы – кретин.
– Премного благодарен!
– А еще понял я, что и вы, Гаммельнштирн, не меньший кретин.
– Цс-с! – замахал на него руками тот, кого звали Шнайдером.– Не произносите, пожалуйста, имени моего всуе...
– Чего вы боитесь своей фамилии? Вот я, например, не боюсь.
– Вы – иное дело. Вы не были бригаденфюрером СС.
– А разве вы уже перестали им быть?
– Да. То есть я не совсем точно выразился.
– Доктор, прошу, стаканчик,– бегал вокруг Лобке Финк.– Вот стул, садитесь, пожалуйста...
Лобке сел, не глядя, взял стопку коньяка, но пить не стал, осуждающе посмотрел на Гаммельштирна – Шнайдера.
– Вам передали мой приказ исчезнуть отсюда?
– Вчера.
– Почему вы до сих пор здесь околачиваетесь?
– Хотели дождаться вас.
– Что я вам – барышня? Вы без меня жить не можете? Мне думается, одного свидания нам было вполне достаточно!
– Это верно, но нам переходить в монастырь не совсем удобно.
– Это почему же, позвольте узнать?
– Здесь у нас все-таки хоть один на свободе, а там все мы окажемся за каменной стеной.
– Вы не долго там просидите.
– Очевидно – до следующей весны.
– Возможно, но это не так уж долго, как вам кажется.
– А я? – неожиданно спросил Лаш, о котором, по-видимому, все забыли.
– Что – вы? – доктор Лобке быстро повернулся к нему.
– Мне-то для какой цели идти в монастырь?
– Вы нужны немецкой нации.
– А здесь, в этой круглой мышеловке, меня держат тоже на том основании, что я нужен немецкой нации?
– Вы могли бы помолчать, Лаш,– насупился Гаммельштирн.– Неужели я еще мало вам объяснял?
– Я знаю только то, что немецкая армия капитулировала,– упрямо продолжал Лаш.
– Капитулировала немецкая армия, но не капитулировали мы! И нужно напомнить об этом миру! – резко перебил его доктор Лобке.– Я знаю, что вам не терпится переметнуться к американцам, им нужны теперь такие, как вы. Но знайте, что и будущей Германии такие, как вы, тоже нужны. Вы принадлежите к нашему самому ценному капиталу.
Лаш молча опрокинул стопку коньяка, наполнил еще одну.
– Это насилие,– пробормотал он.
– Мы переправим вас за границу, в Испанию, там предоставим вам лабораторию, и вы будете работать над своими изобретениями. Чего вам еще? Это даже лучше для вас – жить в нейтральной стране.
– Но добраться до нее как?
– Пускай это вас не волнует.
– Так вы нам ничего и не скажете? – хмуро спросил Гаммельштирн.
– Что я могу вам сказать?
– Ну, хотя бы про Испанию. Когда это можно будет осуществить?
– Прежде всего – в монастырь! Ибо этот проклятый коммунист, который здесь жил, может привести сюда каких-нибудь американских олухов – и тогда все пропало. Из монастыря я вас выпущу, как только получу сообщение. Вы пойдете через Тироль, затем через Италию, а там считайте себя на свободе!
– Это было бы здорово! – воскликнул Финк.
– Но завтра же – в монастырь! Благоразумнее, конечно, было бы сегодня, но ночью, пожалуй, рискованно. Днем лучше. Переберетесь катером – хорошо бы затесаться среди женщин,– прямо в Зигбург.
– Все дело в том,– сказал Финк,– что мы ждем ребенка.
– Какого ребенка?
– Обыкновенного. Пискливого. Чтобы кричал у меня или у Шнайдера на руках, а мы б ему тыкали в рот американскую шоколадку и приговаривали: «Лю-ли-лю-ли-лю». Тогда нас никто б не задержал. Семейная идиллия. Все ясно и понятно – обыкновенные немецкие папаши...
– Но где же вы возьмете ребенка? Тоже выменяете на краденый «мерседес»?
– Нет, зачем же. Нам обещали одолжить ребенка в одном месте. Одолжить без отдачи... Но если уж вы так настаиваете, то конечно, мы завтра же попытаемся перебраться через Рейн. Правда, с ребенком было бы вернее...
– Поступайте так, как я сказал.
– Ладно,– примирительно заметил Гаммельштирн.– Будем считать дело законченным. Надеюсь, вы посетите нас в монастыре?
– Будет видно,– уклонился от прямого ответа Лобке.– Но вы должны отправиться туда завтра же! Поймите, я мог бы вас выдать американским властям точно так, как того слепого дурака, что вдруг решил снюхаться с коммунистом. Но я немец и ценю в вас подлинных немцев. Желаю удачи. Хайль!
– Хайль! – ответили двое. Бородатый Лаш молчал, мрачно созерцая пустую стопку.
На улице, уже довольно далеко от виллы-ротонды, доктор Лобке услышал солдатскую песенку, которую горланили патрульные: «На линии Зигфрида развешаем белье, мамаша дорогая, шли грязное тряпье...»
Доктор Лобке понимал по-английски как раз настолько, чтобы разобрать скабрезные слова песенки. Он сжал кулаки и пробормотал:
– Еще увидим, на каком ветру будет сушиться наше немецкое белье! Мы еще постелим себе там, где нам захочется спать...
...А ТАКЖЕ УТРЕННИХ...
В направлении Гогенцоллернринг двигалась необычная группа. В те дни трудно было удивить кого-нибудь в Кельне, через который совсем недавно прошли одни войска и им на смену – другие. Город привык к потокам людей. На его улицах разгуливали американцы в расстегнутых солдатских рубахах и молчаливые англичане в черных беретах; то здесь, то там мелькала синяя форма канадских летчиков и пестрые юбки шотландцев; за колоннами небритых, неопрятных эсэсовцев проходили группы пленных венгерских салашистов в ярких рыжих мундирах с красными петлицами; как летучие мыши распустив крылья своих черных пелерин, выступали монахини-урсулинки; молодые женщины и девушки торопились в кинотеатры, в солдатские клубы, в ресторанчики, где днем и ночью завывал джаз и кружились взмокшие от танцев пары. Женщин было много. Старые, беззубые ведьмы, мягкотелые вдовы, девицы с толстыми икрами,– среди этих вульгарных девиц вряд ли этой весной остались такие, что не постигли тайн любви. Переодетые гестаповцы старались выдавать себя за мещан средней руки, слепо доверяющих союзникам, радиокомментаторам и газетчикам.
За несколько месяцев, прошедших после окончания войны, город привык ко всякого рода зрелищам и, казалось, уже потерял способность чему-либо удивляться.
Но в то утро горожане с удивлением и беспокойством наблюдали группу людей, шествовавших по направлению к Гогенцоллернринг.
Их было шестеро. Разного роста, разного возраста, русые и темные, с глазами голубыми, серыми и карими – все они были похожи друг на друга, как братья, своими истощенными лицами, землистой бледностью, а главное – костюмами. На всех шестерых была полосатая лагерная одежда, куртки и штаны, а на ногах уродливые гольцшуе – деревянные колодки, глухо постукивающие по мостовой. Трах-трах.
Шли простоволосые, ветерок играл их волосами – русыми и темными. Рябило в глазах от полосатых, как пограничные столбы, фигур. Эти широкие темные полосы на грязном фоне курток и штанов кромсали фигуры людей; фигуры двоились, троились в глазах встречных, в глазах американских патрулей и регулировщиков, в глазах девушек, бегущих в кино и на танцульки, красивых немецких девушек с густыми волосами, прекрасной кожей и стройными ногами.
Шло шестеро, а казалось – множество. Шесть пар деревянных колодок грохотали по мостовой, а слышалась поступь многих. Молчали, а их молчание говорило громче громкоговорителей пропагандистских машин.
В Гогенцоллернринг шли шестеро бывших узников концлагеря. Цветные треугольники на груди показывали, что это бывшие политические заключенные, борцы против фашизма, немецкие борцы против фашизма, борцы, о которых ничего не знал мир, так как ведомство Геббельса орало, надрывалось, доказывая, что их нет, как таковых, что они сломлены, побеждены.
В центре группы шел Вильгельм. Так же в полосатом, такой же бледный, как его товарищи, и так же полный злой решимости, что вела их сюда, в Гогенцоллернринг, где стоял дом городского магистрата.
Они поднялись по широким мраморным ступеням магистрата. Колодки хлопали о белый камень, как выстрелы. В стеклянной двери приемной шесть полосатых фигур отразились удвоенно и утроенно, и в приемную должны, были войти два десятка заключенных, а не шестеро. Где-то громко хлопали двери, где-то раздавались торопливые шаги, доносились испуганные голоса. Делегация к господину бургомистру! Странная, совершенно нежданная и нежеланная делегация к господину бургомистру.
Бургомистр был слишком опытный политический деятель для того, чтобы избежать встречи с такой делегацией. Правда, он привык иметь дело с людьми имущими, с теми, в чьих руках угадывалась скрытая сила. Эти же несли на себе все, что имели. Полосатую униформу и треугольники политических узников. Они были бедны, но и в них таилась сила. Внушающая ужас полосатая одежда казалась знаменем страдания, мук и побед. А за таким знаменем могут пойти если не миллионы, то тысячи, во всяком случае...
Бургомистр встретил «заключенных» в приемной. За его спиной не стоял союзнический офицер: в Потсдаме решено было отдать Рейн англичанам, американцы собирались отсюда уходить, англичане еще не пришли. Аденауэр получил короткую передышку от союзнической опеки. Кроме того, приход бывших узников концлагеря был актом сугубо политическим, а дела, касающиеся немецкой политики, хотя и для отвода глаз, но все же относились к прерогативе самих немцев.
– Рад вас приветствовать, мои господа,– сказал Аденауэр.– Я сам был в концлагере и поэтому отлично понимаю вас и прошу принять мои самые искренние сочувствия.
– Благодарим, господин бургомистр,– Вильгельм шагнул вперед.– С верой во взаимопонимание мы как раз и пришли сюда.
– Чем могу служить? Если наш разговор затянется, то прошу садиться, господа.
– Спасибо. Надеемся, что разговор наш не будет долгим. Мы пришли, чтобы задать вам несколько вопросов.
– Охотно вас выслушаю.
– Собственно, все наши вопросы касаются одной личности. Их можно будет свести до минимума, если вы, господин бургомистр, со своей стороны, дадите нам исчерпывающий ответ.
– Перестаю вас понимать, господа. В самом тоне чувствуется оскорбление, которого я не заслужил.
– Прошу прощения,– сказал Вильгельм.– Мы хотели узнать у господина бургомистра, что делает в магистрате доктор Лобке?
– Но, простите, какое это имеет отношение...
– Кроме того, нас интересовало, известно ли господину бургомистру, кто такой Лобке и чем он занимался при нацистах?
– Доктор Лобке назначен шефом моей канцелярии, и поэтому я просил бы вас, господа, говорить о нем с подобающим уважением.
Шестеро возмутились. Как, Лобке уже начальник канцелярии бургомистра? Пожалуй, завтра он сам станет бургомистром? Этот фашист и убийца...
– Господин Аденауэр,– продолжал Вильгельм,– подлинные немцы, честные немцы не могут без гнева слышать, что такие, как Лобке, снова подбираются к власти. Лобке – преступник. Его нужно судить, а не назначать начальником канцелярии!
– Еще раз предупреждаю, господа,– тихо произнес Аденауэр, и лицо его посерело,– еще раз предупреждаю, что, оскорбляя господина Лобке, вы этим самым оскорбляете меня. Господин Лобке, как и я, никогда не имел дела с оружием. Его руки чисты! Это честный, образцовый немец, для которого интересы нашей родины превыше всего!
– Увы, мы говорим, к сожалению, на разных языках,– вздохнул Вильгельм. Он уже сожалел, что пришел сюда да еще привел товарищей. Бургомистр оказался безнадежным. Человек, который сам себя обманывает, вряд ли станет разбираться в обмане других. Хорошо еще, если он обманывает себя касательно немца Лобке, а если знает о прошлом гестаповского доктора и независимо от этого старается выручить его? Тогда куда же снова идет Германия? И куда она придет, если уже первые шаги ложны, ошибочны?
– Перед вами люди, которых Лобке отправил некогда в концлагерь! – крикнул Вильгельм прямо в лицо Аденауэру.– Поглядите на нашу одежду! Представьте себе те двенадцать лет мук, страданий, умирания, все это мы вынесли. И после этого вы утверждаете, что доктор Лобке не имел дела с оружием, что руки его чисты, что он не убивал, не засовывал трупы в печи крематориев? Но он делал хуже и больше: он повелевал стрелять, вешать, жечь! Разве не он подписался под самыми кровавыми законами Нюрнберга о так называемой чистоте немецкой крови? Или, может быть, вы, господин бургомистр, неграмотны, может быть, вы разучились читать и не видели этой позорной книжонки?
Лицо у Аденауэра вытянулось и сделалось как кусок серого сукна. Таков цвет человеческого бессилия, такого же цвета человеческая ярость. В горле у бургомистра что-то заклокотало, его тонкий голос прерывался.
– Повторяю: я сам был узником концлагеря. Но я никогда не демонстрировал этого. Вы, взрослые люди, вырядились в эти костюмы. К чему сей маскарад? Это фиглярство! Я старый человек, и вам бы следовало задуматься над тем, как я могу воспринять ваш поступок. Человек моих лет не может всерьез воспринимать манифестации такого рода.
– Если вы уж так настаиваете на своей старости, то могли бы остаться на пенсии, которую выплачивали вам гитлеровцы,– тихо сказал Вильгельм.– Очевидно, союзники согласились бы выплачивать вам точно такую же сумму.
Аденауэр вспыхнул:
– Это не ваше дело!
– Зато наше дело, кто будет управлять в магистрате. Мы пришли требовать устранения доктора Лобке. Мы требуем отдать его в руки правосудия.
– Не прикажете ли выдать его вам?
– В Германии есть военные власти, есть союзническая Контрольная комиссия.
– Вы – не представители союзников. Я не желаю с вами разговаривать! Я отказываюсь от беседы с вами!
– Тогда мы обратимся непосредственно к союзническому командованию.
– Это ваше дело.
– Вы, вероятно, плохо помните, за какие заслуги вас поставили на пост бургомистра?
– Я помню только свои привычки.
– Прекрасно. Тогда мы напомним вам еще кое-что.
– Я приказываю вам замолчать.
– Мы пришли сюда, чтобы говорить, и еще не сказали всего. Но мы вернемся, господин Аденауэр, к этому разговору. Верьте: мы еще вернемся!
Шестеро повернулись, пошли к двери. Даже пушистый ворс ковра не скрадывал стука колодок. В зеркальном стекле дверей, преломляясь, отражалась целая толпа, сотни и тысячи полосатых, как пограничные столбы, истощенных, но непреклонных людей. Пограничные столбы между стран добра и зла, меж двух миров: обмана и правды.
Аденауэр тяжело вздохнул и провел дрожащей рукой по взмокшему лбу.
Однако это было только начало. Через час в приемную бургомистра явился советский лейтенант. Аденауэр пригласил его в кабинет, не желая, чтобы в приемной слышали их разговор. Бургомистр был чрезвычайно взволнован и изможден после стычки с бывшими заключенными. Все дрожало в нем от возмущения, смешанного со страхом. Но он не подавал вида, лицо его выразило учтивую приветливость, и даже своему голосу он сумел придать благовоспитанную мелодичность, как в минуты наибольшего душевного равновесия.
– Мы давно не виделись, господин лейтенант. Как подвигаются ваши дела? Довольны ли вы своей резиденцией в Берг-Гладбахе? Это я порекомендовал союзническому командованию выделить для вас виллы именно в Берг-Гладбахе. Я сам люблю этот живописный уголок. Еще Бенсберг, Гердорф – чудесные места!
– Да, места чудесные! – согласился Скиба.– Хотя, конечно, дома лучше.
– Да, да, все мы дети своей земли и вместе с тем граждане. И каждый прежде всего думает о родной стране. Сыновья и граждане. В человеке это должно быть неразрывно. Дело, которое он выполняет, не может заменить в нем человека. К сожалению, в нашей стране дистанция между делом и человеком была чересчур велика. Один из этических парадоксов старой Германии.
– К сожалению, господин бургомистр, этот парадокс еще и поныне можно наблюдать,– усмехнулся Михаил.
– Но где?
– Хотя бы на вас.
Аденауэр с трудом сдержался. Кипел внутри, а внешне был леденяще вежлив. Кто несет на себе бремя политики, должен обладать горячим сердцем, но холодной головой. Только так! Если же у тебя не будет холодной головы, то горячее сердце непременно толкнет тебя на опрометчивые и неверные поступки. О, эти русские большевики! Когда в сорок четвертом его посадили в кельнский концлагерь, один такой русский – он даже немного напоминал этого лейтенанта– каждое утро приносил ему хлеб и кофе, сплевывал сквозь зубы и бормотал: «Жалкий капиталист»... Тогда он, Аденауэр, пил кофе и молчал. Сегодня не сдержался с бывшими узниками, зато теперь вынужден был сдерживать себя во что бы то ни стало. Насильственно улыбаясь в ответ на усмешку русского, все так же вежливо поинтересовался:
– Могу ли я попросить вас, господин лейтенант, разъяснить свою мысль?
– Извольте. Я пришел к вам с жалобой.
– С жалобой? На кого же? Опять жалобы, опять требования, опять ультиматумы, о боже правый!
– На вас, господин бургомистр. Вы не выполняете наших просьб. Я имею в виду предыдущий разговор относительно памятников.
– Позвольте, ведь в Браувайлере завтра или послезавтра открывается памятник? Вы сами осматривали его и остались довольны!
– Да, в Браувайлере завтра откроется памятник. А остальные?
– К сожалению, все делается не так быстро, как этого хотелось бы, мой дорогой господин лейтенант.
– Вспомните, что для того, чтобы убить этих людей, не было нужды в столь большой и длительной подготовке.
– Вы говорите так, будто это я убивал ваших соотечественников.
– Они лежат в земле, на которой нынче вы хозяйничаете.
– Здесь хозяйничают союзники.
– Я внимательно прочитал интервью, данное вами иностранным журналистам. Вы заявили там, что продолжительная оккупация Германии не нужна и нежелательна, ибо немцы сами могут навести порядок в своей стране. Я выражаюсь, быть может, не совсем точно, но стараюсь передать содержание вашего интервью.
– Да, вы приблизились к содержанию того, что я сказал в соборе.
– У меня и прежде не было сомнений в том, что немцы сами могут управлять своей страной. Нет их у меня и теперь. Поэтому я и обращаюсь к вам как к одному из руководителей и хозяев этой земли и настаиваю, чтобы сделано было то, что должно быть сделано.
– Все это так, но поймите, господин лейтенант: мы, европейцы, не привыкли к вашим... гм... большевистским темпам...
– Мы тоже европейцы. Я родился и вырос на Украине, которая, как вам должно быть известно из географии, расположена в Европе. Это верно, наши темпы не всех удовлетворяют. Но в данный момент речь не о темпах, об уважении к мертвым.
– Вы инкриминируете мне страшные вещи.
– Господин бургомистр, я ничего не хочу вам инкриминировать. Я хочу одного: чтобы на могилах наших людей, невинно замученных, варварски умерщвленных советских людей, стояли памятники, достойные погибших. Не обращаться же мне к союзническому командованию!
– Союзническое командование требует от меня того же, если не говорить о большем. В Кельне есть еще могилы английских летчиков и американских рейнджерсов[64]. От нас все теперь требуют. Что поделаешь: на нашу долю выпала нелегкая миссия: не только перенести катастрофу военного разгрома, но и подвести теперь весь баланс ужасов. Немцы – побежденный народ. В этом вся горькая правда нынешних дней. Я – бургомистр побежденного города. Мой город находится в побежденной стране.
– Простите, вы злоупотребляете одним словом.
– А именно?
– Еще раз прошу прощения, однако мне кажется, что вы слишком часто употребляете слово «побежденный». Для блага немецкого народа этим словом следовало бы пользоваться гораздо реже. А то и вообще не употреблять его.
– Вы говорите о благе немецкого народа?
– Да.
– Позволите считать это пропагандой?
– По-моему, я слишком молод, чтобы распропагандировать такого политика, как вы. Я просто говорю, что думаю. То, что есть на самом деле.
– К сожалению, теперь судьба немецкого народа не в наших руках, а в руках двух великих держав – Соединенных Штатов и Советского Союза.
– Почему же «к сожалению»? Разве наши страны провинились перед миром и замешаны в какой-либо несправедливости? После того, как мир увидел Гитлера...
– Не будем говорить о Гитлере. Я сам был бескомпромиссным и последовательным борцом против гитлеровской системы. Сейчас идет речь о политической и социологической консеквенции катастрофы сорок пятого года. Немецкий народ долго начиняли химерами, фантастическими иллюзиями, бредовыми сказками. Пришла пора отбросить химеры и сказки. Нужно стать реалистами. И в этом нам должны помочь прежде всего великие нации. Как помочь? Самое главное – невмешательством в наши дела. Только тогда они завоюют наше доверие. Если же попросту демонстрировать свою силу, то ничего нового в этом не будет. Мы и так знаем и верим в их силу. Еще в тысяча восемьсот тридцать пятом году великий француз Алексис де Токвилль сказал о том, что в мире есть только два великих государства: Россия и Америка.
– Но Токвилль сказал еще и другое,– добавил Скиба.– Он сказал, что американцы борются против дикости и варварства природы, а русские, мол, только против цивилизации, применяя для этого все свое умение и могущество. И еще он говорил, что у американцев главное оружие – свобода, а у русских – рабство. Я немного историк и в свое время интересовался высказываниями разных людей о моей стране. И когда вы, господин бургомистр, приводите мне слова такого сомнительной славы деятеля, как Токвилль, то я воспринимаю это как оскорбление для моей страны. Вы же сами только что говорили, что мы – люди и граждане. И если мои слова о том, что мы не считаем немецкий народ побежденным, вы почему-то истолковали как пропаганду, то как тогда прикажете истолковать вашу ссылку на Токвилля с его оскорбительными для моего народа мыслями? Мы не побеждали немецкий народ, но мы победили гитлеризм, фашизм! И это сделано прежде всего благодаря моему народу, благодаря усилиям и жертвам народа советского, господин Аденауэр!
Аденауэр молчал. Он был растерян и смущен. Кто мог подумать, что этот русский знает Токвилля? Какой-то там лейтенантик, среднего толка офицерик, амбасадор тупой силы победителей – и вдруг Токвилль! Столь неожиданная осведомленность! Боже правый, что творится на свете!
– Я привел только те слова Токвилля, с которыми я согласен,– сказал он, помолчав, давая понять лейтенанту, что тот погорячился и проявил несдержанность.– Поверьте мне, дорогой мой господин лейтенант, я ничего не имею против вашего народа, и если бы мне доверено было провести моральную интеграцию между великими культурными нациями, то я распространил бы ее и на ваш народ.
«Моральная интеграция» звучало двояко: и как признание советского народа, и как подчеркивание, что он стоит ниже по сравнению с «культурными» нациями. Аденауэр делал милостивый жест: будь ему дозволено, он, мол, поставил бы советский народ на одну ступень с прочими культурными нациями. Он бы поставил! Так, будто народ сам не стал, без вмешательства всех этих господ, на то место, которое он заслужил.
Но Скиба не стал дальше пререкаться с бургомистром. Нелепо спорить о вещах очевидных.
– Итак,– поднимаясь, сказал он,– я буду надоедать вам, господин бургомистр: за этот месяц все должно быть закончено.
– Вы собираетесь покинуть наши края? Поверьте, я буду сожалеть, что лишаюсь такого интересного собеседника. Но очевидно, ваш отъезд произойдет не так скоро?
– Если его ставить в зависимость от памятников...
– Молчите, молчите! Я постараюсь доказать вам, что я все же человек дела, а не только слов...
Они пожали друг другу руки. Бургомистр проводил Михаила до двери кабинета. Но выйти им не дали. Дверь, будто от дыхания бури, распахнулась, и в комнату влетел сперва американский капитан, маленький, худощавый, весь в аксельбантах, за ним – американский лейтенант с плечами докера, затем вошел доктор Лобке, озабоченный, но спокойный и уравновешенный, как всегда.