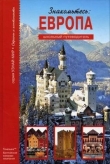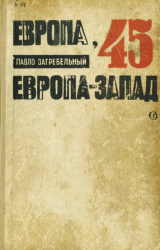
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 43 страниц)
– Гестапо не имеет никакого отношения к Итальянской социальной республике!
– Глубоко ошибаетесь. Хотите, я прикажу вас арестовать за экономическую диверсию против Италии и Германии, а к утру буду иметь в руках согласие Муссолини на ваш расстрел?
– Дуче этого никогда не сделает.
– Почему вы так думаете?
– Ему не позволит сделать это Кларетта, моя сестра.
Швенд опустил пальцы в нагрудный карман фрака и достал оттуда сложенный вчетверо лист твердой желтоватой бумаги.
– Читайте.
Буквы запрыгали в глазах у Петаччи. Он смотрел на бумагу и не верил. Его смуглое лицо стало белым, как мука.
У него в руках был рескрипт дуче о его, Марчелло Петаччи, расстреле! Приказ, подписанный Муссолини, со всеми печатями и на официальном бланке.
– Святой Доминик, – еле двигая помертвевшими губами, прошептал Марчелло, – помилуй и спаси меня!
– Что вы скажете теперь? – спросил Швенд, беря бумагу из безвольных рук Марчелло.
Петаччи молчал.
– Вы убедились, что гестапо всемогуще?
Итальянец только всхлипывал.
– Наше могущество простирается даже дальше, чем вы думаете, – продолжал Швенд спокойно и разорвал рескрипт, подписанный Муссолини. Сначала он разорвал надвое, потом начетверо, после этого порвал на мелкие кусочки, сложил их в большую хрустальную пепельницу и зажег маленький костер.
Марчелло, не отрывая взгляда, следил, как горит в прозрачной граненой пепельнице его смерть. Его собственная смерть!
– Такое зрелище приходится наблюдать не часто, а? – словно угадывая его мысли, усмехнулся Швенд.
Лицо Марчелло покрылось красными пятнами. Он возвращался к жизни медленно и неуверенно. Он еще не знал, дарована ли ему жизнь. Страшная бумага, порванная на части, пылала перед его глазами, но не появится ли из черного кармана гестаповца еще более ужасная?
Петаччи рос в государстве, где законы существовали только для того, чтобы имеющие власть ими пренебрегали, а справедливость была заменена произволом. В государстве, где рядовые граждане ежедневно, ежечасно чувствовали, что значит быть битыми без возможности реванша. В государстве, где таланты и заслуги вызывали подозрения и быстрый, беспощадный гнев Муссолини.
Марчелло давно уже сделал для себя вывод, что лучше всего быть безвестным, когда вокруг неистовствует террор. Он никогда не совался туда, где бывала Кларетта, он боялся изысканного общества, поддерживая связи со спекулянтами, менялами с пьяцца Колонна, месяцами пропадал в подозрительных вертепах. Марчелло знал, что даже у невинности нет спасенья, а он ведь был виновен. Он спекулировал краденым золотом, он использовал свою фамилию, как кредитный билет, как дойную корову.
Неужели так неожиданно наступила расплата?
Швенд не спешил. Если человеку случилось умереть, а потом воскреснуть, надо дать ему время почувствовать всю радость воскрешения. На языке коммерсантов это называлось набить цену.
– Вы можете ехать домой, – наконец сказал он Марчелло. – На следующей неделе прошу вас ко мне в гости. Желательно с сестрами. Вам не трудно будет их привезти? О том, что было сегодня, постарайтесь не говорить никому. Будьте уверены, мы узнаем, как только вы где-нибудь обмолвитесь хоть словечком.
Марчелло вышел из комнаты, шатаясь как пьяный.
Сестры Петаччи оказались плохоньким материалом. Мариан действительно была глупа как пробка. От ее болтовни у Швенда заболела голова. Кларетта говорила только о своей любви к дуче. Она пребывала в том состоянии, когда слова порождают чувства. От частого и надоедливого повторения слов о любви к дуче Кларетта и вправду чувствовала к кривоногому «вождю» что-то вроде привязанности. Швенд не стал переубеждать ее. Он попробовал осторожно выведать, знает ли она что-либо о государственных делах своего возлюбленного, однако женщина трещала только об охотах, балах, веселых прогулках и нарядах. И Швенд понял, что с женской половиной Петаччи он только теряет время.
Он взялся за Марчелло.
Марчелло вошел в комнату для курения, держа руки в карманах. Он смотрел на Швенда исподлобья налитыми кровью, как у разъяренного быка, глазами. Посасывая сигару, Швенд спокойно сказал:
– Джентльмен держит руки в карманах только тогда, когда забыл надеть подтяжки.
Петаччи выхватил руки из карманов. Красные, потные, дрожащие руки, из которых одна наверняка сжимала шероховатую ручку пистолета.
– Садитесь, – пригласил Швенд. – Сигару? Сигарету?
Снова сидел молодой Петаччи на турецком диванчике и не мигая смотрел на хищное лицо всемогущего гестаповца, которое плавало в синем сигарном дыму. Швенд сказал:
– Вы будете поставлять нам золото. Это уже решено. Гестапо умеет быть благодарным за услуги. Мы будем платить за каждую унцию золота вдвое больше против существующего курса. Платим валютой. Английскими фунтами, которые котируются сейчас аль-пари. Вы понимаете?
Марчелло глотнул слюну. До сих пор ему платили за золото тоже вдвое больше, но всегда итальянскими лирами, на которые нельзя было купить даже носки. А здесь – английские фунты.
– Мы будем платить вам не за золото, – продолжал Швенд. – Золото мы собираем просто для того, чтобы оно не уплывало за границу. Вы будете получать от нас деньги за информацию. Информацию о дуче.
– О дуче?
– Да. Вы должны следить за каждым шагом Муссолини и немедленно сообщать мне. В это опасное для итальянской нации время мы должны позаботиться о безопасности ее вождя. А это возможно только в том случае, если вокруг него не будет никаких тайн для его искренних друзей – немцев. Вы хорошо знаете, что только немцам дуче обязан сохранением жизни. Кроме того, как любящий брат, вы должны подумать и о Кларетте. Судьба дуче – это судьба Кларетты. Вы должны убедить Кларетту, что ей не следует отпускать вас от себя. Вы найдете необходимые для этого слова. Верно?
– Очевидно, найду.
– Вы будете извещать меня через агентов, которых я вам укажу, по телеграфу и радио. Где бы вы ни были. Что бы с вами ни произошло. И никто, кроме нас двоих, не должен об этом знать.
– Ясно.
– Я должен был бы заставить вас поклясться, однако не сделаю этого. Вы имели возможность убедиться в том, что в наших руках есть вещи посильнее, чем клятва. Верно?
– Да.
– До завтра. Я жду вас для инструкций. Ля риведере.[32]
– Ля риведере.
ОНИ ШЛИ ВПЕРЕД...
Партизаны шли. Они плавали по грудь в росистых травах, как по морю. И небо, и леса, и горы – все повторялось вокруг них, обращалось, как стрелка на часовом циферблате, и каждые сутки круг их скитаний замыкался, чтобы к утру начаться снова.
Уже шелестели по ночам дожди, монотонные, надоедливые. Утром нельзя было найти ни одной сухой былинки в лесу, чтобы разжечь костер, и партизаны сушили свою промокшую до нитки одежду на солнце, на нещедром солнце немецкой осени.
– Воды хоть залейся, лесу хоть убейся, а хлеба хоть плачь, – смеялся Михаил.
Среди них не было путешественников по профессии, бродяг по призванию. Они роптали на осень, на дождь, на сырость лесов, на хмурое ночное небо. Михаил, чтобы подбодрить упавших духом товарищей, смеялся:
– Предлагаю не обсуждать действия небесной канцелярии. У мусульман запрещено говорить о погоде, потому что это считается критикой аллаха, а он, как известно, безгрешен.
– Пся кошчь! – сразу же лез в драку пан Дулькевич. – Мы ведь не мусульмане!
– Мы имеем право выводить своего бога из терпенья,– поддразнивал его Риго.
– И вообще, – бормотал бывший майор, – мне надоело бить баклуши. Разве это военный отряд? Здесь собрались атеисты и богохульники. Они загонят меня в могилу. Раньше я весил девяносто семь килограммов, а теперь, наверно, сорок семь.
Идти приходилось теперь осторожно: на их пути лежал густонаселенный Рурский район. В горах то и дело попадались заводы. Города жались один к другому. Села сливались с рабочими поселками. На полях, поросших молодой отавой, огороженных колючей проволокой, паслись коровы, и хозяева были, наверно, где-нибудь поблизости. Шоссе, такие безлюдные в Вестфалии, здесь кишели машинами. Верткие «опели», приземистые «мерседесы», покрашенные в лягушачий цвет, старые довоенные «форды», «кадиллаки», похожие на старинные кареты, могучие дизели с прицепами и десятки мелких, как мышата, машин между ними – всевозможные «пежо», «дкв», «бмв». Все это гудело, дымило, рычало, раскатывало по зеленым горам бесчисленные отголоски эха, напоминало о том, что нужно быть осмотрительным.
Отряд «Сталинград» возник в чужой, вражеской стране, где не было надежд на поддержку и сочувствие. Партизан всегда знает свой край. Леса, степи и горы родной страны помогают ему, как стены собственного дома. Здесь же местность была врагом, настороженным, затаившимся.
После разгрома эшелона с нефтью Михаил вывел отряд к рабочему поселку на другом конце долины и все-таки добился своего: они еще достали бумаги и разбросали по поселку листовки о партизанском отряде «Сталинград».
Потом пошли на запад. Теперь их вел Михаил. Риго не приходилось бывать в этих местах, и он охотно отказался от роли проводника.
У них была необычная цель. Она возникла неожиданно. Заполонила сердца всех. Даже скептически настроенный Раймонд Риго, который после своего ночного рейда в долину начал относиться к Михаилу с уважением, был захвачен новой идеей.
Случилось это под вечер, когда они уже несколько дней кружили в горах, чтобы запутать возможную погоню из подземного завода. Лето осталось где-то далеко позади, их встречал сентябрь. Было время, когда воды в реках пахнут опавшей листвой, травы становятся прозрачными, как промасленная бумага, когда ночами спадают на землю серые дожди, а хмурые дни неохотно показывают людям скупое на ласку солнце.
Неожиданно – на прощанье – лето послало им щедрый подарок: сухую звонкую ночь и день, залитый солнцем и голубым небом. Солнце было похоже на молодого древнего бога, нагого и розового в морских разливах теплого ласкового неба. Они чувствовали, что это последнее солнце нынешнего лета, и прощались с ним. Каждому в тот день вспоминалась родина, и была она вся в солнечном огне, с голубыми шелками небес, украшенная изумрудами трав.
Михаилу Скибе представилась его Украина. Бескрайные степи дремлют под солнцем, подорожник зеленеет на обочине, пшеница шепчет и ластится к беленьким хаткам. Могучий Днепр разбросал нитки своих притоков и рукавов и нанизал на них жемчужины городов: белостенный Чернигов и гордый Киев – стольный град молодой Советской Украины, зеленые Черкассы и славную Полтаву, овеянный горячим дыханием заводов Днепропетровск и прославленное Запорожье с электрической подковой поперек Днепра, завихренный степными бурями Херсон – знаменитую «арбузную столицу» – и Николаев, который засматривает сразу в зеркала трех рек, маленький Очаков, где умирали за революцию матросы лейтенанта Шмидта, и Одессу – город, который подает руки всем заморским друзьям.
Генрих Дулькевич видел Польшу. Не хмурый Вавель и не камни варшавского Старого Мяста. Он видел родину, купающуюся в солнечном свете. Солнце лилось с небес на леса, на горы, на города и людей, которые умели так хорошо смеяться, петь и танцевать...
Пиппо Бенедетти лежал вверх лицом. Он упивался воздухом, хмельным как вино. Он плакал от гордости за Италию. Кто не был в Италии, тот не видел настоящего неба. Залитая голубым небом – о, Италия! – ты вся голубая!
Девушкой с подолом, полным роз и винограда, улыбалась из-под солнца Раймонду Риго Франция.
Ходил среди нагретых в небесном горниле каменных кружев Златой Праги Франтишек Сливка, и древние, как синие Татры, славянские песни гремели в его ушах.
Клифтон Честер не мог вспомнить ни одного тумана над Англией. Солнце и трава, из которых посматривают красные кирпичные домики,– это и была Англия.
Маленькое немецкое солнце двоилось, троилось, становилось стократным в глазах Юджина Вернера. Он был уверен, что молодое американское солнце – самое большое в мире, как и его земля Америка, земля пионеров с нерастраченными силами, земля самых длинных рек, самых высоких деревьев и самых шумных городов.
Гейнц Корн был печален. Пока идет война, для немцев не было ни солнца, ни неба, ни зеленых трав.
Наступил вечер. Солнце катилось за леса. Голубое небо стало еще голубее и чище. Сосны пели колыбельные песни и вызванивали каждой веточкой, каждой иголочкой.
И вдруг звук далекого разрыва, приглушенный расстоянием, разбил, заглушил лесные шепоты, всколыхнул дремлющую землю. Они услышали звук после того, как Гейнц Корн, поднявшись на ноги, побежал куда-то вперед и, показывая рукой, закричал:
– Смотрите! Смотрите!
Западный край неба, голубой и чистый, прочеркнула толстая полоса белого дыма. Она клубилась и росла, как облачный столб над вулканом. Казалось, прыгнул кто-то высоко в небо и разматывает, тянет за собой нескончаемый свиток полотна, задымленного, обложенного кудрявыми барашками облаков. Столб все рос и рос. Он уже не мог стоять отвесно. Сгибаясь от собственной тяжести, он наклонился, а «кто-то» все разматывал и разматывал белый свиток, разделяя небо надвое.
– Это напоминает сотворение мира, – нарушил молчание француз. – Господь бог разделяет землю и воду. Посредине еще остается хаос, но не пройдет и нескольких минут, как он исчезнет.
– Это Страшный суд, – прошептал пан Дулькевич. – Конец света. Иначе нельзя назвать.
– Это ракета,—сказал Михаил. – Такими ракетами обстреливают немцы Лондон. Или же я ничего не понимаю вообще.
– С этой леди я имел счастье встречаться, – хмуро промолвил Юджин, вспомнив жаркий день в Стенморе, подполковника, «джип» и жуткую воронку около шоссе на зеленом лугу.
– Ракета, – прошептал англичанин. – Она полетела на Лондон. Мы должны немедленно идти. Они пустят еще и еще. Идемте! Скорей!
Его слова прозвучали как призыв.
– Мы пойдем туда, – твердо сказал командир. – Мы должны пойти.
– Туда! – воскликнул американец. – Туда – или никуда больше! Черт побери, мне начинает нравиться вся эта карусель!
– Туда! – топнул ногой пан Дулькевич.– Пся кошчь, мы поломаем эти фарамушки!
– Это очень далеко,– сказал Гейнц Корн.– Наверно, в Голландии.
– Мы пойдем в Голландию, – решительно заявил Пиппо Бенедетти. – Святая мадонна, если бы знала моя мама, где я! Но мы пройдем и в Голландию.
– Господа, – сказал Риго, – смею вас уверить, что это не примитивный самолет-снаряд «фау-1». Мне рассказывали, как он летит,– ничего подобного. Это что-то новое. Наверно, тот самый «фау-2», о котором кричит фашистская пропаганда. Новое оружие Гитлера. Последняя ставка берлинских игроков.
Война меняла свое лицо. Приобретала космический размах. Она отрывалась от земли, чтобы упасть на нее с еще большей силой. Путь партизан теперь определяла дымная кривая, что возникала каждый день в предвечернем небе. Клубящийся хвост ракеты заставлял забывать об усталости, об опасности. Глухой взрыв, который посылал ракету в небесные пространства, отзывался в их ушах могучим звуком. Они веселели, глаза загорались.
Гейнц Корн стал их поваром, хоть варить было почти нечего, хоть все труднее и труднее становилось раскладывать костры днем так, чтобы не поднимался над ними дым. Дым мог выдать их, а они теперь ни о чем так не беспокоились, как о том, чтобы поскорее, без потерь дойти до ракетных площадок.
Располагались на вершинах, среди густейших зарослей, часовые взбирались на деревья, чтобы дальше видеть. Не отходили от своего лагеря, чтобы не заблудиться, не наткнуться случайно на постороннего человека. Лежали, спали, сплевывали, вспоминая о куреве, смеялись.
– Пся кошчь! – вздыхал пан Дулькевич, поудобнее устраиваясь возле огня и присматривая, чтобы не сгорели остатки его ботинок, которые он сушил, не снимая с ног.
– Не знаете ли вы, Панове, о чем сейчас мечтает Генрих Дулькевич?
– Интересно, – говорил кто-то.
– О паре накрахмаленных манжет. Пара «мушкетерских» манжет с дорогими запонками – такая мелочь, а как она преображает человека!
– Кончится война, будут вам и манжеты и штиблеты, – успокаивал поляка Михаил.
– Фурда. Война никогда не закончится. Люди не могут без нее жить. Вы знаете, что делается в Южной Америке? Там нет войны с тех пор, как испанцы перебили индейцев и загнали их в джунгли. Но люди все равно как-то выходят из положения: то устраивают военные перевороты, то какие-то мятежи. «Паф! Паф!» – и все. И уже отлегла кровь от сердца.
– Мосье! – вмешивался француз. – Мосье и медам! Позвольте продемонстрировать перед вами мои успехи в оккультных науках. Вы думаете, что они ограничиваются делами потустороннего мира? Глубоко ошибаетесь, мосье! Я, например, могу угадывать судьбу, наклонности и желания людей даже по линиям... не рук, нет – ног! Давайте вашу ногу, мосье Сливка. Мерси. Высокий подъем вашей ноги свидетельствует о темпераменте и художественном даровании ее владельца.
– Тоже мне хиромантия, пся кошчь! – сплевывал серди-то пан Дулькевич. – Все знают, что пан Сливка композитор.
– Яйцеподобная пятка у мосье Честера свидетельствует о его педантизме и молчаливости, – продолжал француз.
– Я мог бы сказать об этом, не глядя на пана Честера!
– Круглая подошва у нашего командира служит доказательством его оптимизма, – не умолкал француз.
– Шарлатанство! Вся ваша наука, пан Риго, шарлатанство! – кричал пан Дулькевич.
Тогда Раймонд Риго менял характер своих «пророчеств» и, хитро подмигнув, говорил:
– Сейчас я угадаю по линиям ног мосье Дулькевича, чего ему хочется.
– Я уже сказал! – кричал поляк. – Мне хочется иметь пару накрахмаленных манжет! Я джентльмен, пся кошчь!
– Линии ног высокочтимого мосье Дулькевича,– не слушая его, продолжал Риго, поглядывая на рваные ботинки, из которых торчали кривые пальцы майора, – линии ног мосье майора говорят о его непреоборимом желании наесться вареной картошки.
– Фурда! – кричал пан Дулькевич.– Кто сказал пану такую буйду!
– Моя мама! – стонал Пиппо Бенедетти.– Что я сейчас отдал бы за миску спагетти с тефтелями и стакан хорошего итальянского красного вина!
– Италия – это страна песен,– говорил задумчиво Франтишек Сливка.
– Над нею небо голубое, как плащ мадонны! – восторженно восклицал Пиппо.– Там девушки с телами цвета свежего масла, как у мадонн на картинах...
– Что пан понимает! – сразу же вмешивался Дулькевич.– Видел бы пан Людвигу Сольскую, когда она играла в «Годиве» Леопольда Стаффа!
– Леди Годива – героиня английской легенды,– не выдержал Клифтон Честер.– Чтобы спасти родной город Ковентри от непосильной подати, она проехала по улицам верхом на коне без одежды.
– Нашла перед кем ехать! Если англичанину покажешь голую женщину на белом коне, то он сперва заметит, что конь белой масти, а потом уже увидит женщину.
– Англичане – прежде всего джентльмены,– с гордостью сказал Клифтон.
– Пан Скиба,– обратился поляк к Михаилу,– почему вы не принимаете участия в нашей беседе? Расскажите нам что-нибудь интересное.
– Я мог бы рассказать вам, например, как у нас на Украине смолят кабана,– сказал Михаил.– Это имеет мало общего с кабаре и пани Сольской, которая ходит по сцене. Но это один из маленьких народных праздников, исполненных, если хотите, глубокой романтики.
Представьте небольшой двор, огороженный тыном, белостенную хату. С утра женщины греют в больших котлах воду, мужчины готовят соль, точат ножи, детвора бегает по двору притихшая и послушная, даже собачка Букет лежит под сараем, откинув хвост.
И вот ночь. Отец с дедом идут в сарай. Приходят соседи. Помогают вынести заколотого кабана. Его несут медленно, бережно. Он белеет в темноте, как снежная гора. Дети ступают за спинами взрослых на цыпочках, не дыша, вытягивая шеи. Наконец кабана кладут. Отец командует носить солому. Дети наперегонки бегут к скирде, падают на нее, поднимаются уже с охапками пахучей сухой соломы.
Обложенного соломой кабана поджигает дед. Я вспомнил об этом пламени в ту ночь, когда мы с Гейнцем и Раймондом стояли над долиной, в которой рвались пылающие цистерны, и если бы только кто знал, как захотелось мне тогда снова увидеть в темном небе веселые языки пламени, в котором смолится жирный украинский кабан. Мирного, счастливого пламени!..
– Пся кошчь,– сказал пан Дулькевич,– это действительно романтично, пан Скиба. Но здесь нет пищи для буйной натуры.
– Вот вам для буйной натуры,– спокойно проговорил Михаил.– Тридцатый год. Одиннадцатилетний мальчик Мишка Скиба сидит за столом с книжкой. Маленькая, шестилинейная лампа еле освещает пожелтевшие страницы книги. В книжке говорится о девочке Нилии, которая владела даром ясновидения...
А на дворе ночь, посеребренная месяцем. И дома никого нет: мама Мишки умерла, когда ему было пять лет, а отец где-то на колхозном собрании. Он был организатором первого колхоза в селе и теперь его избрали председателем. И вот за стеной Мишка слышит тяжелые шаги. На маленькое окно ложатся две широкие тени. Послышались приглушенные голоса.
«Старого нет дома»,– прогудел кто-то.
«Зато малый здесь»,– сказал другой.
«Ну что ж, убьем хоть малого».
«Что ж, давай убьем»,– не стал возражать другой.
Они свернули козьи ножки и долго курили молча.
Потом решили: поджечь хату.
«Так, значит, убьем?»—снова начал первый.
«Конечно».
«Чтобы и завода не осталось?»
«Ну да...»
«Воробьиное гнездо найди и подожги,– посоветовал один.– Сразу вспыхнет! »
Так, наверное, и сделали. Отошли в глубь двора, стали ждать, когда разгорится стреха.
Стреха занялась. Мишка слышал, как трещит солома. Уже потянуло дымом. А он все стоял в уголке, стиснув в кулаке зеленую стеклянную лампу, молча рыдал и повторял про себя: «Пусть только полезут! Пусть только попробуют!»
Колхозники прибежали, когда уже упали стропила. Обеспамятевшего Мишку отец вынес на руках из хаты, гудящей от пламени...
– Пан Скиба, у вас было тяжелое детство,– сочувственно проговорил поляк.– До дьябла тяжелое!
– А потом нашлись люди, которые решили сделать тяжелой и всю мою жизнь... Товарищи! – Михаил поднялся.– Не забывайте того дня, когда вы увидели вон там, на западе, дым ракеты. Это наш день. Он ведет нас вперед!
И они шли вперед...
ОДИНОКАЯ МЕЛЬНИЦА
Спотыкаясь в темноте, пан Дулькевич мурлыкал:
Цо нам зостало з тих лят
Милошьчи первшей?
Зесхненте лишьче и квят,
В томику верши.
Вспомнення чуле и шепт,
И ясне лзи, цо не схнон,
И аньол смутку, цо вшедл
И тилько вестхнол...
Песенки напоминают мне весну моей жизни,– словно оправдываясь, сказал поляк.
И снова шлепали они по мокрому песку, руководясь в своем движении лишь холодным фосфорическим сияньем стрелочки компаса на руке у командира. И снова в унисон их медленным шагам плыли за ними песенки пана Дулькевича.
В еден цень, в еден дзвенк,
В едно песнь меланхолии
Злончил нас льос,
Плиньми разем в тен даль...
Было лето, и была Германия. Они позади. Колючие ежи шелестели ночами в прошлогодней листве, и в том шорохе слышались осторожные шаги погони. Летучие мыши неслышно вылетали из дупел в старых деревьях, растягивали в бледном небе косые паруса крыльев, их немой полет напоминал человеку о страшных сказках и об опасности. Реки, полные форели, звенели в борах, как хрустальное стекло, в их звоне слышалось предостережение.
Голландия встречала партизан дождями: наступала осень.
Гейнц – он побывал здесь в сороковом году – рассказывал о Голландии. Он не умел говорить красиво. По его словам получалось, что Голландия – это страна, где много воды, дождя, туманов, каналов, травы, тюльпанов, сыра и ветряных мельниц. Ветряки здесь стоят как памятники. На центральной площади Роттердама высится мельница с круглой конусной крышей. По праздникам ее украшают электрическими гирляндами. Если нет ветра, крылья вертит электричество. Голландцы любят старину. Женщины там до сих пор ходят в кружевных чепцах и в фартуках, которые можно увидеть на картинах Рембрандта.
Но пока партизаны не видели ни голландцев, ни тюльпанов, ни сыра, ни даже ветряков.
Перед ними расстилалась холмистая равнина, пересеченная пологими валами песчаных дюн. На дюнах изредка росли сосны, стояли одинокие тополя, стлался мокрый вереск, и шумел на ветру колючий дрок.
Ракета взлетала теперь уже совсем недалеко, за рекой, и, удаляясь, словно сгорала в небе. Им казалось, что они слышат ее шуршащий полет, чувствуют на своих лицах жаркое движение раскаленных газов.
В этот вечер они перебрались через речку в старой лодке, которую нашли в кустах лозняка. Ночь должна была привести их к ракетной площадке. Что она собою представляет? Никто не знал. Может, охраняет ракетные базы полк, дивизия, армия. Может, там все скрыто в подземельях, за толсты-ми бетонными стенами, стальными дверьми.
Михаил вспоминал, как он шел на штурм дота с дубиной в руке, и усмехался: теперь они не отступятся.
У Клифтона Честера вот уже два дня перед глазами неотступно стояла картина: в дождливых сумерках висит над самой землей гигантский заостренный карандаш. Огненное кольцо пылает внизу. Но вот огонь усиливается, карандаш отрывается от земли и летит вверх. Все это продолжается частицу секунды. И он видит снова и снова, как срывается стальная ракета с огненного прикола и летит вверх, чтобы упасть затем на Лондон, на Англию, на его несчастную мать, на невесту Айрис.
И когда на рассвете за дюнами перед партизанами вдруг замаячил силуэт одинокого ветряка, Клифтону показалось, что это не ветряк, а ракета. Он попросил командира, чтобы тот отпустил его вперед одного. Он имеет право увидеть ракету первым. Месть – это ведь его исключительное право.
Михаил послал к ветряку Клифтона и Сливку. Он ценил отвагу англичанина, но не забыл старинной мудрости, что отвага – это наука о том, чего следует бояться, а чего нет. В разведку всегда надо идти вдвоем – так подсказывает осторожность.
Сливка и Честер перекатились через дюну. Серые кусты окропили их холодными брызгами. Сливке было холодно и страшно. Ему хотелось поговорить. Когда говоришь, забываешь о страхе.
– Господин Честер,– сказал Франтишек,– я очень жалею, что со мной нет фотографии моей Ружены и Гонзика. Вы не можете себе представить, какие они милые.
Клифтон молча лез на новую дюну. Он полз по песку, зарывался в него и шипел:
– Пригнитесь!
Ветряк стоял дальше, чем казалось на первый взгляд. Дюны, как и горы, скрадывают расстояние. Ползти было все труднее, все чаще останавливался Франтишек Сливка, чтобы передохнуть, а Клифтон все плыл по песку вперед, как пароход. Словно они были не на одинаковых харчах в лагере уничтожения.
Когда уже до мельницы оставалась сотня метров, разведчики увидели с вершины холма, что она стоит над старым высохшим каналом. По нему, наверно, можно идти, как по проспекту. У англичанина загорелись глаза.
– Возвращайтесь назад,– шепнул он Сливке,– и скажите о канале. По нему мы можем идти и днем. А я побуду здесь. В мельнице, по-моему, никого нет.
Правда, ветряк стоял закрытый. Серый от непогод, старый и немощный, он еще держался на высоком фундаменте из потемневшего кирпича. Парусиновые клетки в крыльях наполовину сгнили, старая ткань висела лоскутами. Дышло, за которое когда-то поворачивали мельницу к ветру, торчало мертвое и нескладное. Ветряк смотрел на мокрые дюны своими темными дощатыми стенами без окошечек, своей закрытой дверью – и ничего не видел.
Где же твой хозяин, ветряк? Покинул тебя и поехал за море искать счастья на таинственных островах Индонезии или, может быть, умер, убит врагами, которые топчут сейчас древнюю землю батавов?
Клифтон Честер подполз к ступенькам мельницы, оглянулся, проворно взобрался на нижнюю площадку. Отсюда так хорошо видно вокруг! Однако Честер помнил об осторожности. Он тронул плечом узкую дверь и с радостью и в то же время с легким холодком страха почувствовал, что она по-дается. Дверь заскрипела на ржавых петлях и впустила Клифтона в полутемное помещение, которое было освещено только щелями и четырехугольным люком вверху. Здесь уже давно не пахло мукой – пахло сыростью, травой, что росла внизу, мышами и старыми мешками. Деревянная лестница вела наверх, в люк. Клифтон, не раздумывая, полез по ней. Лестница имела всего восемь перекладин. Клифтон переступил три из них – и голова его оказалась над верхним помостом. Расставив локти, он уцепился за край люка и на всякий случай огляделся. Справа был постав с жерновами и над ними четырехугольный ковш. Слева Клифтон не успел ничего увидеть. Взгляд его уперся в черный глазок немецкого автомата. Клифтон увидел еще сапоги с коротенькими голенищами. Инстинкт самосохранения ослабил, разогнул локти, и Клифтон упал вниз. Он не знал, что там его ждет кое-что пострашнее. Еще когда летел, услышал снизу короткое:
– Хенде хох!
А когда упал на твердый помост и потянулся к карману, где был пистолет, увидел, что из-за столба целится в него еще один немец. Все было рассчитано с сугубо немецкой аккуратностью и точностью. Он попал в ловушку, как глупая мышь.
Верхний немец соскочил на помощь нижнему. Пистолет Клифтона отправился в глубокий солдатский карман.
– Кто такой? Что здесь делаешь?
Вопросы были лишними. Он прятался от немцев. Он имел оружие,– стало быть, вышел не на прогулку по старому каналу. Не дождаться им от него ни слова!
– Отведи его, Альфред,– сказал верхний солдат,– к унтеру Бюрсте. Он распорядится.
– А может, самим? – нижний выразительно чиркнул пальцем себе по шее.
– Нет, так не годится. Ты же слышал: всех задержанных расстреливать по приказу ближайшего командира. Веди! А я останусь здесь. Может, захвачу еще какого-нибудь голландца.
– По-моему, это не голландец,– сказал тот, которого звали Альфредом.
– А кто?
– Видишь, что на нем надето? Это пленный. Наверно, русский. Большевик? – спросил он Клифтона.
Англичанин молчал.
– Не я тебе говорил? – удовлетворенно проговорил солдат.– Такую птицу надо доставить гауптштурмфюреру.
– Далеко же он забрался,– сочувственно проговорил верхний.– Эй ты, рус! Откуда? Москва? Сталинград? Севастополь?
Клифтон усмехнулся: солдат выучил географию далекой восточной страны. Немцы хорошо запомнили города, где им «давали прикурить». Эсэсовец понял его усмешку.
– Ну, ну,– угрожающе буркнул он,– ты не очень! Тут тебе не Сталинград! Группенфюрер фон Кюммель шуток не любит! Веди его, Альфред, к унтеру.
– А может, к капитану?
– Хватит с него и унтера,– ишь усмехается!
– Ну пойдем,– Альфред подтолкнул Клифтона стволом автомата.
Англичанин бросил на него взгляд, полный ненависти. Он перегрыз бы горло этому эсэсовцу! Только подумать: быть так близко от ракеты и попасть в западню! Да еще завести в ловушку отряд. Клифтон был уверен, что Михаил ведет отряд по его следам и что второй эсэсовец с мельницы скосит их всех до одного, а если нет, то прибегут на выстрелы другие – и все погибло.
Они пошли по дну канала. Того самого канала, по которому Честеру хотелось как можно быстрее добраться до проклятых ракет. Слежавшийся ил скрипел под ногами. Вилась мелкая травка. Можно было смотреть только вверх, но там висело тяжелое осеннее небо. Впереди – узкое ущелье канала, мокрые песчаные бугры по берегам, хмурое небо, а позади сопенье эсэсовца, бряканье его автомата, топот сапог и время от времени резкое, тревожное: «Не оглядываться! Вперед! »