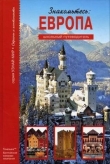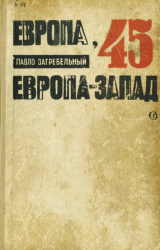
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 43 страниц)
Действительно, со стороны Стенмора уже показалось несколько «джипов», они во весь опор неслись к месту взрыва.
Подполковник лихо развернул машину у самого края гигантской воронки, соскочил и крикнул Юджину:
– Пожалуйста!
Сержант посмотрел вниз. Широченная, глубокая, закопченная черной сажей прорва, на дне ее еще вился дым, а под ним уже собиралась густая мутная вода. Обожженная, забросанная кусками глины трава вокруг. Изувеченное шоссе без асфальтового покрова, с голыми каменными ребрами основы. И смрад – тяжелый, острый, как в газовой камере.
– Могло быть хуже! – весело сказал подполковник, выразительно поглядывая на домики Нортолта.
Подъехало несколько машин. Из них повыскакивали оживленные американцы и солидные, нахмуренные английские офицеры, должно быть очень высоких рангов, потому что подполковник вытянулся и козырнул. Юджин тоже козырнул, но сделал это автоматически: он еще не пришел в нормальное состояние.
Офицеры о чем-то быстро заговорили. Юджин слышал слова «тяжелая вода», «захвачена в Норвегии», «немецкие ученые», «возможна новая страшная бомба», но ничего из этого разговора не мог понять. Подполковник, который вез его, выслушав офицеров, уверенно сказал:
– Джентльмены, это просто немецкий летающий снаряд «фау-1». Я был за какие-то полсотни метров от места взрыва и имею представление о силе и характере действия этой штучки.
– А вы уверены, что это не новейшее оружие, которым грозит Гитлер? – спросил один из офицеров.
Подполковник пожал плечами:
– Это же та самая чертовщина, что летает на Лондон! Хотя «фау-1» летит, пожалуй, медленнее, переворачивается в воздухе, как жирный индюк. А эта штука несется чуть ли не из стратосферы и падает на вашу голову, как кара божья. Да, ее, пожалуй, не остановишь ни зенитками, ни истребителями, как это вы делаете с «фау-1». Наверно, не зря болтали немцы про свое новое оружие.
Офицеры еще немного поговорили и разъехались. Подполковник тоже завел машину и, трогаясь с места, сказал Юджину:
– Наверно, сержант, ко всем вашим заданиям прибавится еще одно: вот эти штуковины, что так красиво падают людям на голову среди бела дня с пустого неба.
Через несколько дней Вернера снова привезли в Стенмор. Теперь он уже был не в форме сержанта американской армии, а в чистенькой одежде немецкого железнодорожника путевой службы.
В большой палатке-столовой его накормили вкусным ужином, причем сам повар подходил и спрашивал, что ему подать. Юджин сначала пожелал яичницы из настоящих куриных яиц, а не из порошка. Ему принесли сковородку, на которой шипели и подпрыгивали аппетитные кружки желтков. Юджин поделился яичницей с авиационным техником того самолета, на котором должны были его везти. Техник засмеялся:
– Тебя кормят как на убой.
Потом в той же палатке тот же повар, который был одновременно капелланом авиационного полка, прочитал перед всеми, кто летел в Германию, молитву.
– Господи, – бормотал он, – воззри на людей, что летят в эту ночь, и позволь им счастливо вернуться к нам. С уверенностью будем ждать будущего, зная, что не оставишь нас, господи, в своем милосердии ныне и присно. Аминь!
– Бог, наверно, не понимает молитвы нашего повара, – засмеялся техник. – Когда его выдумали, еще не было ни летчиков, ни наших «боингов».
Перед посадкой техник подошел к Юджину, снял с руки широкий белый перстень и протянул сержанту:
– На счастье.
Перстень был удивительно легкий и такой белый, что даже в темноте выделялся на темной ладони техника.
– Алюминиевый? – спросил Юджин.
– А ты хочешь, чтобы тебе дарили золото? Да и у немцев тоже оловянные или алюминиевые.
– Спасибо, – проговорил Вернер.
– Успеха! Возвращайся.
– Спасибо, – еще раз сказал Юджин, поднимаясь в самолет.
Ночной полет – это полет среди звезд. Звезды висят над самолетом, звезды проплывают внизу, мерцают справа и слева, и начинает казаться, что и ты тоже часть этого бесконечного, величественного звездного царства. У людей, которые летают в мирное время и которых впереди не ждут ни-какие страхи, главное желание – поскорее долететь. Юджину некуда было спешить. Этот самолет был последней частицей, соединявшей его с родным краем, с людьми, среди которых он родился и вырос. Даже звезды вокруг самолета казались своими, американскими, такими, как и по ту сторону океана. Но как только он переступит порог кабины, оторвется от металлической сигары бомбардировщика, – сразу же окажется под чужими звездами, над чужой землей, полной неизвестных угроз и неожиданностей.
«Боинг» шел не один. Сто, двести, а может быть, и тысяча бомбардировщиков летели в эту ночь на Германию. Осуществлялся план английского маршала авиации Артура Гарриса.
Самолеты шли на большой высоте – что-то около восьми тысяч метров. Пришлось надеть кислородные маски, и Юджин пожалел, что он не сможет съесть сандвич и глотнуть из термоса теплого какао. Он пробовал заснуть, просыпался и снова покачивался на волнах дремоты.
Но вот над дверью в кабину пилотов загорелась красная лампочка – внимание! Нужно готовиться. «Боинг» наклонил нос и нырнул вниз, во тьму, отрываясь от гремящей воздушной армады, приближаясь к притихшей земле. Сержант подключился к переговорной линии, услышал короткое «о’кей!» командира и стал готовить контейнеры. Ему помогли их сбросить, и через мгновение два металлических ящика уже покачивались в темном просторе под куполами парашютов. Юджин пожал руки летчикам, проверил лямки и шагнул к черному отверстию, что-то крикнул, зажмурил глаза и бросился в ночь. Резанул неистовый рев моторов, ударило холодным ветром, рванули под мышками стропы парашюта – и он начал падать на темную, враждебную землю.
Самолеты еще гремели вверху и сыпали вниз пучки лент металлической фольги, чтобы сбить с толку немецкие радиолокаторы. Фольга цеплялась за парашютные стропы, повисла на плечах Юджина, и он приземлился, весь увешанный блестящими лентами, словно американский Дед– Мороз – Санта-Клаус.
Теперь нужно было найти контейнеры с рацией и боеприпасами, выйти к железнодорожной колее и, передав в штаб данные о движении поездов, взорвать несколько мостов в горах.
До утра Юджин просидел под разлапистой сосной, не выпуская из рук автоматического пистолета, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому ночному звуку. Когда рассвело, он посмотрел на карту и отправился обследовать квадрат, где должны были упасть его контейнеры.
Ящик со взрывчаткой лежал у самой железнодорожной колеи, вернее, висел между деревьями, раскачиваясь на прочных стропах. Парашют, изорванный о сучья, надежно служил до конца и не давал грузу спуститься на землю. Юджин выругался. Днем белое полотнище парашюта будет прекрасным ориентиром для поисковых групп (он почему-то был убежден, что о его высадке знает вся Германия и что сотни специальных команд уже шарят вдоль Рура и Рейна, ищут сержанта американской армии Юджина Вернера). Поэтому он прежде всего полез на дерево и перерезал с одной стороны несколько строп. Контейнер пополз вниз, потянул за собой остатки парашюта. Шелк рвался и трещал, стрелял, как пистолет. Проклятый американский шелк! Юджин решил сначала освободить контейнер, а потом убрать с дерева эти чертовы тряпки.
Было уже совсем светло, когда он закончил работу. Его счастье, что по колее не прошел еще ни один поезд и поблизости не оказалось немцев. Юджин слез и стал свертывать порванный парашют – надо было закопать его в землю и замести следы.
Вот тогда-то и произошло неожиданное.
Сзади что-то вдруг зашелестело, мягко и упруго прыгнуло сержанту на спину и прошипело на немецком языке, который звучал у Юджина дома и которого сержант боялся сейчас больше всего на свете:
– Хенде хох!
Для раздумий времени не было. Руки его уже поднимались – медленно, словно на них висели двухпудовые гири. Приказ выполнялся безоговорочно, и тот, что был сзади, не имел оснований беспокоиться. На это и рассчитывал Юджин Его правая рука на полпути изменила направление и, описав резкий полукруг назад, нанесла безошибочный удар. Твердый как камень кулак Юджина попал по чьей-то острой челюсти, и человек со стоном свалился. Вторым движением Юджин выхватил тяжелый автоматический пистолет. Мигом обернулся, увидел фигуру, лежавшую у его ног, но не успел рассмотреть, потому что очутился лицом к лицу с другим противником, который целился в него из черного немецкого автомата.
Стрелять! Как в американской дуэли, стрелять первым! И Юджин выстрелил прямо в лицо тому, кто наводил на него автомат.
Странные вещи бывают на свете. Юджин был уверен, что вгонит пулю прямо в физиономию врага, а пуля ни с того ни с сего свистнула в белый свет, как в копеечку, – пистолет в решающий миг почему-то поехал назад, задрав тупое рыльце.
И лишь тогда, когда Юджин бухнулся о землю всем своим девяностокилограммовым телом, он понял: произошло непоправимое. Тот, что лежал на земле, очнулся, подкатился к нему под ноги и сбил, как при игре в бейсбол. Юджин выстрелил еще раз, не целясь, куда попало. Это был его последний выстрел. Сразу же на руку, на пистолет, навалился тот, что с автоматом, и стал гнуть к земле, чтобы вырвать оружие. Враг был легкий, вялый, но упорный. Юджин хотел расквитаться с ним левой рукой, но на левую налег второй, который с трудом полз до этого по земле. Юджин увидел лица немцев – худые, небритые, грязные. Он представлял себе фашистов тупыми, жестокими, но никогда не думал, что они могут быть такими жалкими в сравнении с ним – здоровым, откормленным, сильным и красивым. Он шевельнулся, и оба противника чуть было не свалились с него. Но рук не выпустили.
– Что стреляешь, дурень? – на плохом английском языке прохрипел тот, что держал левую руку.
«Они знают, что я американец», – встревожился Юджин и опять попробовал вырваться.
– Брось оружие, мы свои! – снова прохрипел тот же голос по-английски.
«Знаем мы эти штучки!» – почти весело подумал Юд-жин, понимая, что до тех пор, пока у него в руке пистолет, враги бессильны.
Тогда другой, в которого стрелял сержант, вдруг бросил руку Юджина и ткнул себя в грудь:
– Я советский. Понимаешь? Советский.
Американец от неожиданности даже сел. Слова незнакомца ошеломили его, наверно, больше, чем взрыв в Стенморе. Советский! Перед ним русский солдат!
– Ты правда советский? – спросил Юджин.
– Да, – кивнул Михаил. – Советский лейтенант Михаил Скиба. Не надо стрелять. Мы знаем, кто вы. Мы – ваши друзья.
Он говорил по-немецки, старательно подбирая и выговаривая слова. Его товарищ, полагая, что Юджину эта речь непонятна, быстро перевел ответ на свой ужасающий английский.
– Черт! – все еще не веря, проговорил американец. – Откуда это видно, что вы не немцы?
– Посмотрите на нас, – коротко ответил Михаил, а его товарищ, как эхо, повторил ответ по-английски.
– Не будьте попугаем, – сердито сказал ему сержант.– Я знаю немецкий язык немного лучше, чем вы английский. А кроме того, отпустите мою руку.
– Прошу прощения, – пробормотал майор. – Прошу прощения и репрезентуюсь: майор Войска Польского Генрих Дулькевич.
– Поляк? – снова не поверил американец.
– Да, – учтиво склонил голову пан Дулькевич.
– Вот так история! – постепенно приходя в себя, проговорил Юджин.– Однако ко всем чертям, мне еще не верится. Как вы меня нашли?
Михаил пояснил.
– Слышим ночью: какой-то американский самолет снизился и кружит над этим местом. Решили, что здесь должны высадить десант. Ну и бросились. Мы увидели тебя еще тогда, когда ты полез на дерево.
– Вот и надо было снимать меня оттуда, как спелую грушу, – засмеялся Юджин.
– Я предвидел возможное сопротивление, – сказал Михаил. – Предупреждал пана Дулькевича. Он не послушался и, конечно, потерпел...
– Я, пожалуй, основательно задел вас, майор? – сочувственно спросил Вернер.
– А, пустяки! – небрежно махнул рукой поляк. – В последнее время меня столько били, что этого удара я почти не заметил.
– Зато вы меня хорошо поддели снизу, – захохотал Юджин. – Это было проделано с блеском!
– Генрих Дулькевич способен и еще кое на что,– скромно потупился майор.
Теперь американец уже не чувствовал себя одиноким и несчастным. Наоборот, он казался себе чем-то вроде доброго дядюшки Сэма, который упал с неба в непролазные дебри для того, чтобы стать благодетелем беспомощных беглецов. Он сильный, здоровый. У него есть продукты. А они – слабые, измученные, и притом бедные, как церковные мыши. Через несколько часов он разыщет рацию, свяжется со своим командованием, а они... оторваны от мира, предоставлены самим себе, никому не нужны...
– Вы, наверно, есть хотите как волки? – спросил Юджин.
– Как сто волков, – усмехнулся Михаил.
– А если перед едой еще хлебнуть? – американец похлопал по большой плоской баклаге, что висела у него на поясе.
– Нет, этого нам нельзя. Мы слишком ослабли. Да и к чему сейчас пить?
– Чтобы отметить наше знакомство, – вкрадчиво проговорил пан Дулькевич. – Пся кошчь, это же так романтично! В далеком немецком лесу, на плато Эйфель, встречаются трое союзников и пьют настоящее сода-виски или американское бренди!
– Сода-виски придется отставить, – сурово сказал Михаил. – Единственное, что мы можем попросить у нашего американского друга, это дать нам немного поесть.
Михаил говорил приглушенно, стараясь, чтобы американец не слышал их пререканий. Зато Дулькевич кричал на весь лес.
– Мы должны выработать общую линию поведения, – сказал Михаил.
– Какая еще, до дьябла, линия! – воскликнул пан Дулькевич. – Если нам на голову упал с неба богатый американец с выпивкой, свиной тушенкой, шоколадом и галетами!
Они говорили каждый на своем языке и хорошо понимали друг друга, зато американец ничего не мог разобрать в этой беседе и с интересом посматривал на обоих.
– Теперь я начинаю верить, что вы правда те, за кого себя выдаете, – усмехнулся он, – ваша речь такая певучая и непонятная. Такой я себе и представлял речь славян. Однако, сто чертей, о чем вы спорите?
– Пан лейтенант – командир нашего маленького отряда,– пояснил поляк,– и он категорически запрещает употреблять в данной ситуации алкогольные напитки.
– Ну, что касается меня, то я не подчинен господину лейтенанту, – сказал Вернер. – Я солдат американской армии и могу пить и есть все, что угодно, независимо ни от чьих запрещений, кроме американских.
– Пожалуйста, – развел руками Михаил. – Мы с паном Дулькевичем – сторонники демократии в самом широком смысле и не собираемся лишить вас какой-нибудь из ваших свобод.
Юджин, хотя и был простоват, все же уловил в этих словах насмешливую нотку и обиделся.
– Вы, наверное, еще не знаете, что на рассвете шестого июня открылся второй фронт? – сказал он.
– Правда? – воскликнул Михаил.
– Второй фронт? – не поверил пан Дулькевич.
– Именно второй, – самодовольно усмехнулся американец. – Уже больше месяца идет битва за Францию. Наши войска скоро будут здесь.
– А мы бродим в лесах и даже не представляем себе, что делается на свете, – вздохнул Скиба.
– Так что американская армия через какой-нибудь месяц освободит вас,– пообещал Юджин.
– Пся кошчь! – бодро крикнул пан Дулькевич.– Однако и мы поможем вашей армии!
– А потому, – надувшись, продолжал Вернер, – я имею совершенно определенное задание командования и больше никакого начальства не признаю и признавать не собираюсь.
– Заверяю вас, – сказал Михаил, – что единственная наша цель – это биться с фашистами. И в доказательство моих слов предлагаю вам помощь. Что надо делать? Закопать парашют? Спрятать подальше контейнер? Разгрузить его? Думаю, что втроем это можно сделать быстрее, чем одному.
– Сто чертей! – Юджин хлопнул Михаила по плечу. – Вы подходящие ребята, как я посмотрю. Давайте действительно сперва спрячем все это добро, а потом я вас подкормлю. А то вы напоминаете сейчас моих кур-рекордисток, которые несут по десять яиц в день, а через неделю дохнут.
«БЕЙ В БАРАБАН И НЕ БОЙСЯ!»
Унтер-офицер Гейнц Корн с двумя солдатами получал возле интендантского вагона продовольствие на свою роту. Все трое были худые, злые, грязные, и странным казалось, как они попали на эту маленькую, залитую солнцем, окруженную высокими зелеными вязами станцию и почему именно сюда прикатил пузатый вагон с хлебом. Солдаты стояли молча, наблюдая, как толстый интендант выкладывает на кусок грязного брезента брусочки консервированного хлеба, того самого сладковатого, сделанного словно из опилок, от которого их давно уже тошнило. Покончив с хлебом, интендант стал считать жестянки с паштетом, затем отмерил в термос разбавленной рыжеватой жижи, которая некогда называлась ромом, а сейчас напоминала что-то среднее между карболкой и помоями.
Унтер-офицер сначала молчал, только время от времени кратко отвечал на вопросы интенданта, но чем больше он смотрел на хлеб, на маргарин, на консервы, тем настойчивее охватывала его непонятная истома. Хотелось закрыть на миг глаза и очутиться далеко-далеко от этих мест, от войны и смертей, у себя на Рейне, возле любимой Дорис, в своей тихой маленькой квартирке на Бензбергштрассе. Сегодня утром убили их фельдфебеля, и теперь Гейнц выполнял его функции. Через час, а может, и скорее налетят советские штурмовики и убьют и его, и этих солдат, и этого интенданта. Всем конец! Хоть бы эта тыловая сволочь перед смертью дала наесться как следует.
Смерть давно уже владела всем естеством Гейнца, его мыслями и делами. Он был опутан мыслями о смерти. Она скулила и выла над ним, как буря над деревом. А кто же не знает, что во время бури деревья не растут, а ломаются!
Гейнц видел много смертей. Видел белую смерть, холодную, безразличную, она сковывала бесконечные русские равнины крепкими как сталь морозами, сыпала белыми снегами, выла метелями, из-за которых падали и падали на головы завоевателей снаряды этих ужасных «катюш». Видал и черную смерть, когда к самому небу столбом поднимался вырванный минами из своего тысячелетнего лона украинский чернозем и тянул с собой вверх, в ничто, нюрнбергских ефрейторов, унтер-офицеров с Рейна и молоденьких лейтенантиков из берлинских юнкерских школ. Видел зеленую болотную смерть, украшенную цветами и ветками сосен и берез. Видел и летающую смерть, принесенную на коротких крыльях советских штурмовиков, и ползучую, что двигалась на них в гремящих «тридцатьчетверках».
– Единственное, чего бы мне еще хотелось, – нарушил молчание Гейнц, – это еще раз обнять и поцеловать жену...
– Вы даете такого стрекача от русских, что на поцелуи не остается времени, уже не говоря о том, что здешние женщины предусмотрительно прячутся от кавалеров, подобных унтер-офицеру Гейнцу Корну, – неожиданно послышался сзади насмешливый голос.
Гейнц обернулся. Перед ним стоял высокий, как и он сам, только чистенький, хорошенький, словно игрушечный, штабс-фельдфебель и усмехался сразу всеми тридцатью двумя зубами.
– Мы у тыловых пижонов зубы не покупаем, – буркнул Корн. – Можешь закрыть свою лавочку.
– Да ты что? – удивился штабс-фельдфебель. – Не узнал? Или, может, ты не Гейнц Корн?
– А ты кто – курьер святого Петра? Пришел приглашать меня в рай? Или, может, привез мне из ставки рыцарский крест с мечами и бриллиантами? – Гейнц сплюнул.
– Да нет, я просто Арнульф Мария Финк, который сидел когда-то на одной парте с тобой. Помнишь, ты все норовил провести мне резинкой по волосам!
– Арнульф! – воскликнул Корн. – Боже ты мой! Ну и свинья же ты после этого! Нарядился франтом, вытанцовывает здесь по шпалам, как прима-балерина, и узнавай его! Так это правда ты?
– Я.
– Ну, здравствуй.
Они пожали друг другу руки. Можно было бы и обняться, но пять лет войны выскребли из их душ все сантименты.
– Давно мы не виделись, – растроганно проговорил фельдфебель. – Целое тысячелетие.
– Давно, – согласился унтер-офицер.
– И только подумать: служим в одной части, а не знаем об этом, – снова начал Арнульф.
– Мало ли здесь всякого мусору, – буркнул Гейнц.
– Однако ты остался такой же кусачей собачкой, как и был! – воскликнул фельдфебель и отвесил унтеру хороший удар кулаком в спину.
– А ты свиньей, – в тон ему сказал Корн и ответил таким толчком, от которого зашаталась бы и лошадь.
– И провонял же ты в своих окопах, как хорек! – заржал Арнульф.
– А от тебя, хоть и вылил ты на себя целое ведро кельнской воды, несет конской мочой, как от полкового ветеринара, – не остался в долгу Гейнц.
– Правда, несет? – обеспокоился фельдфебель.
– Еще как! Спроси ребят.
– Вот черт! Этот запах может выдать военную тайну.
– Тебе уже стали доверять тайны? Примазался к штабу?
– Вот,– фельдфебель показал беспалую левую руку,– видел, отчесало как бритвой!
– Где это тебя?
– Под Сталинградом.
– Скажи спасибо, что дешево отделался. Я тоже отдал бы все свои пальцы, чтобы сидеть сейчас в штабе.
– Откуда ты взял, что я в штабе? – пожал плечами Арнульф. – Я, брат, трофейная команда.
– В таком случае у тебя должно быть хоть немного русской водки.
– Вообще-то теперь никто о водке не думает, – сказал фельдфебель, – но для давнего дружка найдется немного. Ты можешь отойти от своих ребят на часок?
– Вот получу продукты, отправлю их и попробую дезертировать хоть на час.
– Осторожнее, пожалуйста, с такими словами, – оглядываясь, сказал фельдфебель.
– Да ты не бойся. Может, еще после войны дезертиров назовут немецкими национальными героями, а бухгалтеры будут вести статистику дезертиров.
– Все-таки не забывайся, Гейнц. Подумай, что ты несешь?
– Боишься моих ребят? А ты поди послушай, что они говорят в блиндажах.
– А этот? – фельдфебель кивнул на интенданта.
– Плевать мне на него! Не ему, а мне надо возвращаться на передовую. Могу я, наконец, позволить себе хоть такую роскошь – пошевелить языком!
Корн получил продукты, разделил их на три равные части и сказал солдатам: .
– Вы не очень спешите, я вас догоню. Надо земляка проведать.
Солдаты взяли термос с ромом, закинули на плечо ранцы из телячьей кожи, а брезент с хлебом потащили прямо по земле. Унтер-офицер тоже был навьючен как мул. За плечами у него висел ранец с консервами, на груди автомат, пояс оттягивали вниз тяжелый парабеллум, шесть запасных магазинов к автомату, противогазная коробка, в которой что-то подозрительно плескалось, и обшитая рыжеватым сукном баклага. Гейнцу достался еще и солидный узел с хлебом.
– Давай помогу, – предложил Арнульф.
– Не беспокойся, дотащу. Показывай лучше, где ты расположился.
– Конечно, не на станции. Не такой я дурак, чтобы ждать, пока на голову упадет бомба. Вон там, за леском, есть симпатичная мыза. Это моя резиденция.
– Ну, если так, – сказал Гейнц, – бери мой узел, хоть ты и фельдфебель. Только не закопти мне хлеб своей конюшней.
– Хочешь знать, откуда этот дурацкий запах? – спросил Арнульф.
– Если интересно – давай.
– Только смотри, никому ни слова.
– Говори, говори, в абвер[4]не донесу.
– Вот видишь тот эшелон на крайнем пути?Видишь две гондолы в хвосте?
– Ну и что?
– Четырехосные русские гондолы, по шестьдесят тонн в каждой.
– Ив тех гондолах золото?
– Золото, только конское.
– Конское? – удивился унтер-офицер.
– Ну да, конский навоз.
– Вы отбили эти гондолы у русских?
– Вагоны, правда, в свое время были захвачены у русских, но навоз собирала моя трофейная команда.
– Навоз?
– От самого Каунаса.
– И это в то самое время, когда мы удирали как зайцы? Когда тысячи наших солдат гибли за великую Германию?
– Навоз тоже для великой Германии, – усмехнулся фельдфебель.
Они подошли к вагонам. На первой гондоле под металлической сеткой белела бумага Гейнц наклонился и прочтал: «Станция отправления – Шештокай, станция назначения – Дельбрюк. Адресат: барон фон Кюммель».
– Послушай, – почти шепотом проговорил Гейнц, – это тот самый Дельбрюк? Наш Дельбрюк?
– А ты думал!
– И там, в то время как я издыхаю в окопах, сидит какой-то барон фон Кюммель и трофейные команды собирают навоз для удобрения его полей?
– Так, наверно, и есть,– согласился фельдфебель.– Этот Кюммель не только барон. Он еще и группенфюрер войск СС и личный друг Гиммлера, и сам фюрер очень высокого мнения о нем, и еще там что-то, черт знает что...– сказал, пугливо озираясь, Арнульф.
– Откуда у тебя эта идиотская привычка оглядываться? – не выдержал Гейнц.
– У нас в дивизии, в абвере, работает племянник этого фон Кюммеля,– пояснил фельдфебель,– и если он услышит хоть слово о своем дядюшке...
– А может, ты врешь,– снова начал унтер-офицер.– Может, этот навоз здесь для маскировки – чтоб обмануть русских, продемонстрировать нашу уверенность, наше спокойствие или еще что-нибудь?
– Эшелон отправляется сегодня, как только стемнеет. Днем приказано держать его здесь, в тупике. Русские не догадываются, что на Шештокае стоят вагоны с заводским оборудованием, вывезенным из Вильнюса.
– И с навозом...– подсказал Гейнц.
– Навоз их не интересует.
– Я вижу, ты, дорогой, совсем утратил чувство юмора.– Гейнц сочувственно похлопал Арнульфа по плечу.– Русских не интересует навоз? А почему он должен интересовать меня, унтер-офицера Гейнца Корна? Почему я должен драться за какой-то Шештокай, отстаивать две гондолы лошадиного навоза?
– Можешь не драться,– пожал плечами Арнульф,– все равно, если русские захватят Мариамполе или узловую станцию Казлу-Руда, этот Шештокай можно будет выбросить собаке под хвост. Поэтому начальство и спешит. Мои ребята валяются без задних ног после этого навоза. Слава богу, задание выполнено. Сегодня отправляем эшелон.
– Ну, ну,– буркнул Гейнц,– хватит об этом. Где твоя мыза? Дождусь я сегодня водки?
Хутор, где остановился Арнульф, лежал неподалеку от станции, в тихой котловине, за зеленой шеренгой старых деревьев. Деревянный дом со стеклянной верандой и мезонином приветливо выглядывал из кустов сирени, улыбался солнцу, поблескивал стеклами, манил домашним затишьем, обещал прохладу и покой тому, кто устал в далекой дороге.
– Можно подумать, что нас ждут здесь за накрытым столом,– вздохнул Гейнц.
– Хозяева удрали. Мои солдаты спят в погребе. Дом пустой,– пояснил Арнульф.– Я в нем тоже не сижу: знаешь, как-то не по себе. Все кажется, что вот придет настоящий хозяин и попросит тебя ко всем чертям.
– Попросит? – засмеялся унтер-офицер.– Ты не совсем точно высказываешься, Арнульф! Вытурит в три шеи! Разорвет тебя на куски, сожжет и пепел по ветру развеет! Вот! И правильно сделает.
– В сорок первом ты так не думал...
– Не думать нас учили вместе с тобой.
– Я часто вспоминаю Ремарка. Помнишь, у него есть фраза: «Нас дрессировали к отваге, как цирковых коней».
– Я уже ничего не помню. Я забыл даже, как пахнут волосы моей жены.
– О-о, твоя Дорис сложена феноменально! Представляю, как ты мечтаешь о ней ночами.
– Ты просто дурачок.
– Благодарю за комплимент.
– Знаешь что,– сказал Гейнц.– Хватит нам с тобой кощунствовать. Где водка?
– Один момент. Устраивайся в этой комнате, я сейчас.
Они вошли в большую комнату со старинной резной литовской мебелью из некрашеного дерева. Низкий потолок пересекала толстая балка, грани ее были расписаны грубым орнаментом. Толстоногий стол, стулья с высокими спинками, скамьи у стен – все поражало своей суровой красотой, прочностью, чистотой.
И вот теперь хозяева этого дома должны прятаться где-то в болотах, спасая свою жизнь, а в доме топчутся чужие солдаты. За столом развалился пришелец в грязно-зеленом мундире, небрежно стряхивает на выскобленные добела доски стола пепел своей вонючей сигаретки, пробует царапать стол черными от земли ногтями, собираясь оставить на память каракули – свое имя.
Гейнц Корн и вправду сидел за столом, лениво развалясь в удобном деревянном кресле, чадил сигареткой, машинально водил ногтем по доске стола. Но думал о другом. Он то хмурился и сердито кусал сигарету, то закрывал глаза, словно от усталости, и тогда на лице его появлялось мягкое, мечтательное выражение.
Таким и застал унтер-офицера Арнульф. Он вошел в комнату, неся шестилитровый суповой термос.
– Можно подумать, что ты сейчас запоешь «О, грюне Рейн»,– сказал он.
– Иди ты знаешь куда! – огрызнулся Гейнц.– Наливай лучше.
Арнульф налил две алюминиевые кружки от фляг, быстро нарезал хлеб, открыл жестянку с паштетом.
– За фюрера? – нерешительно предложил он, усаживаясь напротив Гейнца и поднимая кружку.
– За нашу встречу,– ответил унтер.
Они выпили не закусывая, и Арнульф налил еще по кружке.
– Ты, наверно, часто вспоминаешь свой дом,– сказал он.– Я неженатый, мне легче. А у тебя роскошная жена...
– Вспоминаю ли я свой дом? – спросил Гейнц, глотая жгучую жидкость и чувствуя, что пламя охватывает его, поднимается к голове.– Вот смотри!
Он вытащил из кармана френча связку ключей на блестящем колечке и помахал ею.
– Ключи от дамского сердца? – попробовал пошутить фельдфебель.
– От моей квартиры,– хмуро бросил Гейнц.– Я ношу их с собой всю войну. Когда-то я мечтал о том, как вернусь домой, поднимусь по белой широкой лестнице на четвертый этаж, вставлю этот ключ – щелк! – и дверь откроется передо мной, как райские врата перед праведником.
– А теперь?
– Не знаю.
– Выпьем еще?
– Давай.
Теперь они пили молча. Говорить было не о чем. Когда-то вместе росли, сидели на одной парте, вместе учились у сердитого мастера Гартмана трудной профессии литейщика, но вот уже пять лет живут врозь, каждый наедине со своими мыслями.
– А помнишь, как мы купались в Рейне и как ты вытащил меня из-под бревна? – сказал Арнульф.
– Ничего я не помню, отцепись.
– А Дорис? – не умолкал фельдфебель, у которого четвертая кружка водки словно прорвала шлюзы молчания.– Ты помнишь, как за нею бегали ребята из Дейца, Мюльгейма и Дельбрюка? Я тоже был влюблен в нее, а она, видишь, выбрала тебя.
– Потому что я не был такой глистой, как ты.
– Раньше я не замечал в тебе такой злости, Гейнц. Ты же знаешь, я всегда тебя любил. Что ты ругаешься?
– Не люблю, когда распускают слюни.
– Ах, эти нервы, эти нервы!..– сочувственно проговорил фельдфебель.
– Оставь мои нервы! – закричал Гейнц.– Мне осточертело все на свете: и бесконечные отступления, и это вранье, которым нас начиняют.
– Фюрер всегда говорит только правду.
– Правду? Фюрер говорит только правду! А если бы полковник фон Штауффенберг положил свою бомбу на полметра ближе к фюреру[5] – что было бы тогда?
– Генералы-изменники захватили бы власть.
– Ага! И генералы, в свою очередь, говорили бы только правду. Что, не так? Они заключили бы договор с западными державами, а нас бы с тобой оставили биться с русскими. Завоевывать счастье и достаток для них. И ты снова собирал бы навоз – не для барона фон Кюммеля, так для графа фон Штауффенберга. Каждый старается для себя. Фюрер, министры, генералы. Так почему же мне запрещено думать о своей судьбе, искать мою правду, правду для самого себя? Почему, я тебя спрашиваю?