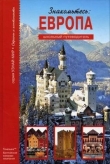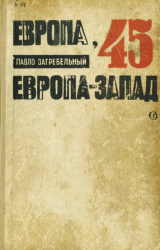
Текст книги "Европа-45. Европа-Запад"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 43 страниц)
В Пантеоне погребен величайший художник всех времен– Рафаэль. На его могиле надпись по-латыни гласит: «Здесь лежит тот, кто покорил природу своим искусством, и когда скончался он, природа умерла от печали».
Однако Михаила поразила не эта могила.
Потряс, ошеломил, обезоружил его купол строения. Он летел прямо на него, он плыл с неба, огромный и легкий, как шелковый парашют с светлым кругом неба посредине, и Скиба замер в изумлении и восторге перед этой легкостью и невесомостью, перед этим подлинным чудом искусства.
Михаил остановился на горе Пинчо и увидел виднеющийся вдали купол собора святого Петра и только тогда осознал великий замысел Микеланджело. Ибо это он, Микеланджело, придумал сделать точную копию купола Пантеона и украсить им четырехугольное мраморное сооружение хвастливого Браманте. И произошло невероятное: подражание, копия была столь же совершенна и гениальна, как гениален был образец. Это единственный случай в искусстве всего мира. Но именно благодаря этому случаю миллионы людей получили возможность любоваться куполом Пантеона не только на тесной маленькой пьяцце, где стоит Пантеон, но и с берегов Тибра, и с римских холмов, и вообще со всех дорог, ведущих к этому городу.
Их путешествие по Риму началось с центра и разворачивалось концентрическими кругами все дальше и дальше, ближе к окраинам, через узкие тибрские мосты к уцелевшим сводам терм Каракаллы, к церкви святого Петра в оковах, где в боковом крыле высилась могучая мраморная фигура Моисея Микеланджело, к памятнику Гарибальди на Гяниколо, к пышному стадиону форо Италико, перед входом в который стоял белый обелиск с надписью: «Муссолини – дукс» – «Муссолини – вождь». На каждой мраморной плите, которыми была устлана площадь перед входом на стадион, чернели глубоко выдолбленные буквы, складывающиеся в короткое ненавистное слово «дуче». Слова теснились, находили одно на другое, укладывались по четыре в одном квадрате, выписывались подобно каким-то мрачным стихам: «Дуче, дуче, дуче». Сотни черных, как смерть, слов на беломраморных плитах.
– А это тоже история? – спросил Михаил. – Это тоже музей?
– Конечно! – воскликнул подполковник. – Я уже вижу здесь толпы туристов. Вижу, как фотографируют надписи на этих плитах. Ведь это так интересно! Это – коммерция! Вы не коммерсант – вам этого не понять!
Ясное дело – ему этого не понять никогда! Достаточно с него, что он знает «эйн, цво, драй», что дышал запахом гари и трупов, что видел свою кровь и кровь своих товарищей...
Но Рим? Почему молчит и дремлет в оцепенении Рим? Почему не сбросит с себя эти кровавые тряпки, почему не разнесет в прах эти камни, запятнанные жестокостью и человеконенавистничеством? Разве не достаточно Риму того, что он обладает творениями Микеланджело, Рафаэля, Тициана, разве мало ему пожелтевшего от времени мрамора, хранящего следы Цицерона и Сенеки?
– Рим и без того велик, – заметил Михаил, как бы разговаривая сам с собой и в то же время обращаясь к подполковнику, обращаясь ко всем, ко всем... – Рим и без того велик...
На следующий день подполковник повез Михаила на аэродром Чампино. Ехали по виа Аппиа – дороге императоров и умерших, окруженной стенами и древними могилами. Рим перешагнул через свои ворота, он еще был здесь, на виа Аппиа, нажимая на узкую ленту дороги. Он неохотно расступался, давая место людям.
Аэродром лежал слева от виа Аппиа, притулившись к невысокой гряде гор, исторгнутых на поверхность земли мощной силой вулканов. Несколько самолетов притаились под самым горным кряжем. Очевидно, это были военные машины – истребители, штурмовики или же легкие бомбардировщики.
Ближе к строениям аэропорта стоял готовый к отлету американский транспортный самолет «С-54», за ним – четырехмоторная «летающая крепость» с распознавательными знаками британских военно-воздушных сил.
Михаил присоединился к группе пассажиров, которые должны были идти на посадку в «С-54». Среди них находились американские полковники с туго набитыми чемоданами, три костлявые дамы из ЮНРРА, сержанты, обвешанные медалями, какие-то ни на минуту не умолкающие штатские в черных костюмах и круглых шляпах, в накрахмаленных до скрипа рубашках, глядя на которые Михаил с доброй улыбкой вспомнил пана Дулькевича...
Где они теперь, его друзья? Пиппо будет с гарибальдийцами, потом найдет свою маму, о которой вспоминал на протяжении всей войны, начнет искать работу, как искал ее до войны, как будет искать, очевидно, всю жизнь. Франтишек Сливка со временем доберется до Праги, даже не обязательно ему ехать в Рим. Пан Дулькевич... Пан Дулькевич, несомненно, найдет поляков, тех самых поляков генерала Андерса, которые забыли о родине и шатались по белу свету, в то время как Советская Армия освобождала Польшу. Он найдет их здесь, потому что они близко, потому что они все-таки поляки. Останется ли он с ними? Или, быть может, вспомнит слово «Сталинград», под знаменем которого шел по Европе, и пойдет не к андерсовцам, а туда, где ждет его Варшава, где ждет родной дом, которого уже нет и который необходимо восстановить.
Риго? Но куда же может деться француз, раз Франция жива и вновь свободна?
Когда они расставались, Михаил шутя спросил Раймонда: «Что бы ты хотел с собой забрать с войны?» – «Автомат»,– ответил француз. «Автомат? – удивились партизаны.– Разве ты не собираешься стать священником? Зачем тебе автомат?» – «Я бы привез его домой, закопал бы в саду моего отца, – ответил Риго, – поливал бы его каждый день, приговаривая: ржавей, каналья, ржавей! »
Сержант из аэродромного обслуживания раздавал пассажирам спасательные жилеты (на случай аварии над морем) и карманные библии, не боящиеся воды. Такая предусмотрительность позабавила Михаила: начнешь тонуть – читай библию водонепроницаемую, авось спасешься!
– Вам смешно, – заметил подполковник, – а у нас это просто сервис, американский комфорт. Мы не привыкли терпеть неудобства где бы то ни было.
– Не знаю, так ли это необходимо, – сказал Михаил, – но за все то, что вы сделали для меня, я могу быть вам только благодарен.
– Э, мелочи!
– Надеюсь, мы будем друзьями?
– И я надеюсь.
Они обменялись адресами, пожали друг другу руки.
– Счастливо! – сказал подполковник.
– Спасибо,– ответил Скиба и побежал вслед за группой пассажиров, торопящихся на посадку.
Немного дальше, очевидно к английскому самолету, шла группа военных. Все как на подбор – высокие, в твердых офицерских фуражках.
Один из военных в английской офицерской униформе оглянулся. Он повернул лицо лишь на секунду, скользнув по Михаилу холодным взглядом, но этот взгляд как ножом полоснул Скибу.
Мертвенно-бледное, обескровленное лицо офицера было до боли знакомо Михаилу.
– Эй! – крикнул Скиба и побежал к англичанам. – Эй!
Он был уже совсем близко, обе группы как раз сходились: американская и английская. Они сближались, чтобы тотчас разойтись, каждая к своему самолету. Михаил знал, что сейчас увидит этого офицера и убедится – он это или ему только померещилось?
– Эй! – еще раз крикнул он, и офицер снова не выдержал и опять оглянулся.
Скиба увидел тяжелые челюсти, упрямый узкогубый рот, густые короткие брови, длинный, с широкими ноздрями нос: майор Роупер, шпион, бандит, убийца Дорис и Клифтона Честера, убийца Юджина Вернера, только каким-то чудом спасшегося от смерти!
Механически, еще не приняв никакого решения, Михаил пошарил правой рукой в кармане, крепко сжал рукоятку пистолета.
Офицер в третий раз оглянулся, дернул себя за кобуру с игрушечным браунингом, как-то по-собачьи отпрыгнул в сторону и неожиданно для всех бывших на аэродроме, неожиданно для всех, кроме Скибы, побежал, пригибаясь, прикрывая затылок ладонью левой руки.
– Стой! – закричал Михаил, выхватывая пистолет и вскидывая руку с оружием вслед Роуперу. Тот бежал, изо всех сил вымахивая своими длинными ногами, пригибаясь все ниже и ниже к земле.
Не опуская пистолета, Скиба метнулся вслед за Роупером. Дамы из ЮНРРА испуганно взвизгнули. Полковники, не решаясь оставить свои чемоданы, удивленно переводили взгляд то на Скибу, то на удиравшего англичанина. Спутники Нормана Роупера остановились и ждали, чем окончится это опасное столкновение.
Не растерялись только два американских сержанта: мгновенно бросились они к Скибе, один повис на руке, сжимавшей пистолет, а другой преградил ему дорогу и закричал:
– Ты что – с ума спятил?
Со стороны помещений аэропорта уже бежали солдаты военной полиции. Подполковник, который еще не успел уехать, тоже поспешил сюда, еще издали что-то выкрикивая Михаилу.
Через минуту вокруг Скибы собрались все, кроме Роупера, уже скрывшегося в «летающей крепости», и его спутников, которые, убедившись, что все завершилось благополучно, поторопились забраться в чрево четырехмоторного гиганта.
– Что случилось? – спросил подполковник. – Что с вами, лейтенант?
– Вам этого не понять. Это партизанские дела.
– Да, но вы хотели стрелять в офицера его величества!
– К сожалению, только хотел. Выстрелить не успел. А надо было. Это убийца. Кстати, он смертельно ранил солдата американской армии. Я вам об этом рассказывал. Куда идет тот самолет? Его нельзя задержать?
– К сожалению,– полковник развел руками. Моторы «летающей крепости» заревели почти одновременно с его словами. Самолет дрогнул и, тяжело поворачивая свое огромное тело, пополз на стартовую дорожку.
– Прикажите сержанту отпустить мою руку.
– Вам еще вздумается поднять стрельбу в самолете.
– Прикажите отпустить мою руку, – повторил Скиба.
Подполковник пожал плечами и коротко сказал что-то сержанту, державшему руку Михаила с «вальтером», потом поговорил с военными полицейскими.
– Летите, я здесь все устрою. Летите и позабудьте обо всем.
– Есть вещи, которые не забываются,– страдальчески усмехнулся Скиба.
– Уверяю вас, будет лучше, если вы попробуете забыть.
– Хорошо. У нас слишком, мало времени, чтобы договориться.
В самолете, когда они уже летели над морем, сержант сказал Скибе по-английски:
– А здорово вы напугали этого долговязого! И драпал же он!
Михаил не понял сказанного, но по выражению лица сержанта угадал, что тот сказал что-то доброжелательное, и молча улыбнулся американцу.
– О’кей! – довольно пробормотал сержант. —Америка и Россия – о’кей!
Дамы из ЮНРРА обидчиво поджали губы. Полковники угощали Скибу сигаретами, но от разговоров воздерживались. Так и летел он, как бы окутанный смутным облаком, сотканным из разнообразнейших чувств: недоумения, осуждения, скрытого одобрения и откровенно-демонстративного возмущения.
В Париж прилетели на следующее утро. Михаила, по-видимому, ждали, так как сразу перепоручили его опеке французского капитана, в распоряжении которого имелся американский «джип». Михаил пожал руку французу, взглянул на него. Каскетка, шитая золотом, френч с большими накладными карманами, выпуклые медно-желтые пуговицы, перчатки. Офицер выглядел так, будто только что сошел с картинки довоенного журнала, печатавшего фотографии бравых вояк.
Узнав, что Михаил – советский офицер, он обнял его и стал целовать прямо-таки с женской экспансивностью.
– Ах, мосье, мы, французы, как никто, знаем, чего стоят русские!
Усадив Скибу в машину, он засыпал его целым ворохом округлых, как колесики, слов. Слова катились мимо Михаила, непонятные, неизъяснимые: «ля-па-са-са, ля-па-са-сси». Нечего было и думать остановить поток этих слов хоть на миг, чтобы разобраться в их плетении, докопаться до их смысла.
Париж обнимал их отовсюду. Париж ластился, шептал призывно и горячо: «Ты в Париже, не забывай, что ты в Париже, помни, что ты в Париже!» Удивительный город, на целый этаж выше всех остальных виденных Михаилом городов; здесь буквально каждый дом непременно имел мансарду.
– Ах, мосье смотрит на мансарды? Наши мансарды – это инкубаторы гениев.
Кафе на узких и на широких улицах, вечные, как сам Париж, кафе; женщины без чулок, мужчины – без шляп. Робкие цветы весны – пучочки фиалок и тюльпаны – в руках у стройных, тоненьких девушек. Бедность и радость. Это был Париж весны сорок пятого года.
– Ах, мосье, низкий курс франка, низкий курс жизни, традиционно голодные жители Монмартра и Латинского квартала, нетопленные особняки Сен-Жермена, – вы понимаете, мосье?
Да... Если бы этот «мосье» мог разобраться в стремительном потоке этих округленных, умопомрачительно округленных слов!
– Вино по карточкам, – уже по-английски сказал француз.– Вы понимаете – вино по карточкам!!..
Этого Михаил действительно не понимал. Хлеб по карточкам– вполне естественно. Но вино? Разве это столь необходимый продукт?
– Ах, но ведь это одно и то же, поймите! Это все равно как если бы давали по карточкам воду.
– Теперь понял, – улыбнулся Михаил.
Париж потрясал количеством людей, заполнявших улицы. И не только военных, а прежде всего штатских молодых людей, юношей, небрежно одетых, с небрежной походкой, с небрежно торчащими в уголках губ сигаретами. Откуда столько сигарет в голодной на хлеб и табак Европе?
А офицер между тем не умолкал ни на минуту, словно бы сопровождая мысли Михаила, как бы комментируя их.
– Франция всегда умела сочетать новое и старое, умела одновременно увлекаться классиками и пускаться в самые что ни на есть шальные прихоти последнего крика моды. В то время как в солдатских театриках на Монмартре лихо отплясывают голые девицы, в «Комеди Франсэз» идут Корнель, Расин, Мольер. Нам от рождения присущ пиетизм к бессмертным гениям, ибо они делают бессмертным народ, а Францию – великой...
– В Париже все еще продолжаются суды. Скорые суды над коллаборационистами. Расстрелы. Кровь и смерть. Обесценивание, этакая девальвация жизни. Кое-кто спрашивает: «Неужели для этого нужно было побеждать?» Мы отвечаем: «Да, нужно». Покончить с тем, что было, навсегда. Лишив жизни десяток предателей, вернуть вкус к жизни миллионам. Вы видите, мосье, парижан? Они уже веселы, они уже беззаботны, но еще не сбросили с себя равнодушия и отупения, которые нависали над ними во все годы оккупации. Эта походка у наших мужчин, эти небрежные прически у женщин... Это трагично, мосье! Но нация обладает могучей силой. Последний парижский анекдот, мосье, разрешите?
Генерал де Голль устраивал прием. Члены правительства, военные дипломаты. У американского генерала, который тоже попал на прием, соседом по столу оказался французский академик. Если не ошибаюсь, писатель Жюль Ромен. В парадной форме, весь в золоте, роскошный и важный, как фельдмаршал. Американец долго ерзал на стуле, выпил для храбрости бокалов пять виски и только тогда решился наконец спросить француза, к каким войскам принадлежит этот удивительный мундир. «Танки?» – спросил он. Вы представляете, мосье, как этот красномордый, отупевший от виски солдафон сиплым оловянным голосом спрашивает французского академика, этого бессмертного, одним только французским словом, которое он выковырял из извилин своей слишком уж неглубокой памяти: «Танки?» Вы только вообразите себе, мосье! Вообразите и подумайте, что бы вы ответили на столь дурацкий вопрос. И спросите, что бы ответил я. И попытайтесь угадать, что ответил Жюль Ромен, или Морис Надо, или кто-либо иной из наших бессмертных – это уже не имеет значения!
Так вот, он ответил тоже одним словом. Американец спросил его: «Танки?» А бессмертный сказал: «Гении!» Вы понимаете, мосье, как это прозвучало? «Гении!» Это нужно было уметь сказать! И так сказать мог только француз...
Так и ехали они через весь Париж – один молча, вдыхая в себя величие и красоту огромного города, стараясь запомнить утреннее небо над столицей, цветочниц с фиалками, трагикомические голоса первых газетчиков, неразбериху каменных кружев архитектуры, нежные почки каштанов, ничем не отличимых от каштанов на далеких улицах родного Киева, ласковых и мощных деревьев, прекрасных и величаво-спокойных. А другой говорил и говорил, стремясь рассказать своему новому знакомому решительно все, не утаивая ничего, стараясь ничего не пропустить.
И кто будет вправе когда-нибудь утверждать, что они не поняли друг друга в то утро ранней весны тысяча девятьсот сорок пятого года?
И когда они приехали на улицу Ля Грэнель, где находилось советское посольство, им уже казалось, что они знают друг друга давно, и как-то даже страшно было расставаться у ворот и не верилось Михаилу, что стоит ему сделать один-единственный шаг – и останется за плечами Париж, Франция, вся Европа и он окажется наконец дома.
Француз переговорил со своим соотечественником, охранявшим вход в посольство, как тогда, на аэродроме, обнял Михаила, поцеловал его, вздохнул и сказал тихо:
– Счастливо вам, мосье! До новой встречи!
Михаил вошел во двор посольства. Вошел, остановился, оглянулся вокруг. Цветники, широкие дорожки, посыпанные песком. А дальше? Дальше было такое, от чего замерло и остановилось сердце...
По двору прогуливался... генерал. Самый настоящий генерал, в синих, с широкими красными лампасами, галифе, в хромовых сапогах, седовласый, с короткой шеей, обремененный годами... Не было на нем мундира, только нижняя рубашка, до боли знакомая Михаилу армейская рубашка, белая-белая, как первый снег, льняная рубашка, новая, хрустящая, какой Михаил не видел вот уже сколько лет.
Скиба замер на месте. Идти дальше не мог. Стоял бледный, весь напряженный и смотрел не отрываясь на эту родную рубашку, которая, казалось, обращалась к нему далеким голосом отцовской земли, голосом, что вовек не забывается. Генерал заметил Скибу и подошел к нему. Нужно было что-то говорить, доложить, как надлежит по армейскому уставу, говорить, не молчать... А он не мог произнести ни слова. Стоял, будто прирос к месту, смотрел прямо в глаза генералу и молчал.
– Ну? – спросил генерал.
Этого было достаточно. Это был тот толчок, которого недоставало, чтобы вывести Михаила из оцепенения. Он выпрямился, щелкнул каблуками и четко отрапортовал:
– Товарищ генерал! Лейтенант Скиба прибыл в ваше распоряжение для продолжения своей службы в Советской Армии!
– Ага, – сказал генерал, – прибыл, говоришь? А смотри мне в глаза, смотри. Откуда прибыл? И что это на тебе за одежка? Это называется прибыть для продолжения службы в армии? В таком растерзанном виде?.. Ну, пойдем.
Пошел через двор, не оглядываясь, чтоб узнать, следует ли за ним Михаил. Пожалуй, не первый это был случай.
Верно, хорошо знал генерал, что не может человек не следовать за ним, каким бы строгим он ни был и как бы сердито ни встретил.
Сердито. Но как же иначе встречать таких, как Михаил?
Скиба шел вслед за генералом и ждал, что тот сейчас заведет его в тесную штабную комнату, поставит перед собой, чтоб не шевелился, и скажет, пристально глядя в глаза:
«Обиделся, лейтенант? Черствой показалась тебе генеральская душа? Черствой, как подметка. А ты как же хотел, лейтенант? Чтоб я превратился из генерала в ангела? Чтоб у меня карманы были напиханы шоколадками и я раздавал бы их деточкам? Чтобы сбежались иностранные корреспонденты, фотографировали меня, записывали мои слова о милосердии и нежности? Чтоб я забыл войну, сбросил генеральский мундир и забавлялся с внучатами? Не могу я этого. И никто не имеет права требовать этого от меня. Слышишь? И первый ты не имеешь права. Ты с какого года в плену? С сорок первого? Выходит, ты не видел того, что видел я. Ты вообще, выходит, ничего не видел. Ни испепеленной земли нашей, ни высохших наших рук, ни могил наших. Говоришь, это упрек? Да, это и упрек тебе, если хочешь. Я не виню тебя в твоей судьбе, знаю, что и тебе было тяжко, но не жди от меня сочувственных слов и поблажек, не жди слез умиления и нежности».
Они вошли в комнату. Генерал надел свой китель с широкими золотыми погонами, круто повел плечом, строго посматривая на Михаила, но молчал. И, только застегнув последнюю пуговицу на кителе, неожиданно спросил: «Ясно вам, лейтенант?» Спросил так, будто он и вправду говорил Михаилу все то, о чем Михаил передумал за эти несколько минут. Словно между ними и не было перед этим молчания, а шел большой и полный глубокого смысла и значения разговор. Нужно было закончить этот разговор именно так, как требовала его значимость. И Михаил ответил именно тем словом, которое только что услышал от генерала: «Ясно, товарищ генерал! »
ВИЛЛА-РОТОНДА
– Но почему, почему, спрашиваю я вас! Человек, который провел двенадцать лет в добровольном изгнании, который пальцем не шевельнул против гитлеровцев, человек, получавший от Гитлера пенсию, теперь снова возвращается на тот же пост, который занимал до тридцать третьего года. Самый крупный город в Западной Германии отдают человеку, не имеющему ни малейших заслуг перед этой Германией, не сидевшему даже в тюрьме, если уж на то пошло!
– Выражайтесь точнее: не самый крупный город, а самую большую груду камней и кирпича.
– Однако под этой грудой живет не менее полумиллиона немцев, живем и мы с вами, господин Кауль.
– Не называйте меня господином Каулем, зовите просто Максом. Ведь мы почти однолетки, Вильгельм.
Тот, кого звали Вильгельмом, усмехнулся. На его худом бескровном лице усмешка казалась гримасой боли.
– Главное, что мы честные, порядочные люди, Макс,– сказал он.– А однолетки мы или нет – это уже дело второстепенной важности.
Макс сидел в низеньком кресле, почти невидимый в черном угольнике тьмы, залегшей по другую сторону комнаты. Но даже это низкое кресло не скрадывало длиннющей фигуры Макса.
Хриплый смех раздался в ответ на слова Вильгельма:
– Порядочные люди! В нашей стране порядочных можно найти только среди покойников! А все мы – дети поражения. Этим данные о нас исчерпываются.
– Да, но не все мы одинаково воспринимаем поражение, Макс. Для нас с вами это начало новой жизни. Для эсэсовцев или гестаповцев – конец ее.
– Хо-хо! А откуда вам известно, что я не эсэсовец?
– Но ведь вы говорите, что живете в этой вилле-ротонде всю войну.
– Мало ли что мне вздумается сказать!
– Да и Маргарита говорит точно так же.
– А может, она подкуплена мною?
– Кроме того, вы инвалид, слепой человек. Слепой и беспомощный.
– Ну ладно, хватит разводить сырость. Хотите, чтобы этот «слепой и беспомощный» человек повел вас в погребок к Маргарите и угостил кружкой пива?
– Охотно.
– Только перейдем на «ты». Это более по-немецки. К тому же этого требует родство наших душ. Ведь оба мы – честные и порядочные. Уверяю вас, что наш обер-бургомистр тоже считает себя честным и порядочным. За эти двенадцать лет он решительно ничем не запятнал себя.
– Но и ничего не сделал.
– А что ему было делать? Лезть на стенку?.
– Тысячи немцев боролись.
– Честь им и хвала.
– А он скрывался да еще получал пенсию от Гитлера
– Раз дают – бери!
– Не будь циником, Макс. Я говорю сейчас от имени всех повешенных, расстрелянных, сожженных, замученных голодом, истерзанных пытками и побоями. Я вернулся в свой город из концлагеря живым, случайно уцелевшим, вернулся, чтобы увидеть справедливость, а вместо этого первое, с чем я столкнулся, была возмутительная, неслыханная несправедливость. Почему американцы не назначили бургомистром пускай не коммуниста, пускай не того, кто подымал народ против гитлеризма, но хотя бы кого-нибудь из тех, кто участвовал в генеральском бунте против бешеного фюрера, из тех, кого гестаповцы не успели повесить, из тех хотя бы, кто обладает хоть какими-нибудь заслугами перед Германией?! Я бы ничуть не удивился, если б американцы привезли бургомистра в своем обозе, выбрав его из числа тех наших людей, которые эмигрировали, чтобы бороться против нацистов из-за рубежа. Но поступить так...
– Успокойся, Вильгельм,– приближаясь к нему, сказал Макс.– Тебе еще придется не раз и не два возмущаться и недоумевать. Прибереги свой пыл для будущего. Уверяю тебя, что дело с бургомистром – самое невинное из тех дел, с которыми тебе еще предстоит соприкасаться в родном городе. А пока что – пойдем к Маргарите. У нее, конечно, не пиво, а эрзац, но где ты нынче найдешь настоящее довоенное пиво? Вот тебе веское доказательство для оправдания американцев: даже кружки хорошего пива и то не достанешь теперь в Германии, что ж говорить о хорошем бургомистре!
Вильгельм поднялся со стула. Он был среднего роста, но рядом с высоченным Максом казался низеньким – этому способствовала его невероятнейшая худоба. Он был настолько тощ, что весь словно светился: казалось, что даже его тень и та просвечивает.
Макс не видел ни тени Вильгельма, ни того, насколько он худ. Макс был слеп, слеп уже двадцать, а то и все двадцать пять лет. Почти половину своей жизни. И уже давно научился заменять зрение осязанием, инстинктом.
– Пошли,– грубовато сказал он.– Не выношу длинных разговоров при сухой глотке. Идем, я собираюсь выключить свет. А включить его ни одна живая душа, кроме меня, не сможет. Об этом я позаботился. Все замаскировано и засекречено в моей вилле.
Они вышли из дому. Внешне дом был таким же круглым, как та комната, из которой они только что вышли. Даже в обычном городе, городе с тысячью целых прекрасных домов, это сооружение выглядело бы странным, выделяясь необычной своей формой,– что ж было говорить теперь, когда вокруг, насколько мог охватить глаз, лежали развалины. Только груды битого кирпича, наваленного беспорядочно, только хаос камней, воронки от бомб, дикие, никем не посаженные густо разросшиеся кусты, и среди этого хаоса – одинокая вилла-ротонда.
– Я часто мечтал о том, чтобы дожить до освобождения и увидеть конец войны,– сказал Вильгельм.– Но никогда не мог даже и предположить, что буду жить столь странно. Люди без адреса, дом без номера, улица без названия. Вилла-ротонда. Как ты очутился здесь, Макс? Купил ее еще до войны или сам построил?
– Ты мог не приходить сюда,– уклончиво сказал Макс.– Мог выбрать себе какой-нибудь уютный подвальчик, а не то – поселиться в одной из тех висячих комнат, которые уцелели на стенах разрушенных или сожженных домов. Жить в них весьма удобно. Сплетаешь себе веревочную лесенку, на ночь влезаешь, поднимаешь за собой лесенку– и спишь спокойно. Никто до тебя не доберется, да, собственно, никто и не догадается, что ты там находишься. Единственная опасность – это если стена рухнет. Такие случаи в Кельне нередки. Это лишний раз доказывает, что в жизни ничто не вечно. А проще всего – попытайся отыскать свою семью.
– Я ведь тебе говорил – семьи у меня нет. У таких, как я, не может быть ни жены, ни детей. Если б они когда– нибудь и были, то их бы замучили в каком-нибудь концлагере – только и всего. А если б даже и не забрали в концлагерь, то сыновей послали бы на фронт, где они нашли бы свою смерть, а жена умерла бы от горя, от голода и от преследований гестапо. Семьи нынче существуют, по-моему, исключительно в романах.
– А у нашего обер-бургомистра семеро детей – и все живы и здоровы. На фронте только двое, и то их забрали недавно, и они уже, наверное, в плену у американцев. Как видишь, наш обер-бургомистр – образцовый папаша, подлинный патриарх. Только таким людям и следует доверять управление городами и государствами.
– Пожалуй, самая большая трагедия человечества в том, что глубокие старики дорвались до управления миром и творят одну бессмыслицу за другой.
– Разве Гитлер был старик?
– Зато Гинденбурга, давшего Гитлеру власть, юношей не назовешь!
Пробираясь через сплошные завалы, спотыкаясь на каждом шагу, теряя друг друга во тьме и неизвестности, они наконец очутились на небольшой площадке, расчищенной от развалин. С одной стороны к ней примыкало несколько полуразрушенных, но все же пригодных для жилья домов, с другой – высился небольшой костел.
– Американцы, по-моему, протестанты, а вот католическую церковь не разбомбили,– хмыкнул Вильгельм.
– Среди них попадаются и католики,– возразил Макс,– Эта война показала, что нет ничего: ни веры, ни идей. Какая разница, верит человек в царство небесное, в полигамию или во всеобщее равенство и братство? Все сводится к одному: либо тебя убьют, либо тебя не убьют.
– Человек живет только для того, чтобы бороться за какую-нибудь определенную идею,– сказал Вильгельм.
– Я научился не верить идеям,– сердито произнес слепой.– Если хочешь прожить спокойно, незачем забивать себе голову всяческими идеями. Достаточно капельки веры в самого себя, в свои силы, веры, сохраненной в тех потаенных извилинах души, до каких не добраться никакой власти.
– Ты так говоришь потому, что привык жить в одиночестве,– заметил Вильгельм.– Несчастье сделало тебя одиноким, нелюдимым. Вот ты и решил, что так должны жить все. Но людей неизменно влечет друг к другу. И они всегда борются. Одни – за справедливость, другие – против нее...
– А наш обер-бургомистр? Разве он не сидел в одиночестве?
– Выходит, что нет. Нашлись, значит, какие-то силы, с которыми он был связан. Он ничего не делал для Германии, но, вероятно, что-то делал для этих сил либо,– как они, возможно, надеются,– сможет для них сделать. Потому его и выдвинули. Политические расчеты всегда сложнее, чем это кажется на первый взгляд.
Пивная помещалась вблизи от костела, в глубоком подвале разрушенного дома. Туда вели скользкие ступени. Тесное помещение, освещенное двумя электролампами, выглядело довольно странно. Наличие электричества в этом умершем городе, несколько квадратных столиков, покрытых клеенками, несколько постоянных посетителей, склонившихся над высокими глиняными кружками с темной пенистой бурдой, именуемой пивом, и хозяйка. Она передвигалась среди столиков легко и бесшумно, разнося – по крайней мере такое было впечатление – не пиво в тяжелых кружках, а свою полногубую улыбку, яркую и сочную, как цветок.
Хозяйка, в пестрой фалдистой юбке и белой блузке, темноволосая, полногрудая, выглядела свежей и необычайно привлекательной.
– Вечер добрый, Маргарита! – крикнул еще с лестницы Макс.
– Добрый вечер, Макс.
– Я опять привёл своего нового товарища.
– Очень рада. Пожалуйста, входите.
– А у тебя пиво снова из гнилых яблок?
– Ты все такой же, Макс.
– А чего мне меняться? Вот тебе не мешало б изменить свое имя. Слишком уж оно банальное.
Слепой – он чувствовал все удивительно тонко и точно. Когда Маргарита принесла им две кружки с пивом, поставила их на столик и уже шагнула в сторону, чтобы вернуться в свой угол, он неожиданно схватил ее за руку, схватил безошибочным движением, сильно и в то же время нежно погладил ее пальцы и сразу же выпустил.
– Ты ведь знаешь, Маргарита, как я люблю твои руки,– пробормотал он и взялся за пиво.
Выпил быстро, совсем не на немецкий лад, не смакуя, не произнося тостов и не восклицая «прозит», как это делали, за соседними столиками, как делали во всех пивных всей Германии все немцы на протяжении столетий.