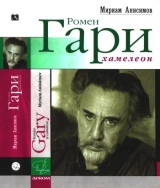
Текст книги "Ромен Гари, хамелеон"
Автор книги: Мириам Анисимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 51 страниц)
В 1965 году дом в Пуэрто-Андре, спроектированный Педро Оцупом для Ромена Гари, был достроен. Приобретенный участок земли у моря был очень мал – всего четверть гектара. Педро предложил ему занять весь участок просторной средиземноморской виллой с внутренним двориком. Большое впечатление на Оцупа произвела ранимость Гари, и он хотел построить для него дом, в котором тот чувствовал бы себя в безопасности.
В начале работы, когда Оцупу требовалось выполнить планировку дома, архитектор жил прямо в палатке на участке, «чтобы услышать, что скажет земля»{564}. Наиболее удобное место было отведено под спальню. Надо сказать, что этому дому была суждена мрачная судьба: жена человека, которому Ромен Гари его продал через несколько лет, покончила с собой; следующая обитательница дома тоже решила распрощаться с жизнью; наконец, владелец номер четыре умер от сердечного приступа вскоре после покупки.
Внутренний дворик Педро Оцуп засадил пышной растительностью: здесь были цветы, кустарник, кактусы, сосны и оливковые деревья. Гари, скучая по Рокбрюну, просил возвести поближе к морю башню. В планы архитектора это не входило: на Майорке у обычных домов таких излишеств не предусматривалось. Тем не менее он выстроил для друга круглую трехэтажную башню, из окон которой можно было любоваться закатом над морем; в ней он разместил спальню Гари, ванную комнату и кабинет. Огромная ванная занимала весь первый этаж, ее окно выходило на сад и на море, а внутри повсюду были расставлены кадки с растениями.
Чтобы попасть в Симаррон[82]82
Испанцы так называют дикую лошадь.
[Закрыть] – такое название получил этот дом, – нужно было пройти через кованые ворота и подняться на широкое крыльцо. Каждое крыло представляло собой галерею, симметричную галерее второго крыла. Помимо апартаментов Ромена, в доме имелись большая гостиная, три просторные комнаты для гостей, каждая со шкафом и отдельной ванной, кухня, прачечная, гараж, подсобные помещения и бесконечные коридоры. По всей длине дома со стороны моря шла большая крытая галерея, которая местами открывалась; здесь стоял длинный деревянный стол, за которым ели; далее располагались терраса и бассейн с видом на бухту Пуэрто-Андре. Затем еще одна комната, почти таких же размеров, что и столовая, с гостиной и ванной. Даже в комнате для прислуги имелась своя ванная и было оборудовано место для плиты. Мебели почти не было. По всему периметру дома для любителей солнца были предусмотрены террасы. Поистине Симаррон мог бы стоять посреди Беверли-Хиллз и принадлежать какому-нибудь актеру, предпочитающему неомексиканский стиль.
Ромен Гари посоветовал Питеру Устинову приобрести небольшой дом с бассейном в окрестностях Пуэрто-Андре, и тот в конце концов купил его. Устинов был восхищен местными красотами, даже несмотря на надоедливость комаров. «Мы разговаривали о чрезвычайно интересных вещах, поминутно хлопая на себе этих тварей!»{565}
Гари очень любил этот дом и проводил здесь за работой по нескольку месяцев в году. Часто он приглашал сюда друзей, в распоряжение которых предоставлял пустые комнаты и еду, приготовленную Евгенией, но сам почти не обращал внимания на их присутствие. Лишь иногда он соглашался разделить с ними трапезу. Одиночество Ромена останавливало всех, кто хотел бы с ним сблизиться. Педро Оцуп, например, очень его любил, но находил ужасно скучным. На каком-нибудь приеме, устроенном в Пуэрто-Андре, в то время как Режин Креспен или Питер Устинов там проводили время, гости пытались подойти с разговорами именно к ним, но Гари, мрачно смерив их взглядом, вдруг уходил без всяких объяснений.
Как и в Париже, большую часть светлого времени суток он проводил за письменным столом и только ранним утром спускался по окружавшим дом скалам к морю, наступая по пути не на одного морского ежа, нырял и уплывал вдаль. Питер Устинов довольно часто видел, прогуливаясь утром на палубе своей яхты «Ничего», как Гари, обнаженный по пояс и с безупречно подстриженными усами, удалялся в море на байдарке. Поравнявшись с яхтой Устинова, Гари кричал в знак приветствия: Que tal?[83]83
«Как дела?»
[Закрыть]
Потом Гари спускался через Ла-Молу в порт, усаживался на террасе кафе «Белла Виста» и раскрывал газету. Ел он обычно один, то, что готовила Евгения; потом запирался в своей крепости с секретаршей, которая всё лето там и жила.
Первое время Гари жил в Пуэрто-Андре с Джин, Евгенией и Диего, которому разрешалось приглашать на каникулы друзей.
Позднее, после развода, Джин ненадолго приезжала сюда повидать сына, которого любила, но с которым так и не научилась жить. Однажды она собралась отвезти Диего и еще нескольких ребят постарше поиграть в мини-гольф. Уже на пороге она вдруг заявила, что ей надо заправиться и она вернется через несколько минут. Дети проводили лимузин Джин взглядом, но так и не дождались ее обратно. На заправочной станции Джин познакомилась с каким-то мужчиной, и потом о ней не было слышно целую неделю.
67Однажды летом яхта «Ничего» бросила якорь в Пуэрто-Андре прямо перед рестораном «Мирамар»: дочь Питера Устинова Павла хотела повидать подругу, которая как раз отдыхала в Пуэрто-Андре. В то время у Питера еще не было виллы на острове, и каникулы они проводили, курсируя на яхте между Миноркой и Майоркой.
Как-то утром, стоя у руля на палубе, Павла услышала, что по капитанскому мостику кто-то ходит, но даже не подняла головы – у нее был переходный возраст, она всех ненавидела, и здороваться с незнакомцами ей не хотелось, хотя носить на палубе обувь было запрещено капитаном. Вдруг прямо к ногам Павлы упало несколько кусков кокосового ореха. Она не знала, кто там хулиганит, но ей понравилось, что этот кто-то ведет себя так вызывающе, не желая подчиняться установленным правилам. Она знала, что отец, который всё это время валялся в шезлонге у нее за спиной, будет возмущен, и это заранее ее забавляло. Но ни Устинов, ни капитан не стали даже делать замечания Ромену Гари – а этим невоспитанным посетителем был именно он. Из-за диафрагмальной грыжи Гари нельзя было есть кокосов, но, будучи не в силах от них отказаться, он придумал жевать их, а потом выплевывать. Уже уходя, Гари вдруг вернулся назад, подошел к Павле и сказал: «Я приготовлю яблочный пирог и завтра в это же время тебе его принесу. Ты любишь яблочный пирог?»
На следующий день Павла ждала его на палубе, и действительно, точно в назначенный час она увидела, как прямо перед нею тормозит красный спортивный «Фольксваген». Из машины вышел Гари и стал ждать. Пока он открывал багажник, Павла была уже на берегу. «Угощайся на здоровье, я испек его специально для тебя». Павла не стала есть этот большой квадратный пирог, а когда ложилась спать, положила его рядом с собой на кровать. Через неделю пирог совершенно испортился, и капитану пришлось его выбросить. Теперь каждое утро Ромен Гари перед работой навещал Павлу на своем настолько огромном мотоцикле «Харлей-Дэвидсон», что не мог его завести без посторонней помощи.
Когда лето кончилось и пришла пора расставаться, Гари дал Павле свой адрес в Париже. Она писала ему из Швейцарии, где училась в элитном пансионе, а он ей отвечал. Она рассказывала, что ее мать пьет, Ромен в ответ делился огорчениями, которые приносила ему пьющая Джин. Его письма трогали Павлу до слез: «Не забывай, солнышко, что родители очень устают и нервы у них на пределе». Она обращалась к нему на «вы», но он просил говорить ему «ты».
На следующий год Питер Устинов купил по совету Ромена Гари дом и теперь неизменно приезжал отдыхать в Пуэрто-Андре. Ромен очень часто официально приглашал Павлу на ужин, будто бы она была взрослой женщиной. Стоило ей чуть опоздать, он злился. «Хорошо, что ты пришла, я специально для тебя покрасил бороду», – говорил иногда он. После ужина Гари отвозил Павлу домой. На прощание она целовала его в обе щеки. Когда ей исполнилось шестнадцать, Гари вместо обычного поцелуя приказал ей: «Уходи отсюда. Я для тебя слишком стар».
Иногда и сам Питер Устинов ужинал в «Мирамаре» вместе с Джин и Роменом (в то время они уже не жили вместе). Однажды на такой ужин была приглашена и Павла. Когда надо было расплачиваться, счет взял Устинов, а Джин, у которой на спинке стула висел пиджак Гари, тем временем поменялась местами с Павлой и накинула пиджак ей на плечи, шепнув: «Держи». Вставая, Гари не сразу его нашел, а найдя, понял, в чем дело. Джин сказала ему о Павле: «Она тебя любит. Позволь ей войти в твою жизнь, несмотря на то что ты старше».
С того самого дня, как они познакомились, Павла не могла думать ни о ком, кроме Гари. Евгения, верившая в сверхъестественное, сказала, что в сердце каждой женщины на всю жизнь остается только один мужчина; для Павлы им был именно Ромен.
Ромен самым серьезным образом раздумывал, не попросить ли у Питера Устинова разрешения на то, чтобы Павла какое-то время пожила у него. Но представив, какие сложности вызовет подобное предприятие, отказался от этой затеи.
Как-то раз Гари рассказывал Павле со слезами на глазах, что, когда ей было всего полгода, ее родители – в то время Устиновы жили в Лондоне – позвали его посмотреть на младенца: «Приходи, мы познакомим тебя с нашей девочкой». Маленькая Павла сразу ухватилась ручонками за шею Гари и ни за что не хотела его отпускать.
Когда Павле исполнилось семнадцать, она переехала в Женеву, чтобы учиться в школе для детей дипломатических работников. Для нее сняли комнату в монастырском пансионе; порядки здесь были самые строгие. В это же время Гари с помощью своей подруги Сюзанны Салмановиц, часто принимавшей его в своем шикарном имении в Версуа, удалось подыскать себе квартиру в доме пятидесятых годов на улице Муайбо, в двух шагах от отеля «Интерконтиненталь».
Адвокат Гари – Шарль-Андре Жюно получил вид на жительство в Швейцарии и принял гражданство этой страны, поскольку ему необходимо было находиться там несколько месяцев в году. Он работал в Женеве.
Гари отправил Павле письмо, в котором сообщал свой женевский адрес и время грядущей встречи – десять часов вечера; к письму был приложен ключ от квартиры. Гари нашел предлог, чтобы заведующая выдала ей особое разрешение покинуть пансион в такой час. Поздно вечером Павла была в шикарном квартале на краю города, где располагается штаб-квартира ООН. Она открыла дверь и обошла квартиру: гостиную, кухню, спальню с красными простынями на кровати, ванную. Наконец Павла уселась на стуле и в отчаянии начала считать минуты, ловя малейший шорох, доносившийся из коридора. Ждать ей пришлось долго. Дверь вдруг открылась, и вошел Гари, весь в черной коже и сигарой во рту. Он уселся за письменный стол, чтобы составить очередное завещание. В полночь Гари попросил Павлу пересесть поближе к двери и послушать, что он скажет. Он дал ей ключ от своей квартиры для того, чтобы ей было где работать – у Павлы были способности к живописи. Он объяснил Павле, что она должна гулять с мальчиками своего возраста, и приказал ей найти себе кавалера. Она же боготворила Гари и была убеждена, что дети способны на более сильную любовь, чем взрослые, и он должен стать ее единственным мужчиной. Каждый раз, когда он шел купаться, она боялась, что он простудится.
Впрочем, Ромена она послушалась – нашла себе молодого человека. Потом, когда они с Гари встретились через три месяца в Париже, она показала фотографию своего бойфренда. Гари заметил, что парень похож на него. Так оно и было.
Следующим летом, когда Павла отдыхала в Пальма-де-Майорка, она пыталась наложить на себя руки, проглотив кучу таблеток аспирина и снотворного и запив всё это литром вина. Случайный прохожий нашел ее лежащей под кустом без сознания. Павлу удалось привести в сознание, и она прошептала, что не поедет в больницу без Ромена Гари. В четыре часа утра ее привезли на виллу Симаррон. Гари сел за руль своей «Вольво» и поехал в больницу – так медленно, что Павла десять раз могла умереть в пути. В больнице ей было сделано промывание желудка. Несколько дней Гари не показывался Павле на глаза. Но однажды утром он вошел к ней в палату всё с той же сигарой во рту и прочитал лекцию на тему: «Не смей больше делать таких глупостей! Человек не имеет права лишать себя жизни».
Зимой в Париже они вновь начали встречаться по выходным: ужинали в ресторане «Липп», и Гари всякий раз появлялся в черном. «Знаешь, у меня репутация ужасного бабника», – сознался он ей однажды. «Ну и что?» – пожала плечами Павла. Тем не менее Гари ни разу не позволил себе лишнего.
В восемнадцать лет Павла переехала в Лондон учиться театральному искусству, а параллельно лечилась у Сержа Лейбовича, знаменитого парижского психиатра, с которым уже встречалась в одиннадцать лет, когда отказывалась есть. «Что с вами на этот раз?» – спросил Лейбовичи. – «Отец хочет, чтобы я ходила к вам на лечение, потому что люблю Ромена Гари». – «И прекрасно. Это отличный выбор».
Каждую неделю Питер Устинов оплачивал поездку дочери в Париж и обратно. На визит к Лейбовичу уходило десять минут в выходные, а оставшееся время Павла проводила у Ромена Гари, но самым благопристойным образом. Они ужинали в ресторане «Липп», потом возвращались на рю дю Бак по бульвару Сен-Жермен. Квартира была погружена в темноту и тишину. Они устраивались в гостиной. Гари шепотом просил: «Останься…» Они часами сидели друг напротив друга, не произнося ни слова. Потом каждый уходил к себе в комнату.
Чтобы походить на Мину Овчинскую, Павла купила духи с ароматом ландыша и постоянно преподносила Гари малосольные огурцы. Так продолжалось два года. Потом Павла стала встречаться с Гари только раз в год, так как жила в Америке. Теперь уже она отвечала на его письма.
В год, когда Павле должно было исполниться двадцать три, Гари после обычной ежегодной встречи в ресторане отвел ее к себе, а сам вышел вызвать такси. Его не было не больше минуты, а вернувшись, он сказал: «Я не стал вызывать такси… я хочу, чтобы ты осталась». После стольких лет ожидания Павла наконец успокоилась; она долго ничего не отвечала, глядя, как он нервно ходит взад-вперед по комнате в своем строгом сером костюме, который надевал только по особым случаям.
Наконец Гари прервал молчание. «Если не хочешь оставаться, я сейчас вызову такси». – «Нет, я просто думаю… Почему сегодня, почему не позавчера, почему не завтра?» – «Потому что тебе было еще слишком мало лет…» – «В прошлом или позапрошлом году мне уже не было слишком мало лет…»
Гари сделал вид, что направляется в спальню, и спросил: «Ты идешь?» Она смотрела ему вслед. Потом поднялась, а дойдя до двери спальни, оглянулась: ведь еще минуту назад она сидела на противоположном конце гостиной. Наконец она вошла в эту неизвестную ей комнату.
На следующее утро Гари попросил Павлу подарить ему несколько своих больших фотографий. Он повесил их на стене в гостиной. На обороте одного из снимков рукой Павлы подписано: «Как выразить словами то, что я ощутила в объятиях своей единственной любви?»
Они вызвали такси. Гари отвез Павлу домой к матери, а сам отправился в бассейн. Прощаясь, он пообещал ей: «Мы поедем в Польшу. Я хочу поехать с тобой в Польшу». И ни в какую Польшу, конечно же, не поехал.
68Talent Scout, первая часть «Американской комедии», вышла во Франции под названием «Пожиратели звезд» через пять лет после успешной публикации в США Роман сочли увлекательным, но творчество Гари по-прежнему не воспринимали как «серьезную литературу». Критики еще не забыли книгу «За Сганареля» и не преминули заметить, что если представители «нового романа» прибегали к языковым трюкам, то Гари ими и вовсе злоупотреблял. Ему ставили в упрек непродуманность композиции и бесчисленные повторы, хотя признавали за ним достоинства тонкого юмориста, виртуозного стилиста, доброго рассказчика. Никто не обратил внимание, что прототипом наивной американской невесты диктатора Хосе Альмайо стала Джин Сиберг.
Эту книгу тоже почти никто не хотел покупать.
В марте 1966 года Гари вместе с Джин посетил Польшу, где его книги печатались в переводах и пользовались большой популярностью. Французский культурный центр Варшавского университета пригласил его выступить с лекцией о «современном состоянии романа». В Варшаве они пробыли две недели. Гари уже не узнавал улиц, по которым ходил с матерью, когда ему было тринадцать лет, перед тем как уехать во Францию. Мало что осталось после войны от домов, спроектированных итальянскими архитекторами. Немного разобрав развалины, на их месте возвели уродливые панельные коробки, не потрудившись даже довести строительство до конца, так что провалы в них зияли пучками проводов и канализационными трубами, а из щелей сыпался цемент.
Когда Гари блуждал в окружении призраков прошлого в этом царстве разрухи, у него вдруг возникло ощущение, что это не он идет по улице, а его двойник, что он видит себя со стороны. Он назовет этого двойника, этого альтер эго из других времен сначала Мойше Кон, а потом – Чингиз Кон; этот персонаж станет главным героем романа «Пляска Чингиз-Хаима» (в оригинале – «Пляска Чингиз-Кона»), Варшавское гетто поджигали, бомбили и в итоге стерли с лица земли: теперь на этом месте был пустырь. Гари/Чингиз, рисуя в воображении своего двойника, идущего по этим улицам до Холокоста, брел по современной Варшаве, которая заменила город прошлого, чье изображение, впрочем, всегда оставалась с ним, так что он мог в любой момент развернуть его, как веер. Его мысли были с истребленными евреями. Гари видел их – не как воспоминания, а как живых людей, такими, какими они были в годы его детства; он знал, что призван стать хранителем прошлого. Он был последним лоскутом погибшего Идишленда. Часть его умерла в Варшаве, и он до самой смерти будет возвращаться сюда. Он не хотел полностью избавляться от воспоминаний.
Открыв эту свою сторону, о существовании которой он раньше и не подозревал, Гари создал Чингиз-Кона, о котором по примеру классика скажет «Чингиз Кон – это я»{566}.
Из пятисот тысяч евреев, которые были арестованы в Варшаве и депортированы в запломбированных товарных вагонах в Треблинку или Освенцим, выжили лишь несколько сот человек. Те из них, кто вернулся в этот город праха, скрывали свою национальность, потому что при Владиславе Гомулке антисемитская кампания шла полным ходом.
Гари ни в письмах, ни в своих произведениях не упоминает, что в июне 1946 года, будучи сотрудником посольства Франции в Болгарии, он побывал в разрушенной Варшаве, но говорит о том, как его взволновало путешествие в отстроенный заново город.
По возвращении Гари на неделю отправился в Ниццу, где жил в гостинице «Атлантик», принадлежавшей его другу Роже Ажиду, и сообщил Клоду Галлимару о новой книге, которая должна стать первой частью трилогии «Брат Океан». Он колебался в выборе между несколькими названиями: «Пляска Чингиз-Хаима», «Кадиш за нимфоманку», «Кадиш за принцессу легенд», «Кадиш за еврейского клоуна». В итоге Гари остановился на «Пляске Чингиз-Хаима», возможно, памятуя известные слова Анны Ахматовой: «Я – Чингиска»{567}.
В интервью, которое Ромен Гари дал по случаю выхода «Пляски Чингиз-Хаима»{568}, он несколько раз упоминает о своей последней поездке в Варшаву, утверждая, что именно она вдохновила его на написание этого романа. Вот что он поведал Константы Анджею Еленски из журнала «Ливр де Франс»{569}:
После этой поездки я очень изменился. В Варшаве я посетил музей Сопротивления. Конечно, я всё знал об уничтожении шести миллионов евреев, я читал об этом в книгах, видел документальные свидетельства. Но хоть я и часто говорил о своем еврействе, в глубине души я не чувствовал себя евреем, несмотря на всё мое почтение к памяти мамы. А здесь, перед стендом, посвященным восстанию в гетто, вдруг грохнулся в обморок и двадцать минут не мог очнуться. Наверное, раньше я просто не понимал, какой тяжестью лежит у меня на сердце отсутствие в городе моего детства столь значимой, столь весомой его части: евреев.
Клодин Жарден из «Фигаро»{570}, сильно преувеличивая, Гари поведал, что в Варшаве его силой затащили в музей истории еврейского народа, после чего он якобы двое суток приходил в себя в больнице.
«Евреи определяли образ Варшавы. Их можно было видеть повсюду. Их теперешнее отсутствие бьет в глаза. Я работал как одержимый и набросал план той книжки за две недели».
На последних страницах «Пляски Чингиз-Хаима» Гари описывает состояние шока, которое он сам испытал на улицах бывшего гетто, сливаясь со своим героем:
– Кто этот господин, Флориан? Тот, что лежит на улице посреди толпы и улыбается с закрытыми глазами?
– Это не господин, милая. Это писатель.
<…>
– Посмотри, Флориан, за нами кто-то идет.
– Вижу, вижу. Всё такой же! Рад, что ему в очередной раз удалось спастись. Я бы с удовольствием встал, подошел к нему, помог, но никак не могу прийти в себя. Не знаю, сколько времени я уже лежу у этого памятника, посреди площади, где когда-то было гетто, в котором он родился.
– Я слышу голоса, кто-то берет меня за руку, конечно, это моя жена, у нее руки как у ребенка.
– Расступитесь, ту нечем дышать…
– Наверняка что-то с сердцем…
– Ну вот, он приходит в себя, улыбается… Сейчас откроет глаза…
– Может, у него убили кого-то из семьи, кто жил в гетто.
– Мадам, ваш муж…? Он…?
– Я умоляла его не ехать…
– У него были родственники в гетто, которые погибли?
– Да.
– Кто именно?
– Все.
– Как это все?
– Мама, кто этот дядя, которому плохо?
– Это не дядя, милая, это писатель…
– Расступитесь, пожалуйста…
– Мадам, как вы полагаете, напишет ли он теперь книгу о…
– Please, Romain, for Christ’s sake, don’t say things like that.
– Он что-то шепчет…
– Kurwa mac!
– Romain, please!
– Мы не знали, что ваш муж владеет языком Мицкевича…
– Он учился на филологическом факультете как раз здесь, в гетто.
– Ах вот как! Мы и не знали, что он еврей…
– Он тоже не знал.
В этой жестокой притче слились две легенды. Одна принадлежит еврейской традиции – это диббук, дух умершего, вселившийся в живого человека; вторая бытовала в России – история царевны-красавицы, которая подвергает своих женихов испытаниям, а тому, кто с ними не справился, велит отрубить голову. Кроме того, на Ромена Гари произвела впечатление аллегорическая картина, изображенная на немецком гобелене, который он видел ребенком у своего дяди Бориса в Варшаве: Человечество в облике прекрасной дамы, рядом с которой бредет Смерть. «Преклонив колено, юноша подал свою отрубленную голову нашей вечно взыскующей и ничем не довольной госпоже»{571}, – пишет Гари в предисловии ко второму изданию «Пляски Чингиз-Хаима», которому так и не суждено будет лечь на прилавки: не был распродан первый тираж.
Этот роман повествует о жизни актера еврейского кабаре Die Schwarze Schikse[84]84
Schikse (идиш) – красивая девушка-нееврейка.
[Закрыть] Мойше Кона, убитого Шацем, эсэсовцем из мобильной группы уничтожения, который перед расстрелом заставлял евреев самих рыть себе могилу. Целясь в одного из несчастных, Шац остолбенел, увидев, как тот снимает штаны и поворачивает к нему голый зад. За несколько минут до смерти Кон просил своего соседа определить, что такое культура, и получил такой ответ: «Культура – это когда женщину с младенцем на руках не заставляют рыть свою собственную могилу».
После войны этот на вид «исправившийся» гитлеровец, преследуемый воспоминаниями о том, как он участвовал в геноциде, становится комиссаром полиции в тихом немецком городке. Душа Кона овладевает его умом и постепенно доводит до сумасшествия. У Шаца начинаются видения, его устами говорит диббук, который не упускает случая напомнить ему о прошлом. Нередко Шац отвечает ему на идиш. Пытаясь избавиться от призрака, он лечится у психиатров и даже думает о самоубийстве.
В то же время комиссар Шац ведет расследование серии загадочных убийств в лесу Гейст[85]85
Das Geist (нем.) – дух.
[Закрыть]. Вся книга представляет собой длинную метафору: Германия как прекрасная знатная дама, утонченная, образованная, в поиске блаженства всякий раз избирает себе крупного самца, который доставит ей наслаждение. Этот темный образ распространяется затем на всю историю человечества, жаждущую, чтобы ею овладели, чтобы в ней зародилась новая жизнь.
В 1967 году, когда вышла «Пляска Чингиз-Хаима», мало кто говорил о Холокосте и уж точно никто не говорил о нем так, как Гари. Во Франции эти события начали обсуждаться с 1985 года, когда Клод Ланцман впервые употребил слово «Шоа», а в шестидесятых их еще не было во французской культуре, в памяти французского народа. Ромен Гари наряду с Эли Визелем, Ханной Лангфус, Петром Равичем и Андре Шварц-Бартом стал одним из первых, кто ввел тему Холокоста во французскую литературу. Но его книги не взывали к жалости и состраданию. Это был яростный, безумный крик ненависти, циничная и смешная сатира, вызывающая сардонический хохот.
Есть мертвые, которые никогда не умирают. Скажу даже так: их убивают, а они оживают. Взгляните, например, на Германию. Сейчас вся эта страна заселена евреями. Разумеется, их нельзя увидеть, они нематериальны, но… как бы это лучше сказать… их присутствие легко ощутить. Забавно, но это так: идя по улицам любого города Германии, как и Варшавы, Лодзи, других городов, вы чувствуете еврейский дух. Да, эти улицы полны евреев, которых здесь нет. Такое ощущение, что настал Судный день. Кстати, в идиш есть такое выражение, пришедшее из римского права: мертвый судит живого. Точно сказано. Не хочу огорчать немцев, но Германия полностью находится во власти евреев.
Во Франции этот роман остался непонятым и не известным широкой публике. Но год спустя «Пляска Чингиз-Хаима» выйдет в США в переводе самого автора и будет иметь там большой успех. На обложке американского издания книги была помещена аннотация Андре Мальро, в которой говорилось, что это «один из редких в наше время вкладов в серьезную юмористическую литературу». В номере «Франс-Суар» от 8 июля 1967 года была помещена фотография рабочего кабинета Шарля де Голля в Елисейском дворце, где на письменном столе лежал томик «Пляски Чингиз-Хаима». Тем не менее некоторые французские критики сочли вульгарным, пошлым, неуместным делать из этой трагедии фарс, тем более в столь провокационном и скандальном тоне. В полном горечи черном юморе Гари им виделась профанация памяти Освенцима.
Но ведь сцены, описанные им, были повседневным явлением в Польше времен Второй мировой и в концлагерях.
Вот что диббук Чингиз Кон рассказывает о своем убийстве эсэсовцем Шацем:
Я знаю, что он регулярно ходит к психиатру, чтобы избавиться от меня Он воображает, что я ничего не понимаю. Чтобы его наказать, я придумал одну милую штучку: прокручиваю ему запись тех событий. Вместо того чтобы спокойно сидеть у него внутри со своей желтой звездой и гипсовой маской вместо лица, я поднимаю шум, заставляю его слышать голоса. Особенно он реагирует на голоса матерей. На дне этой ямы, которую мы вырыли своими руками, нас было человек сорок, в том числе, разумеется, матери с детьми. Так что я даю ему послушать в самом реалистичном варианте – в том, что касается искусства, я приверженец реализма – крики еврейских матерей за секунду до автоматной очереди, понявших наконец, что их детей не пощадят.
<…> Я всегда задавался вопросом, зачем мне понадобилось поворачиваться голым задом к представителям Herrenvolk в такой момент. Может быть, я предчувствовал, что однажды евреев станут упрекать в том, что они не сопротивлялись и сами позволяли себя убивать: вот я и решил использовать единственное оружие, которое у меня было, – оружие, конечно, чисто символическое, которое нам веками удавалось худо-бедно сохранять и которого я должен был через минуту лишиться. Мне не оставалось ничего другого.
Вот фрагмент свидетельства Якова Габбая из зондеркоманды Освенцима-Биркенау:
В августе 1944 года из Лодзи прибыл большой конвой, и в том же месяце двести пятьдесят польских «музельманов»{572} были отправлены в лагеря неподалеку от Освенцима. Они с трудом могли двигаться. Тогда главный по кремационным печам, офицер СС Молль, заявил: «Не надо этих в газовую камеру». Он хотел лично их расстрелять. Сначала он бил их железным прутом, которым мы крошили кости, остававшиеся от убитых, а потом велел одному из солдат принести винтовку и пули и начал стрелять. После четырех-пяти выстрелов один из музельманов позвал: «Офицер?» Садист Молль невозмутимо откликнулся: «Да?»
«У меня есть последнее желание».
«Какое?»
«Пока ты расстреливаешь моих товарищей, дай мне спеть „Голубой Дунай“».
«Ой да, пожалуйста! Стрелять под музыку еще приятнее!» – ухмыльнулся Молль. Тот запел, а Молль продолжил стрелять, пока не дошла очередь до певца. Молль уложил его последней пулей{573}.
В своих записках, оставшихся неопубликованными, Ромен Гари замечает, что израильские газеты, например «Маарив», и американские еврейские издания в отличие от французских критиков поняли, что он творил во имя памяти Шоа: Чингиз-Хаимом был он сам. Впрочем, годы спустя и во Франции по-другому посмотрят на его черный юмор и провокационный стиль, когда недогадливые критики начнут восхвалять Эмиля Ажара, и не подозревая, что его произведения принадлежат перу Ромена Гари. «Пляску Чингиз-Хаима» очень легко соотнести с романом «Вся жизнь впереди»: на странице 174, например, находим выражение «нежность камней», а ведь именно таким будет первое название «Жизни». Гари нередко вставлял в свои произведения фразы из предыдущих книг. Та же самая «Пляска Чингиз-Хаима» заставляет вспомнить о «Грустных клоунах»: «Это грустные клоуны, которые думают лишь о том, как отыграть свой номер»{574}. Случалось ему и «присваивать» фразы других авторов. Так, опять же в «Пляске» инкогнито присутствует Франц Кафка: «Сила криков такова, что от них разрушатся все правила, придуманные против человека…»








