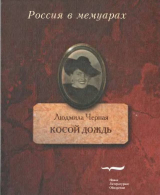
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 47 страниц)
Вот вам и все кредо большевизма: «Долой выборы!», «Да здравствует красный террор!». И не забывайте грабить банки!
И чтобы покончить с Парижской коммуной, скажу, что с седьмого класса, то есть с 14 лет, я о Коммуне больше не слышала… Ничегошеньки!
…Одно из моих ранних воспоминаний о 23-й школе – мы боремся против… сказок. Боремся с помощью художественного слова. Нам раздали тоненькие книжки (наверное, утвержденные Наркомпросом и лично товарищем Крупской). С книжек мы списываем свои роли. Возможно, пьеса называлась «Долой сказку!» или как-то более художественно. Сказочные персонажи выходят на сцену, представляются, говорят несколько слов в свое оправдание. А под конец Пионер в красном галстуке разоблачает сказочных героев – дескать, не место им в нашей замечательной действительности. Я изображала Принцессу на горошине. Принцесс было две. Были еще Снегурочка, Русалки и очень забавный Чертик, который, войдя в раж, носился по сцене и волочил за собой длинный хвост, – по-моему, у мальчика, игравшего Чертика, хвост и полумаска с рожками были из театрального реквизита. Остальным костюмы мастерили домашние. А мальчик стал звездой.
Так мы разоблачали сказки. Но, конечно же, это не значит, что мы перестали их читать. Думаю, пьеса была для проформы. Ее ставила наша милейшая и умнейшая учительница по русскому языку Викентия Густавовна. Но Викентии Густавовне и не такое приходилось делать. По многу месяцев мы «прорабатывали» на ее уроках совершенно беспомощную книгу «пролетарского» писателя Либединского «Неделя», а потом роман Фадеева «Разгром». И скучнейший «Железный поток» Серафимовича. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Лев Толстой в школьной программе только упоминались. Достоевский даже не упоминался. Пушкин и Лермонтов числились в рубрике «Крупнопоместное дворянство», Гоголь – в рубрике «Мелкопоместное дворянство». Толстой был «зеркалом русской революции», в обличье «зеркала» он, по-моему, застрял на все 70 лет советской власти.
Правили бал в литературе 20-х годов писательские объединения «Кузница», Пролеткульт, РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) и другие.
Маяковский считался всего-навсего «попутчиком», он был хорош только гем, что сидел в кутаисской тюрьме и написал стихотворение «Прозаседавшиеся», которое одобрил Ленин. Из поэтов «Кузницы» запомнила фамилию поэта Казина и три строчки стихотворения М.П. Герасимова «Песнь о железе»: «В железе есть стоны, / Кандальные звоны / И плач гильотинных ножей…»
Разумеется, мы проходили и длинную, скучную поэму кремлевского любимца Демьяна Бедного «Главная улица». Лозунг «одемьянивание литературы» к тому времени, правда, сняли.
Но несколько раз Викентия Густавовна предлагала нам выучить какое-нибудь стихотворение по собственному выбору и прочесть его в классе. И это – именины сердца. Уже в первый раз один мальчик прочел наизусть «Бородино», а другой – большие куски из «Полтавы». Никто никогда не декламировал добровольно ни Демьяна Бедного, ни Горького, которым нас закармливали.
Я с помощью папы нашла самый короткий стих Майкова «Подснежник» и целый вечер зубрила его. Тогда впервые поняла, что хорошей памятью бог меня обделил.
Но зато с тех пор мы с папой приобщились к поэзии. Нашим любимым поэтом стал Лермонтов. Мы читали все подряд – и «Демона», и «Мцыри», и «Песню про купца Калашникова», и даже драму «Маскарад». И конечно – стихи. Когда дело доходило до «Воздушного корабля», слезы навертывались у меня на глаза, так мне было жалко Наполеона. Тщетно призывал он к себе и своих «усачей-гренадеров», и своих «маршалов».
Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодным России,
Под знойным песком пирамид.
И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.
Слезы вызывал и «Парус». «Увы, он счастия не ищет…» Ужасно!
И мой милый, наивный папа тоже готов был, по-моему, расплакаться.
Для меня Лермонтов всю жизнь – первый поэт. А его «Герой нашего времени» – лучшая в мире проза… Потом, правда, появилась чеховская проза.
Но вот стихи (перевод!) о Наполеоне, которые мы с папой читали, вызывают некоторые сомнения. Видимо, с патриотизмом во времена Лермонтова в 40-х годах XIX века было не так убийственно строго. Разрешалось восхищаться завоевателем, даже если он вторгался в Россию.
Опять отвлеклась… Пора возвращаться в мою первую школу у Покровских ворот. Возвращаться к довольно-таки дурацкой вылазке в деревню под руководством той же Викентии Густавовны.
Кажется, в шестой группе – мне было лет 11 – мы целой бригадой отправились агитировать за колхозы. В бригаде были сплошь детки из интеллигентных семей (такая уж была школа), понятия не имевшие ни о деревне, ни о сельском хозяйстве, а тем более о том ужасе, который надвигался на несчастных крестьян. Нас встретили радушно, накормили, а вечером в деревенском клубе поставили лавки, и мы по очереди стали выходить на сцену и читать стихи. Мне было еще сверх того поручено произнести приветствие, где давались советы насчет преимуществ коллективного образа жизни. Как я сейчас понимаю, никто нас, слава богу, не принимал всерьез. Поэтому, вспоминая этот странный сюжет в моей жизни, я могу не очень краснеть.
Меня могут спросить: а что же во всем этом было хорошего? Не лучше ли учить литературу, как ее учили в старой гимназии, а потом в советской школе в 50—70-х годах? И уж совершенно ни к чему было ездить в деревню и молоть полную чушь.
Правильно. Но в той первой школе нам ничего не навязывали, пытались убедить. Даже в пионеры не загоняли, а спрашивали: хочешь ли вступить? Мне кажется, в той школе еще жил дух бунта, дух свободы, веял ветер Революции, пусть и не такой ощутимый.
Но ведь вроде бы Революция в наши дни не в почете?
Конечно. И все же не зря Блок написал «Двенадцать», а Маяковский «наступал на горло собственной песне». Долго меня пытались убедить, что последние строчки в поэме «Двенадцать» поэт сочинил просто так, сдуру.
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди – Исус Христос.
Большие поэты не сочиняют просто так: раз Блок написал, стало быть, Христос там был. Был!
И еще скажу в защиту моей первой школы – ее педагоги не боялись нового. В частности, они заимствовали у американцев внедрявшийся тогда в США (в САСШ, как писали в 20-х годах) передовой метод обучения – Дальтон-план. Этот метод, также называемый «бригадно-лабораторным», был осужден в 1932 году постановлением ЦК ВКП(б) и запрещен в СССР.
Кто только не ругает в наши дни Дальтон-план. К месту и не к месту. Вот Бенедикт Сарнов вспоминает в своих мемуарах «Скуки не было», что его умный отец возмущался: «Где же они раньше были?.. Ведь давно же всем ясно, что все эти Дальтон-планы и прочая чепуха только калечат детей!»
Негодует по поводу Дальтон-плана и Леонид Млечин, известный наш журналист. И по его мнению, это дурацкий метод. (Это он писал в книге-памфлете о Шелепине.)
А я восхищаюсь смелостью педагогов 23-й школы, ибо, по-моему, уже в конце 20-х было ясно, что Дальтон-план «вырвут с корнем» и что его защитникам не поздоровится.
Вот что я прочла в XX томе первого издания Большой советской энциклопедии в статье о Дальтон-плане: «По словам Паркгерст (американской учительницы, предложившей Дальтон-план. – Л.Ч.), следующие три момента определяют сущность Д.-п.: во-первых, идея свободы, во-вторых, идея детского взаимодействия (interaction), в-третьих, идея учета и самоучета проделанной учащимися работы (бюджет времени).
…Эти идеи воплощаются следующим образом: почти совсем упраздняется старая классная система, работа проходит гл. обр. в кабинетах и лабораториях, учащиеся не получают ежедневных “уроков”, как в обычной школе, а заключают с учителем “договор” (contract), обязывающий их в определенный срок (неделя, две недели, месяц) выполнить известную работу… Роль учителя сводится к роли консультанта…»
На этом автор БСЭ, разумеется, не успокоился, он продолжил:
«Школа как орудие капитала в буржуазной стране стала перед задачей приспособления форм организации учебной работы к тем изменениям, которые произошли в технике и в общественной жизни. Для буржуа – организатора новых предприятий, для хищника-капиталиста не пригодны люди старого, полуфеодального склада с их темпами работы. Нужен новый человек, активный и умелый… В школе, организованной по Д.-п., дети приучаются быть активными… они приучаются к планированию работы… они работают внешне коллективно, но на самом деле каждый совершенно самостоятелен… они, наконец, постигают искусство сделанного, искусство, весьма ценное для “людей дела”».
Итог статьи довольно неожиданный: «…мы должны всячески препятствовать проникновению в нашу школу Д.-п. в его буржуазном обличье».
Конечно, мы не «хищники-капиталисты», нам сгодятся и люди «полуфеодального склада». Нам не нужны «активные» и «умелые», «люди дела».
Теперь я понимаю, что мы, дети тех лет, сразу почуяли идеи свободы, самостоятельности и личной ответственности, заложенные в Дальтон-плане. Именно это нас и вдохновляло.
Наиболее уязвимым в бригадном методе обучения, введенном у нас, считалось то, что к доске вызывали одного из бригады не по выбору учителя, а по выбору самих учеников. За его ответ ставилась отметка всей бригаде. Сколько потом издевались над такой обезличкой! Дескать, ха-ха, вся бригада полагалась на одного, вот и вырастали неучи и лодыри. Буржуазные педагоги до добра не доведут!
У нас в бригадах было по два-три способных ученика, во всяком случае быстро схватывающих, и один, максимум два тугодума. На всю жизнь я запомнила нашу Лелю Грачеву, голубоглазого ангела с румянцем во всю щеку. Леля ничего не усваивала ни с первого, ни со второго, ни даже с третьего раза. Мы ее, разумеется, к доске не пускали. Но дети, которым доверяют, необычайно добросовестны. Часами с невероятным терпением мы занимались с Лелей. И сами учились, и Лелю натаскивали. Ни один педагог не смог бы добиться того, чего добивались мы…
До сих пор убеждена, что Дальтон-план и свободная школа куда лучше, чем школа-казарма, где пришлось учиться сыну.
Ну а как же все-таки с грамотностью? Ведь зубрить нам в новой школе не давали, на орфографию особо не налегали, а к доске на уроках выходили не все, а только сильные ученики.
Насчет грамотности я придерживаюсь крамольных взглядов. По-моему, грамотность – загадочный дар, она либо у тебя есть, либо ее нет. Я говорю о ребятах из интеллигентных семей. Кто-то из этих ребят вообще не делает ошибок. Кстати, мой сын Алик, мягко говоря, не утруждавший себя в школе зубрежкой, пишет абсолютно грамотно. Так же как и Д.Е., у которого русский был вторым языком.
С этой чертовой грамотностью дело обстоит так же, как… с деньгами. Некоторые люди при всех режимах богатеют (пусть относительно), другие – всегда остаются на бобах. Это очень художественно отразили многие писатели, в том числе такие разные, как Генрих Бёлль и Сергей Довлатов. У Генриха Бёлля в небольшой радиопьесе миллионер бросает свои миллионы и бежит куда глаза глядят, чтобы жить в бедности. И что же? Проходит совсем немного времени, и он опять наживает миллионы. А герои Довлатова, нищие эмигранты из России, всегда в проигрыше, только один эмигрант, не слезая с дивана, почему-то постоянно в выигрыше. Даже когда этот Лернер купил на распродаже ржавый вентилятор для гаража за 3 доллара, оказалось, что вентилятор – работа известного скульптора-авангардиста, которая считалась утерянной…
Убеждена, из 23-й школы в 1931 году – дата выпуска семилетки, в которой я училась, – вышло ровно столько же грамотных девочек, сколько выходило из дореволюционной гимназии Виноградской, куда вселили «единую трудовую…».
Куда хуже с историей. Свидетельствую. Русскую историю мое поколение не учило и не знало. И всеобщую – тоже. И от этого, на мой взгляд, все наши беды – ибо раз историю можно не изучать, то ее можно и сочинять, и переписывать.
Если бы я была на месте министра образования и науки, то сделала бы историю главным предметом.
Но все это плоды холодных наблюдений… Школа у Покровских ворот поразила меня в самое сердце не только Дальтон-планом, не только торжествами по случаю дня Парижской коммуны, – сейчас это выглядит довольно экзотично, – но и тем, что в моей жизни появилось множество ребят одного со мной возраста. Все-таки в Хохловском переулке я была одиноким ребенком, без сестер и братьев и без детского окружения.
И вот в 5-й группе я с ходу влюбилась в нескольких девочек сразу… И притом в очень непохожих друг на друга. Главной моей любовью стала Муся Брауде, бессменная староста нашей группы. Муся нравилась всем. Это была очень приветливая, доброжелательная, тактичная девочка. Правильная. Она никогда не выходила из себя, не капризничала и не задавалась, не задирала нос. Не красотка, но какая-то удивительно милая. Муся очень хорошо училась, но и я хорошо училась. Муся все же лучше, ровнее. Какое-то время мне очень хотелось быть похожей на нее. Я даже писать стала как Муся, хотя нас учили писать иначе: надо было выводить буквы с наклоном вправо, а Муся выводила их с наклоном влево.
Потом я стала часто бывать у Муси дома. И узнала, что она живет не с родителями – ее родителей как нэпманов выслали из Москвы, а со старшими братьями и с женой одного из братьев Марьей Григорьевной. Оказалось также, что у Муси двое племянников – красивый мальчик Женя, немного моложе Муси, и рыжий малыш Воля… У этой большой семьи была во дворе школы на первом этаже просторная квартира. В огромной общей комнате, довольно пустой, стоял рояль и была голландка – высокая, выложенная белыми изразцами печь. Теперь диву даюсь, как Марья Григорьевна одна управлялась с семьей и с квартирой с печным отоплением. Позже узнала, что Марья Григорьевна – сестра поэта Антокольского, и вспомнила, что у них в доме обсуждали новую авангардную постановку в Театре Вахтангова «Гамлет». Как известно, Антокольский был связан и с Театром Вахтангова, и с Мариной Цветаевой. В общем, семья Муси была не только очень интеллигентной, но и, как сейчас говорят, продвинутой. Дух великого новатора Вахтангова и дух великой поэтессы Марины Цветаевой осенил семью Муси. К сожалению, судьба оказалась к этой семье немилостива. Погиб на фронте красавец Женя, как говорили, очень талантливый юноша, а брат Муси ушел от Марьи Григорьевны.
Но все это произошло много-много позже. А пока что меня неодолимо привлекала и атмосфера Мусиного дома… и шесть тяжелых томов «Жизни животных» Брэма, счастливыми обладателями которых была семья Брауде. Немец-зоолог Брэм так живо и интересно описывал повадки и характер диких животных, что мы с Мусей взахлеб читали о львах и тиграх, о слонах и бегемотах, о жирафах и даже о противных гиенах. Читали и перерисовывали зверей в свои тетрадки. Картинки у Брэма были чудо как хороши! Теперь понимаю, что нас привлекала у Брэма еще и романтика дальних стран, неведомый континент Африка. Нынешним детям этого не понять. Их родители берут билеты на соответствующий рейс (заказывают через Интернет), дети садятся в самолет и летят три – пять – десять часов и оказываются в разных странах. Могут полететь и в Африку, особенно в Египет и Турцию. К услугам туристов там отели с кондиционерами, не хуже, чем в Европе. А для экзотики – поездки на верблюдах… Детям 20-х годов прошлого века Африка была так же недоступна, как нынешним детям Марс или Юпитер. Сами названия рек, гор и городов звучали для нас подобно музыке небесных сфер. Разве были где-нибудь в доступном нам мире Оранжевая река, мыс Доброй Надежды, берег Слоновой Кости, Тимбукту и Занзибар? И разве где-нибудь росли баобабы? Тогда еще мы не знали «лилового негра» Вертинского, песни «Трансвааль – страна моя». Хемингуэй еще не написал своей пронзительной повести «Снега Килиманджаро», а Маргарет Тэтчер не произнесла фразу о «Верхней Вольте с ракетами».
Африку открыл мне Брэм. Разве могла я знать, что одна из двух дочерей моего мужа Д.Е. от его первого брака навсегда поселится у берегов Африки на острове Маврикий?
Но хватит о Мусе Брауде. Кроме Муси я была влюблена в Нуну Сычеву (не в Нонну, а именно в Нуну – так ее звала мать-полька). Нуна была красивая длинноногая девочка с мятежной душой и с чисто интеллигентскими комплексами: неуверенностью в себе и сомнениями во всем. В семье Нуны, видимо, была какая-то драма, мать воспитывала дочь одна. Мы с Нуной часами ходили по улицам и говорили, говорили. Посидеть и поболтать ни у Нуны, ни у меня дома не было возможности.
Нуна поступила в Энергетический институт. Там училась и Шура, подруга из моей второй школы. От Шуры я знаю, что у Нуны были какие-то особенно сложные и пылкие романы, которые не всегда заканчивались хеппи-эндом… Во взрослой жизни я Нуну потеряла.
И еще я долго дружила с Люсей Румановой. И не очень долго с Ниной Поповой. И восхищалась девочкой по имени Галя. Галя была красавца в полном смысле этого слова. У нее были необыкновенно правильные черты лица, великолепная фигура, она была изысканна и изящна. Но и взрослые и дети, встречаясь с Галей, опускали глаза, ибо чувствовали свою, хоть и невольную, вину перед ней. Казалось, что Галя больна неизлечимой болезнью, а все мы непозволительно здоровы. Фамилия Гали была Оболенская, и мы знали, что она княжна Оболенская. А в 20-х это считалось хуже проказы. Но в свои 12–13 лет я не желала этого признавать.
Не могу сказать, что мы с Галей стали подругами, но нас связывала обоюдная симпатия. Мне запомнился один разговор с Галей. Встретились мы с ней в физкультурном зале. Я начала укорять Галю за то, что она прогуливает уроки. Галя долго слушала меня молча, потом сказала: «Брось! Зачем мне ходить на уроки? Все равно не дадут поступить в вуз. А если даже и поступлю, потом не возьмут на хорошую работу. Послушай лучше меня – мы тут с одной девочкой занимаемся гимнастикой, готовимся поступить в мюзик-холл. Там набирают молодых девчонок. Присоединяйся к нам. Будешь зарабатывать, станешь самостоятельной, а то скиснешь…»
От предложения Гали я просто опешила. Почувствовала себя так, как, наверное, чувствует себя тихий маменькин сынок, которого сосед-хулиган подбивает бежать с ним в Америку. Пролепетав что-то невразумительное, я сказала, что подумаю… Хороша была бы я при моей немузыкальное™ в мюзик-холле, который, кстати сказать, скоро закрыли…
В седьмом классе (группе) я довольно оригинальным образом узнала о системе привилегий в Стране Советов. Со мной вместе училась очень милая девочка по имени Юля. Однажды мы с этой девочкой повздорили и начали колошматить друг друга портфелями. Вокруг нас собралась толпа ребят, и ребята, как водится, подбадривали нас криками: «Давай! Давай!» Но тут вдруг большой черный портфель Юли раскрылся. И на пол выпало всякое школьное барахло – тетради, учебники, пенал и еще французская булочка, распавшаяся на две половинки так, что стало видно – булка намазана маслом, а поверх черной икрой.
Все замерли. Я отошла в сторону. А Юля, покраснев до ушей, нагнулась, чтобы собрать свое имущество и вместе с криминальной булочкой кое-как запихнуть обратно в портфель.
Если бы у нее из портфеля выползла змея или выскользнуло брильянтовое колье, клянусь, я бы не так удивилась. Змея и колье были чем-то книжно знакомым.
Нет, не икра меня потрясла, а белая булка нормальной выпечки. Бросив взгляд на булку, я как-то всем нутром почувствовала, что отец Юли «ответработник». И, очевидно, им полагалась какая-то другая еда.
Случилось это происшествие, видимо, в 1931 году.
Странно только, что я начисто забыла: года за три до этого и раньше во времена нэпа, в болшевском пансионе, да и дома я сама ела точно такие же французские булочки с черной икрой.
Тогда белая булка была общедоступна и продавалась в булочной, а не в закрытом распределителе.
Но исчезновение булки – мелочь по сравнению с тем, что то и дело менялись представления о добре и зле, наказуемом или поощряемом.
Иногда хорошо, что менялись. Объясню…
Казалось, жизнь многих ребят из моей первой школы априори сломана. Раз и навсегда, как у Гали Оболенской, девочки из старинного дворянского рода, и хохотушки Тани Мартыновой по прозвищу Мартышка. Веселая эта девочка с длинными косами жила вдвоем с матерью. Было известно, что ее отца, белого офицера, расстреляли большевики. Таня учебой не увлекалась, я даже подтягивала ее, как отстающую. За что и получила от Таниной мамаши первый в жизни гонорар – синюю чашку с блюдцем. На самом деле Таня была способная…
Но что ожидало ее в жизни? С такой анкетой?
И что ожидало толстого мальчугана Андрюшу Очкина? Он хорошо рисовал, неплохо учился, но отец Андрюши прошел20 подсудимым по процессу «Пром-партии» – «вредителей» из числа крупных инженеров, видных спецов.
Андрюшин отец получил, кажется, 10 лет тюрьмы.
Какая судьба ждала Андрюшу?
Или мою подругу Мусю Брауде, у которой родители нэпманы, как сказано, были в ссылке? А старшая сестра, красавица и умница, сперва училась стрелять и ездить верхом, а потом в 1923 году уехала… в Палестину.
Но прошло всего лет 7–8. Я закончила десятилетку, училась в институте и в 1938 или 1939 году поехала с двумя подружками-студентками в Алупку «дикарями». В Крыму «дикарям», кроме южного солнца и теплого Черного моря, ничего не полагалось. Но мы ни на что и не претендовали. Жили в какой-то лачуге (снимали даже не комнату, а полтеррасы). Обедали в дешевой столовой. А я еще записалась на экскурсию. На этой экскурсии трудящимся за малые деньги предлагали подняться на Ай-Петри, полюбоваться заходом солнца, переночевать в палатке и спуститься опять к морю.
Подружки были слишком ленивы, чтобы километр карабкаться в гору, да еще по жаре. Ну а я благополучно добралась до вершины Ай-Петри… И что же я там увидела?
Увидела ресторан и на открытой веранде пирующую компанию из 5–6 мужчин и прекрасной дамы. Прекрасной дамой оказалась повзрослевшая и похорошевшая Мартышка.
Мы поздоровались издали. Я сразу поняла, что Тане явно не хотелось, чтобы я, замухрышка из толпы экскурсантов, присоединилась к ней. И я исполнила ее немую просьбу.
Полагаю, что Таня Мартынова и ее кавалеры отдыхали в каком-то закрытом санатории. И прибыли в ай-петринский ресторан на машине…
Андрюшу Очкина я больше не встречала. Но от общих знакомых знаю, что он поступил в институт, окончил его. Никаких новых неприятностей от советской власти ни у Андрюши, ни у его семьи вроде бы не было. Ходили слухи, что осужденных на первых процессах «вредителей» скоро отпустили и призвали поднимать промышленность. Только пять человек, которых расстреляли (Шахтинское дело), не удалось привлечь к этой полезной работе.
Галю Оболенскую я встретила на улице вскоре после 1935 года. Она еще похорошела. И была шикарно одета. Я бросилась к ней, восклицая: «Вижу, что у тебя все в порядке». Она отрицательно покачала головой. Наверное, что-то не заладилось в личной жизни. Мы обнялись и расстались уже навсегда. Но я была за Галю спокойна. Знала, что уже в конце 30-х, а особенно в 40-х годах быть княжной Оболенской стало не только не опасно, но очень даже престижно. Вспомнили, что мать любимца Сталина Константина Симонова была из… Оболенских. Таким образом, имя Оболенских приобрело новый блеск…
С Мусей Брауде у нас в «середине жизни» оказались общие друзья. От них я узнала, что Муся окончила мединститут, стала врачом. Вышла замуж за прекрасного человека старше ее, родила двоих сыновей…
Красное колесо – вертелось. Кого-то возносило вверх под сумрачное небо Советской страны, кого-то опускало вниз, в преисподнюю. Кого-то Сталин миловал, кого-то карал…
И только одного ученика 23-й школы ни при каких обстоятельствах не помиловал бы…
Ваню Николаева…
2. Ваня Николаев
Не знаю почему, но воспоминания об этом мальчике уже долгие годы преследуют меня. Может быть, я отчасти и затеяла писать эту книгу, чтобы рассказать о нем. Уверена, что его уже много-много лет нет в живых.
Итак, Ваня Николаев.
Я училась с ним в пятом, шестом и седьмом классах. Потом он поступил в 24-ю школу, «интеллигентскую», а я в 16-ю – «рабочую». В год окончания семилетки большинству из нас исполнилось 14 лет.
Таким я его и запомнила – четырнадцатилетним, среднего роста подростком, темноволосым и очень бледным. У него был высокий лоб, довольно приятное лицо. Почему-то многие наши ребята ходили в серых халатах. Но Ваню я вижу в черной, застегнутой до ворота курточке. Он был, кажется, сильный, но очень сдержанный. Не кричал, не задирался, не паясничал, как многие мальчишки его возраста. Бледный серьезный подросток.
Возможно, я бы его вообще не заметила, но одна из моих подружек, Нина Попова, была в него влюблена. И без конца о нем говорила: то он посмотрел на нее как-то особенно, то отвернулся опять же особенно. Для своего возраста я была чрезвычайно инфантильна и в любовных делах ровно ничего не смыслила. Для меня, в общем, все мальчики были одинаковы, но к Ване я относилась с уважением.
Однажды зимой подружка подговорила нескольких ребят поехать на Воробьевы горы покататься на санках. Среди нас был и Ваня Николаев. Вернее, именно Ваня Николаев и повез нас на Воробьевы горы. Там он разговорился, ясно было, что санки – его увлечение. Мы катались с горы – ложились животом на плоские санки и неслись вниз. В тот день мы накатались вволю. Потом Ваня показал еще одну гору, по-моему, там сейчас лыжный трамплин, – с нее он нам съезжать не велел, так как санки попадали на неровную поверхность замерзшей Москвы-реки. Можно было свернуть себе шею. Сам Ваня съехал и с этой горы. А мы стояли наверху, ждали его, удивлялись, какой он смелый.
Метро тогда еще не было, и поездка на Воробьевы горы казалась целым путешествием.
Разговорившись, даже разрумянившись с мороза, Ваня пригласил нас к себе. И мы пошли к нему. Он жил в гигантском доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. Сейчас этот дом, построенный в 1902 году, считается одним из красивейших в Москве. И всегда он поражал своей огромностью.
Совершенно не помню ни подъезда, ни этажа, где была Ванина квартира. Подъездов там тьма. Потом я ходила в этот дом с черного хода на чердак в мастерскую художника-концептуалиста Ильи Кабакова. Но то было спустя сорок лет… Ванины две комнаты запомнила на всю жизнь – они поразили меня и размерами, и высотой потолков, а главное, какой-то холодной пустотой. Может быть, потому, что наши маленькие комнатушки в Хохловском переулке в результате «уплотнений» были заставлены мебелью, тесные. Еще помню у Вани стеллажи с большим количеством книг. У нас книг дома почти не было. Мама считала, что книги должны стоять в книжном шкафу в кабинете. Когда кабинет забрали, шкаф с книгами перекочевал к моему любимому дяде Исаю.
Пока мы рассматривали книги и о чем-то говорили, со двора прибежал мальчик поменьше, как оказалось, Ванин брат. Ваня спросил, ел ли он, еще что-то спросил, погладил по голове.
И тут у кого-то из нас вырвался вопрос: «А где же ваши мама с папой?» Ваня серьезно и спокойно ответил:
– Мы живем одни.
– Как одни?
– Одни.
– А кто же вам дает еду?
– Приходит кто-нибудь из родственников и готовит.
– А посуду кто моет?
– Сами моем.
Больше мы ни о чем не спрашивали. Нам стало как-то не по себе… Двое мальчиков в двух пустых огромных комнатах в огромном доме…
Потом мне сказали, что отец и мать Вани были троцкистами. И их либо выслали из Москвы, либо они сидели в политизоляторах (так назывались тогда тюрьмы для политических заключенных). О политизоляторах я уже слышала – слово это мелькало в разговорах взрослых.
Для меня слова «троцкисты» и «политизоляторы» были чем-то запретнострашным, о чем лучше не знать. Но вот мысль об одиночестве двух мальчиков, лишенных отца и матери, не оставляла меня.
Однако Ваня был не из тех людей, которые пускают к себе в душу. У себя дома он обронил: «Мы живем одни». И никогда больше я его ни о чем не спрашивала. Хотя с тех пор мы вроде подружились. Во всяком случае, он дал мне прочесть несколько книг (а может, одну?) Троцкого. Я прочла. Мне было интересно, но шестым чувством советского ребенка я понимала, что говорить об этом никому не следовало. И еще мы задумали писать пьесу. Вшестером. По примеру… Кукрыниксов. Даже сочинили сложный псевдоним.
Но учебный год кончился, и мы, как сказано, попали в разные школы. Вся информация о Ване шла теперь от моей подружки Нины. Она по-прежнему была в него влюблена. Я же, по-моему, вообще ни разу не видела больше Ваню, хотя в их школу несколько раз приходила.
По рассказам подружки, Ваня попал под очень скверное влияние. Змея-искусителя звали Саша Гинзбург. Их водой не разольешь! Расширив глаза от ужаса, хорошенькая подружка сообщала, что Ваня и Саша «пьют вино» и водятся с «испорченными девушками». Я вздыхала сочувственно.
Но вот в десятом классе подружка пришла заплаканная и произнесла роковые слова: «Ваню арестовали». Шел 1935 год.
Подружку возмущала несправедливость – ведь зачинщиком был не Ваня, а Саша. Мы еще верили в справедливость, и нас не удивляло, что сажают, по существу, детей, пусть даже они водятся с «испорченными девушками»… Ужасный грех!
Саша Гинзбург стал Александром Галичем. Все мы слушали его талантливые песни. На книгу его автобиографической прозы я буквально накинулась (то был «тамиздат»)21, надеясь встретить имя Вани. Но тень бледного молчаливого мальчика Вани Николаева не проскользнула ни в этой книге, ни в песнях Галича.
3. Другая школа
В неполные 14 лет я окончила семилетку и попала в очередную школьную перестройку – теперь «детям служащих» разрешалось учиться еще три года и сразу, минуя завод, то есть «рабочий коллектив», поступать в высшие учебные заведения. Ура! Ура!
Но, к сожалению, в моей школе, 23-й БОНО, еще не успели открыть три последних класса. Посему мы все написали заявления с просьбой зачислить нас в ближайшую школу, а именно в 24-ю БОНО. Она находилась в пяти минутах ходьбы от нашей прежней школы.
Было это не то в конце мая, не то в начале июня – и вскоре после этого меня с какой-то маминой знакомой отправили в Кисловодск, а через месяц в Кисловодск прибыли мама с папой: папа по путевке в дом отдыха, а мы с мамой поселились в гостинице под названием «Гранд-отель».
Из кисловодских впечатлений в памяти остались довольно скучные прогулки по дорожкам-терренкурам в горы – к Храму воздуха и к Красному солнышку, мамина неслыханной красоты соломенная шляпка – нэп уже кончился, но хорошие шляпницы еще не перевелись… и Демьян Бедный.








