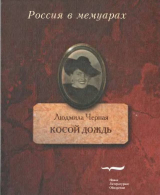
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 47 страниц)
Насчет иностранного туризма и говорить нечего: им Ася не воспользовалась. У нее не было ни законного желания увидеть чужие края, ни профессиональных интересов. За границей паслись исключительно международники с микрофонами. Кстати, Ася, считавшая себя образованным человеком, никогда в жизни не пожалела, что не знает ни одного иностранного языка.
Зачем я все это пишу? Ведь Ася была среди нас, может быть, самая честная, совестливая и состоявшаяся. Да затем, чтобы показать, что наша честность и совестливость, помноженная на нашу нетерпимость и полуинтеллигентность, мало чего стоила. Честность была какая-то себялюбивая и очень заносчивая, а самое главное – клановая. Хорошие люди, разумеется, жили в отдельных квартирах в центре Москвы, учились в ИФЛИ и не шастали по заграницам с микрофонами. Занимались они русской литературой XX века. И требовали, чтобы их за это уважали и чтили!
В своих ламентациях Ася, увы, была не одинока. Почитайте некоторых бывших новомировцев и убедитесь, что враг номер один для них Гайдар. Он лишил их сознания того, что литература выше всего, выше самой жизни! Лишил их великой духовной привилегии быть учителем народа.
4. Принцесса на горошине. Сказочка на советский лад
В институте со мной на курсе училась некто Мура, как говорили в XIX веке. В мое время имена уменьшительные были не такие, как сейчас: не Маша, а Маня, или Маруся, или Муся, или Мура, а иногда и Мэри. Словом, со мной вместе училась молодая девушка по имени Мура. Фамилия у нее была русская, распространенная – Егорова. Мура эта считалась у нас на курсе простушкой. Не очень красивая и приметная, довольно неуклюжая, не поражавшая нас, глупых снобов, особыми талантами. Отец простушки был знаменитый кардиолог, из плеяды тех старых прекрасных врачей, часть которых истребил Сталин. Принадлежал Мурин отец к врачебной элите, самой-пресамой. Но, как ни странно, в 1949–1953 годах его в тюрьму не посадили.
Жила Мура, кажется, в Замоскворечье и, кажется, даже в отдельной квартире. Отцу, видимо, оставили его «домовладение». Муриного отца я не видела, но говорили, что он был красавец-мужчина. Я его почему-то представляла себе эдаким старорежимным барином в костюме-тройке, с окладистой бородой. Возможно, впрочем, что бороду я приставила к подбородку Муриного папы, отобрав у какого-то другого персонажа. У отца Муры была машина – по тем, еще довоенным временам неслыханная роскошь. Так называемые «персональные машины» имели только крупные работники из парт– и госаппарата. Эти разъезжали на «фордах» или «линкольнах». А Муриного папу возила обыкновенная «эмка» – маленький такой автомобильчик типа знаменитого «фольксвагена», именуемого в Германии «жуком». Но «эмку» ту я бы назвала не «жуком», а «божьей коровкой». Водил «божью коровку» шофер. И не казенный «персональный», а просто шофер, которого нанимал папа Муры.
Надо сказать, что в 30-х годах, то есть в пору еще не достроенного социализма, у крупных врачей была частная практика и они хорошо зарабатывали. На «линкольн» денег наверняка не хватило бы, да и не продавали «линкольны» в частные руки, а на «эмку» хватило. И, видимо, как великое исключение, отцу Муры разрешили приобрести автомобиль. И наша Мура сразу получила большое преимущество перед детьми ответработников. Тех если и подвозили в институт казенные шоферы на тогдашних «членовозах», то ссаживали где-нибудь раньше времени. Папаши боялись испортить свой имидж. Ведь считалось, что большевик должен быть аскетом и ездить на лимузине только из-за крайней загруженности делами народными, как «слуга народа». Дети «слуг» крадучись вылезали из машин. А Мура подкатывала аж к самому подъезду нашего института. Институт, как я уже писала, находился в Сокольниках, в селе Богородском. А это в ту пору было краем света. Ездили мы на метро до конечной, до Сокольников, а потом пересаживались на трамвай номер 4 и пилили еще пять остановок. Конечно, все мы, студенты, ненавидели вставать рано, то есть вовремя. И неслись в институт сломя голову. Бежали по эскалатору, мчались к остановке. А на остановке целой толпой, как кони в мыле, перебирали от нетерпения ногами. За опоздание на лекцию нас жучили и мучили выговорами и проработками. Но иногда в момент отчаяния на горизонте появлялась Мура на своей «божьей коровке», и шофер, знавший нас, притормаживал. После чего несколько оболтусов влезали в машину, и та еле-еле ползла дальше.
Как я теперь понимаю, Мура была прелестным созданием. Да и папин шофер был человеком сердобольным и отзывчивым.
Но это все предыстория, а история произошла после того, как Мура окончила ИФЛИ, то есть в последний предвоенный год.
Ее, дочку своего папы, отправили за границу. Сразу. И не куда-нибудь в Эфиопию или в Анголу (как говорили позже в народе: «Ангола, Ангола – жопа гола»), а в… Париж!
Заграница уже тогда была «заграницей», землей обетованной, хотя еще не в такой степени, как во времена «развитого социализма». Но все же капстрана Франция была капстраной, иными словами – земным раем, где можно купить сказочные шмотки (тогда это называлось, по-моему, «барахлом»). Шмотки на все сезоны, на все вкусы и на всю оставшуюся жизнь. И соответственно ходить во всем заграничном. Верх мечтаний каждой советской женщины от восемнадцати до восьмидесяти одного.
Мура отправилась в Париж преподавать французский язык посольским работникам. Характерная деталь или «примета времени», как тогда говорили: посольские работники языка не знали – мешали изучению языка, с одной стороны, бешеная погоня за удешевленным барахлом на распродажах, с другой – бдительность: общаться с коренными французами не рекомендовалось. Таким образом, девушка из Москвы учила дипломатов языку той страны, где они работали…
Нормально.
Ко всему вышесказанному добавим, что нашей Муре было 22 годика. А в 22 годика ой как хочется пройтись в красивых туфельках и в красивом платьице.
Но Мура была Мурой. Погуляв несколько дней по Парижу и позанимавшись со своими подопечными, она на вопрос посла, нравится ли ей Франция, ответила, что Франция ей нравится, но посольская кровать никуда не годится. Матрац не тот. Тут бы послу закричать: вот она, настоящая Принцесса на горошине! И выдать замуж нашу Муру, Принцессу, за своего посольского сына. Но посол нахмурился и заметил, что советские граждане, находясь на посту, должны спать даже на досках; у страны нет возможности тратить валюту на мягкие матрасы… Помолчал и добавил с издевкой:
– Товарищ Егорова, если вам и впрямь не нравится кровать, пожалуйста, купите себе другую в счет жалованья. – А про себя подумал: «Хорошо я тебя отбрил».
И все посольские радостно закивали и захихикали: какой мудрый у нас посол! Ха-ха! Кто же будет покупать за свой счет мебель в Париже, когда… Ах, когда в Париже такие шелка и духи, платья и костюмы, ботиночки и чулочки.
Каково же было удивление посла и прочих посольских чинов, когда к ним в посольство привезли дорогую кровать с отличным матрасом. И Принцесса Мура стала на той кровати спать. Все свое жалованье она ухлопала на эту покупку. Но в Москву кровать увезти не дали. А Мура особенно и не горевала. В Москве, в Замоскворечье, у нее была своя кровать, не хуже.
Да, наша Мура была настоящей Принцессой. Попав в капстрану, в парадиз для любого советского гражданина, ухитрилась сохранить чувство собственного достоинства. Осталась человеком.
Нет, ребята, вы, нынешние, в этой сказочке о Муре ничегошеньки не поймете. Не поймете, в чем же доблесть нашей Принцессы на горошине.
Откуда вам знать, как советский командированный готовился к поездке в капстрану? Допустим, в Швейцарию. Допустим, на десять дней. Вы небось думаете, что он перелистывал путеводитель – интересовался, как бы съездить на денек в Альпы? Или уточнял что-нибудь в докладе, читать который его направили?
Ничего похожего! Первым делом будущий командированный доставал из загашника старый кипятильник и дедовский перочинный ножик с открывалкой для консервов. А жена в это время укладывала в чемодан две бутылки «Столичной», четыре баночки черной икры, пачку индийского чая со слоном, палку сырокопченой колбасы (колбаса измерялась не в граммах-килограммах, а в «палках»), полпачки сахара-рафинада. Несколько банок тушенки. И сухое печенье, лучше крекер… Довольство на десять дней.
«Столичная» и икра – для подарков. Все остальное для собственного потребления. Завтраки – в отеле. Обедом часто угощают. А если не угощают, можно перетерпеть. Зато вечером советский товарищ кипятил у себя в туалете воду, заваривал чаек, открывал тушенку или грыз сырокопченую колбасу с крекером… А валюта, предназначенная на обеды-ужины, оставалась у него в кармане. Не думайте, что это были хорошие деньги. Чудовищно скаредная советская власть экономила каждый капиталистический грош. Валюта шла сперва на Коминтерн, а потом на Кубу и на ближневосточных диктаторов.
В Европе принято давать чаевые. Но, насколько я знаю, только две женщины из СССР оставляли щедрые чаевые. Наталья Сергеева, главный редактор «Нового времени» (о ней речь пойдет ниже), и Мариэтта Шагинян. Обе большие чудачки. Да еще мой муж отказывался есть сырокопченую колбасу и возить кипятильник – слишком долго прожил в Германии, но я этого барства ему не прощала.
Долго-долго можно рассказывать о советском человеке на Западе… И только тогда, когда все расскажешь, оценишь Мурину простоту…
5. Те, другие. Павел Улитин
В детстве я не знала, что, подобно легендарной Атлантиде, ушел под воду целый культурный материк – Серебряный век. И это естественно. В ту пору, когда русских интеллигентов пачками «выводили в расход» – убивали, сажали и высылали из страны, я еще даже не вывела первых слов в тетради в косую линейку.
Но как получилось, что я не знала в молодости людей, живших со мной рядом, людей моего поколения, моих ровесников и даже людей моего круга? Не знала ифлийца Павла Улитина, который был, очевидно, всего на курс моложе меня78. Не знала вообще никого, кто не впал бы в советско-коммунистический кайф. Да, других я не знала. Даже не подозревала об их существовании! И на это у меня одно объяснение: я жила за железным занавесом. В закрытом обществе, обществе, где, как сказал поэт, «наши речи за десять шагов не слышны». Людям XXI века этого не понять.
И вот шестьдесят лет спустя читаю прозу Павла Улитина в журнале «Знамя» за 1996 год (№ 11). Читаю его «Поплавок». И еще: читаю аккуратные машинописные странички самиздата – ненапечатанного улитинского текста под названием «Путешествие без надежды». Читаю полемику в «Литгазете» – спор между Зиновием Зиником из Лондона и Аллой Латыниной о «Поплавке». Внимательно разглядываю два портрета Улитина: один в «ЛГ» и другой, принесенный вместе с машинописным текстом. Помню я это лицо или не помню? Нет, не помню.
Узнаю из краткой вступительной статьи автора публикации в «Знамени» М. Айзенберга, что в 1938 году, когда Улитину стукнуло аж 20 лет, его и трех его товарищей арестовали. И вроде бы «за дело» – ребята создали свою пар-гию – «Ленинскую народную партию». Неслыханно! Партия в СССР была одна – ВКП(б).
В тюрьме, в Бутырках, Улитина мучили, избивали. Перебили кости: ребра, ногу. Бросили в карцер избитого, больного. Там у него начался гнойный плеврит, потом сепсис. Однако спустя шестнадцать месяцев Улитина, видимо случайно, освободили. Бывало и такое. Далее просто цитирую вступительную статью Айзенберга.
«После войны он (Улитин. – Л.Ч.) опять приехал в Москву, учился на заочном отделении Института иностранных языков, работал преподавателем английского языка, а в 1951 году был арестован вторично. И опять Улитину “повезло”: отправили его не в лагерь, а в ЛТПБ – ленинградскую тюремную психбольницу. Он выжил еще раз и, уже после выхода из ЛТПБ, окончательно осел в Москве. Здесь ему еще пришлось пережить обыск 1962 года, во время которого у него было изъято все им написанное – все рукописи, все черновики, все записные книжки».
Арестовали Улитина в первый раз, когда он был студентом ИФЛИ.
В общем, трагическая биография сына века, не согласного с этим веком.
И вот первая публикация П. Улитина в «Знамени»: авангардистская проза, поток сознания, коллаж, инсталляция – словом, не роман, не повесть, а «текст». Написано, очевидно, в 60-х, то есть тогда, когда во всем мире такого рода литература переживала подъем, а писатели СССР, абсолютно все – хорошие и разные – понятия не имели, что так вообще можно писать. Соцреализм вовсе не был прерогативой писателей, стопроцентно поддерживавших власть. Считать так – большая ошибка. Спор шел не о том, как писать, а о том, что или, скорее, о чем писать. Выражу кощунственную мысль: роман Гроссмана «Жизнь и судьба» создан в лучших традициях соцреализма. Когда его после неимоверных мытарств опубликовали, меня удивил гроссмановский стиль. Удивил старомодностью и неинтересностью… Писать как Гроссман после Набокова, Платонова, Джойса и после сотен уже прочитанных тогда в России западных писателей казалось по меньшей мере странно. А то, о чем писал Гроссман, было уже известно каждому более-менее интеллигентному человеку. Все-таки роман – это не философский трактат, не политологическое исследование… Это – искусство[Кстати, уже первое опубликованное произведение Солженицына было написано ни с чем не сравнимым языком. И этому своему языку писатель остался верен.].
Повторяю азбучные истины, потому что хочу подчеркнуть: именно никому не известный Улитин искал новые современные средства выражения, а наши «классики» безмятежно паслись на нивах соцреализма. Но это просто отступление. Вернемся к Павлу Улитину…
Каждый роман, повесть, стихотворение – закупоренная бутылка с запиской, брошенная в бурную реку времени. Особенно книга не признанного при жизни автора. Дойдет ли весть из бутылки до современников или до людей другого поколения? Как наше слово отзовется?
До меня тексты Улитина дошли… Раскавыченные, иногда слегка переиначенные цитаты из книг разных авторов – от Хемингуэя (весь «Поплавок» – рыбная ловля – парафраз романов Хэма, так называли в СССР Хемингуэя и в 30-х, и в 60-х) до Джойса, от Есенина до Мандельштама, от Ростана до Ремарка. И это обилие книжных цитат – безусловный знак нашего отчаянного безвременья, ведь многие генерации советских граждан сохранили душу живу, выжили благодаря книгам. Все другое оказалось под запретом: вольный разговор, путешествия, «сладкая жизнь», богатство, приключения. Поневоле мы все стали книгочеями, благо были великие русские классики, благо Улитин читал на трех языках… Да, обилие цитат понятно… «Романы из школьной программы, на ваших страницах гощу…»
И думаю, все наше поколение к месту и не к месту бормотало строчки Пастернака, Цветаевой, Мандельштама, Слуцкого… «Когда русская проза пошла в лагеря <…> / вы немедля забыли свое ремесло. / Прозой разве утешишься в горе? <…> / Словно утлые щепки, вас влекло и несло, / вас качало поэзии море». «Поэзии море» качало и простых смертных.
Понятно и узнаваемо не только это бормотанье стихов, эти цитаты… Понятны мне и имена: Яша Миндлин, Ника Балашов. Их курс следовал сразу за нашим. И Шурик Ше (Шелепин) – наш общий ифлийский позор. И ведомое только ифлийцу выражение: «Все, что сделано, – все вопреки, а не благодаря» – отзвук бесконечного спора полуопальных «лукачистов», наших любимых педагогов, с критиками-ортодоксами: может ли, к примеру, дворянский писатель написать правду о жизни общества вопреки своему дворянскому (классовому) естеству…
А сколько у меня с автором оказалось общих знакомых: Леонид Лиходеев, Борис Слуцкий, Елена Голышева, Борис Изаков, Николай Оттен79… И я, как и он, могу от своего имени сказать: «Таруса – не роскошь, а необходимость…» Таруса Анастасии и Али Цветаевых. Таруса Паустовского, Таруса альманаха «Тарусские страницы», Таруса как место паломничества непризнанных художников и сына Леонида Андреева, не того, кто написал философско-мистическую «Розу мира», а другого сына – из Швейцарии, с женой, дочерью Чернова – крупнейшего деятеля партии социалистов-революционеров. Кто только не приезжал на моей памяти в Тарусу, кто там только не жил, – от писателей Юрия Казакова, Сергея Крутилина, Н. Заболоцкого до вдовы Осипа Мандельштама Надежды Мандельштам.
Не менее важное – это знаковые имена. Они понятны всем гражданам России 60-х годов. «Аджубей – босс». «Бей, Аджубей, без промаха». Он и «вдарил». Конечно, «без промаха». Конечно, он – «босс» – зять самого генсека Хрущева, редактор «Известий», сын знаменитой кремлевской портнихи Нины Матвеевны Гупало. Бравый парень, жизнелюб. Как говорили тогда: «Не имей сто рублей, а женись как Аджубей». Сейчас, в XXI веке, его записали чуть ли не в диссиденты. Какая чепуха: он был символом той странной эпохи, которую Эренбург назвал «оттепелью» и за которой не последовало весны. Символом смелости в дозволенных пределах и тщетной попытки отделить Ленина от Сталина, «необоснованные» репрессии от «обоснованных»…
Среди знаковых фигур и Ардаматский – автор «знаменитого» антисемитского фельетона «Пиня из Жмеринки» в журнале «Крокодил»80. За этим «Крокодилом» люди буквально гонялись, передавали из рук в руки… Знаковая фигура и Л. Овалов – поставщик детективов, о герое которых, майоре Пронине, советском Пинкертоне, ходило не меньше анекдотов, чем о Чапаеве. Знаковое произведение также «Первые радости» Федина, старого писателя, который, по-видимому, из страха сочинял черт знает какую тягомотину. Федина в ту пору называли «Чучелом орла» и «Агентом собственной безопасности». А И.И. Пузиков? Кто из людей, причастных к литературе, не знал многолетнего главного редактора Худлита – Издательства художественной литературы?
Но что это я все присосеживаюсь к Улитину? Даже в своей анкетной биографии: два языка в совершенстве, два – со словарем, преподаватель, переводчик Джойса и Ростана, друг и наставник целой группы молодежи, – он сильно отличался от усредненного интеллигента-москвича, а уж по прочитанным мной текстам видно, что Улитин и безусловно талантлив, и по-настоящему образован, чего никак нельзя сказать об усредненном интеллигенте совкового разлива, к коим, увы, не кокетства ради, я причисляю и себя. Большинство из нас тогдашних – полузнайки, безобразованцы. Улитин – эрудит.
И вот что тоже знаково: в своей зрелой жизни Павел Улитин апеллировал не к своему (нашему) поколению, а к поколению наших детей, к поколению моего сына. И публикация Айзенберга, и статья в «ЛГ» Зиновия Зиника, и обладательница ненапечатанных «текстов», друг Улитина Лена Шумилова – друзья моего сына.
Но, как уже говорилось выше, у Улитина была еще своя биография – биография политкаторжанина, если вспомнить старый дореволюционный термин. Чашу сию Улитин испил до дна: два ареста, пытки, психушка, наконец обыск и конфискация всего написанного, то есть рукописей, которые якобы не горят.
Естественно, эти трагические события не могли не отразиться в улитинских «текстах». Один из рефренов этих «текстов»: «Когда я сидел в Бутырках…» Так фронтовики говорили: «Когда я воевал в 2-й Гвардейской дивизии…» А простые смертные: «Когда я лежал у Склифосовского…» А пижоны в XX веке: «Когда я пил чай у Пастернака (Ахматовой, Булгаковых, Заболоцкого)» или «Пил водку с Бродским (Барышниковым, Неизвестным)…».
Отправной пункт Улитина – Бутырки… Иногда идет и расшифровка «Бу-тырок». Например, в «Поплавке»: «Его раздели догола, связали ноги, надели смирительную рубашку и – 6 человек вокруг одного лежачего – били сапогами до потери сознания, потом один бил в грудь подкованным сапогом связанного и привязанного к кровати. А потом один душил, и кровь шла горлом, и он потерял сознание». И это тоже из жизни моего (нашего) поколения!
А кончается отрывок так: «Когда вы сидели в ресторане “Прага” и выпили в четвертый раз, ему в Бутырках ломали четвертое ребро…» О боже, ведь это парафраза из «Войны и мира»: «В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой англез… с графом Безуховым сделался шестой уже удар…»
Да, в такую минуту или, скорее, вспоминая такую минуту, Павел Улитин вспоминает и Толстого. И это тоже наше (мое) поколение…
В 2011 году я прочла еще один текст Улитина, «Разговор о рыбе», изданный ОГИ в 2002 году.
И эта публикация поразила меня и талантом автора, и узнаваемостью улитинских цитат-ребусов. Но больше всего тем, что по длинной цепочке имен – одних только имен собственных – можно безошибочно воссоздать атмосферу лет, о которых рассказывает автор.
Первоначально текст был подписан Устен Малапагин. Сразу вспоминаешь многое… Вспоминаешь, с каким восторгом мы, тогдашние, смотрели французский фильм «У стен Малапаги»81. Фильм этот был снят в 1949 году. Эта лента о любви с гениальным Жаном Габеном поразила нас в самое сердце. Габен стал надолго нашим героем. Не инсургент, не боец, а человек с обостренными чувствами долга и справедливости.
И тут же рядом еще одна примета времени. Совсем из другой оперы. Еще в ИФЛИ мы переиначивали слова. В строчке «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» прочитывали грузинскую фамилию Брожулия. Поэт Ваншенкин рассказывал, что в ту же игру он играл с Арсением Тарковским в 60-х. Тарковский придумал «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» вместо «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», а Костя в ответ придумал «Угодили комсомольцы на Гражданскую войну» вместо «Уходили комсомольцы…».
В тексте «Разговор о рыбе» Улитин продолжает игру – вместо сенатор Фулбрайт пишет сенатор Фу-блядъ… Об американском сенаторе Фулбрайте, председателе сенатской комиссии по иностранным делам, тогда было много упоминаний в печати – он играл роль пугала.
Но естественно, что у автора, который жил в стране, склонной к литерату-роцентризму, превалируют писательские фамилии. И что характерно, Улитин остался равнодушным к попыткам части интеллектуалов воскресить в 60-х годах дореволюционных русских философов – Вл. Соловьева, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, Льва Шестова, В.В. Розанова. Да и к западным философам XX века не проявил интереса. Даже фамилия модного в ту пору Хайдеггера встречается в «Разговоре о рыбе» всего один раз.
Зато очень много имен авторов переводных книг, которые тогда («оттепель») буквально хлынули на книжный рынок Советского Союза. Тут и Артур Миллер, и Франсуаза Саган, и Апдайк, и Айрис Мердок, и Харпер Ли, и О’Нил… Тут и западные классики первой половины XX века: Олдингтон, Голсуорси, Бернард Шоу. Тут и запрещенный Оруэлл – он упоминается много раз, – и полузапре-щенный Ионеско.
Но это все – известные фамилии. А Улитин, как сказано выше, блестяще использует и такие имена собственные, которые лишь из-за причуд нашей политики внезапно всплыли на поверхность, чтобы потом скрыться навсегда. Стоит только вспомнить, как они всплывали, и перед тобой встают картины той, уже, к счастью, ушедшей, реальности. И так четко встают, что страшно становится.
Вот Николай Шпанов. Он написал три шпионских романа – «Поджигатели» (1949), «Заговорщики» (1951), «Ураган» (1961). И в сталинские времена, вскоре после войны, нам эти политические ужастики, это несъедобное варево пришлось читать. Правда, я прочла только первый роман-кирпич «Поджигатели». О чем? О том, как американские «поджигатели», империалисты вынашивают и осуществляют свои планы, направленные на то, чтобы подорвать мощь и величие Советского Союза. Примерно таким языком были исписаны тысячи страниц романа. Добавлю еще одну деталь: поскольку Шпанов не знал ни азов международных отношений, ни иностранных реалий, в его распоряжение поступил известный журналист-международник И. Ермашев82. Ермашева мы с мужем знали, это был очень солидный товарищ, «правдист» – печатался в «Правде», жил в правдинском доме недалеко от Ленинградского проспекта. Ни фамилия Ермашев, ни тем паче истинная фамилия его, Ерухимович, на титульном листе шпановских романов не значилась. Но Ермашев разбогател, купил дачу в Красной Пахре, потом черт его попутал, и он пошел вразнос: дачу продал, а старую жену поменял на молодую… Шпановские деньги пробудили в Ермашеве какие-то непартийные инстинкты…
Не менее выразительно и имя Аннабеллы Бюкар, служащей посольства США в Москве. Ей подсунули любовника, и в любовном угаре эта дамочка подмахнула книгу, сочиненную нашими международниками, книгу под названием «Правда об американских дипломатах»83. Бог знает что творили американские дипломаты под пером Бюкар…
Да, я преклоняюсь перед талантом Улитина. Главное, мне кажется, что он нигде не сфальшивил, не преувеличил, не назвал ни одного лишнего имени.
P.S. В трагедии Павла Улитина был и свой сюжет, опять же неотделимый от времени моего поколения. Из четверых юношей, основавших свою, как им казалось, подлинно ленинскую партию, в отличие от фальшивой НЕленинской, только троих арестовали, четвертый – уцелел. И, как пишет автор вступительной заметки в «Знамени», «тень провокации в деле вполне очевидна». Эта же тема еще яснее прослеживается в «Разговоре о рыбе».
Увы, все послевоенное окружение Улитина, его молодые друзья и ученики, считали, что «четвертый» был провокатором. Это же думал и Улитин сам. И тут «органы» – будь они прокляты – сделали так, чтобы четвертого сочли стукачом, предателем, негодяем…
Я в это не верю. Да и факты противоречат такому предположению. По словам Айзенберга, Улитина через шесть месяцев выпустили из тюрьмы – умирать на воле! Однако десятки тысяч людей умирать на воле не выпускали – они гибли там же – в тюрьмах, в карцерах, на пересылках, в лагерях… Почему же не предположить, что и «четвертому» повезло – нарочно или случайно его оставили на свободе? Нарочно, чтобы на него «пала тень провокации». А может, просто следователей поменяли, и новый следователь занялся более увлекательными «делами»… А о «четвертом» просто забыл. Кто ведает, какое вонючее варево стряпалось органами в те времена? Не знают же друзья Улитина, кто донес на него в 1961-м, пожалуй, самом либеральном году ленинско-сталинско-хрущевской тоталитарной системы… «Четвертого», во всяком случае, давно уже не было в живых.
Вот какой странный сюжет. Счастливчик «четвертый» погиб совсем юным на фронте, но его стихи после смерти остались вроде бы «в строю». Мученик умер в 68 лет в своей постели. Первый его «текст» напечатали спустя десять лет после смерти, и он вызвал большой резонанс…
Обе жизни были трагичными – на одной выжгла свое клеймо Бутырка. На другой – подозрение в предательстве (сейчас говорят, что «четвертый» на фронте искал смерти). Но обе жизни носят одно общее клеймо: «Made in USSR» в 20-х годах! И оба были талантливы, и оба учились в ИФЛИ.
Глава V. ВОЙНА ВСЁ СПИШЕТ. ТАСС И Я, «КРЕМЛЕВСКАЯ ВЕДЬМА»
1. Военные странствия
Стыдно признаться, но я не верила, что Советскому Союзу предстоит Большая война. Вся Европа была в огне. И Советы потихоньку присоединяли к себе то Западную Украину и Западную Белоруссию, то Прибалтику. Повоевали и на той «незнаменитой», по словам Твардовского, войне с Финляндией… Все равно в Большую войну не верилось. Товарищ Сталин здорово заморочил нам голову.
Не верилось вплоть до 22 июня 1941 года, когда Молотов – тот самый Молотов, который заключил с Риббентропом сначала Договор о ненападении, а потом и Договор о дружбе и границах, – не сообщил, что уже целую ночь идет бомбежка нашей территории и что части армии Гитлера перешли границу и движутся по нашей земле.
Война застала меня в аспирантуре ИФЛИ. Июнь – самое горячее время для аспирантов. Экзамены.
Жила я с родителями в коммуналке в одном из переулков поблизости от Арбата. Первый муж Борис отбывал срочную службу в Брянске.
На следующий день после молотовской речи я съездила к нему. Вернулась. Быстро сдала оставшиеся экзамены. И спустя несколько дней ушла из аспирантуры. Странно было на фоне движущихся на Москву нацистских танков заниматься изучением немецкого писателя XVIII–XIX веков Гёльдерлина, «полетом его мыслей и языка», изучением писателя, который, как говорилось в старых учебниках, «отвергал всякую реальность».
Оформляя уход из аспирантуры, встретила Лию Канторович, самую хорошенькую и прелестную ифлийскую студентку. Лиечке было тогда лет 19–20, но выглядела она совсем юной девчушкой в простеньком летнем платьице, в босоножках и в белых носочках. Подлетев ко мне, Лиечка, лучезарно улыбаясь, поделилась радостью: ее зачислили на ускоренные курсы медсестер. Есть надежда быстро попасть на фронт. Предложила и меня записать на эти курсы.
В Лиечку был влюблен весь институт и, по-моему, пол-Москвы. Она только что вышла замуж за студента истфака МГУ. И вот она уже без пяти минут «мобилизованная» и «призванная»…
О судьбе Лии Канторович я узнала много лет спустя.
Примерно через месяц после нашей встречи в канцелярии ИФЛИ Лия попала в действующую армию на Западный фронт. А на передовую – 1 августа 1941 года. Помогала раненым на поле боя – с 7 по 20 августа. Всего тринадцать дней. А 20 августа погибла. В официальном письме командования, направленном в ИФЛИ, о гибели Лии говорилось так: «Во время атаки Лия вышла вместе с комиссаром N-ского полка, старшим политруком тов. Гурьяновым на линию огня. Они повели бойцов вперед, на разгром врага…»
Лия Канторович умерла геройски. Тем не менее звание Героя ей не присвоили и не назвали наш Ростокинский проезд проездом Лии Канторович. Вообще долго замалчивали ее подвиг…
В годы войны в СССР уже проводилась сталинская антисемитская политика. И имя Лии Канторович никак не вязалось с тем, что говорили после войны почти открыто: «Евреи не воевали, евреи отсиживались в Ташкенте и ели русский хлеб…»
Впрочем, зачем была Лии после смерти Звезда Героя? Что это изменило бы в ее судьбе?
В тот день я Лиечке ничего не стала говорить, хотя инстинктивно чувствовала, что она зря торопится. И вместе с тем прекрасно понимала ее порыв. Ифлийские мальчики и девочки из интеллигентных семей считали себя обделенными; им казалось, что они опоздали родиться. Великую Октябрьскую революцию сделали без них. Новую власть трудящихся установили не они. 37-й год мало кого образумил.
И вот опять эпохальное время. Надо успеть. «Но мы еще дойдем до Ганга…» – писал главный ифлийский поэт Павел Коган. Войны и Революции мыслились как единое целое.
Меня спас здравый смысл. Я уважала профессионалов и презирала неумех. Ну какая из меня фронтовая медсестра? Я плохо вижу, совершенно не ориентируюсь на местности. И вряд ли сумею вытащить раненого с поля боя.
Еще меньше я годилась на роль радистки. В технике ни бум-бум.
Из ифлиек, которые связали свою судьбу с действующей армией, больше всех повезло Лене Ржевской84. Она сама об этом рассказала в своих книгах. Ржевская участвовала как переводчица в опознании трупа Гитлера, то есть была, можно сказать, свидетельницей одного из самых драматических моментов в истории XX века. Но, как известно, опознавали труп Гитлера офицеры «Смерша». И непонятно, что делала Лена Ржевская в остальные моменты своего пребывания в «Смерше». Ведь «Смерш» был одним из самых гнусных карательных органов при сталинском режиме.








