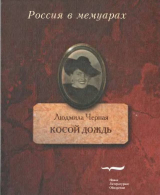
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 47 страниц)
Младенец, то есть я, ничего не ведал о грядущих событиях, лежал себе в кружевах с соской во рту.
Будучи человеком любопытным, я на старости лет заглянула в немецкий справочник «Kulturfahrplan», в котором дотошные немцы расписали всю человеческую историю не только по годам, но даже по месяцам! Из него я узнала, что происходило в мире в последнюю четверть 1917 года, то есть в самом начале моей жизни. Выяснилось, что, кроме событий в России, в мире ничего особо достопримечательного не стряслось. Мировая война продолжалась… шли «секретные переговоры между Австро-Венгрией и Антантой… Декларация британского министра иностранных дел обещала евреям места проживания в Палестине, что вызывало сопротивление арабов… Финляндия объявила себя независимой от России… Произошли изменения в конституции Нидерландов – всем партиям разрешено было участвовать в выборах. Клемансо, президент Франции, получил кличку “тигр” и фигурировал как организатор победы Антанты над Германией… Расстреляли в Париже знаменитую танцовщицу Мату Хари за шпионаж в пользу Германии… Приняли новую конституцию в Мексике… Образовался Верховный совет Объединенных сил союзников, который просуществовал до 1926 года… Пилсудский перешел на сторону Антанты… В Южном Китае власть взяло в руки правительство Гоминьдана во главе с генералиссимусом Сунь Ятсеном…».
Словом, как будто и не было этих 90 лет. Все те же евреи, которым «мешают селиться», все те же арабы, которые «сопротивляются». И Олланд – «голубь», так же как Клемансо – «тигр», на авансцене событий. И тогдашний Джеймс Бонд – Мата Хари до сих пор у всех на слуху (шпионы почему-то всегда в центре внимания). И Китай говорит свое веское слово…
Будучи человеком с гуманитарным образованием, я захотела узнать еще, что происходило в 1917 году в литературе и искусстве. Оказалось, ничего особо интересного, разве что появилась поэма Блока «Двенадцать». Эптон Синклер выпустил книгу «Король Уголь», а немецкий драматург Франк Ведекинд написал пьесу «Геракл». В Париже открыли музей Родена, а в России создали Пролеткульт – революционно-культурную организацию. В Америке первая звезда экрана Мэри Пикфорд снималась в мелодрамах «Бедная маленькая богачка» и «Великая маленькая американка». И еще одна сенсация – Чарли Чаплину было положено жалованье в один миллион долларов в год (не слабо!). Нобелевскую премию по литературе получили К. Гьеллеруп и X. Понтоппидан – оба датские писатели.
Сейчас эти имена никому не известны, но я-то могла их услышать, ведь всего через семнадцать лет после награждения этих писателей я стала студенткой литературного факультета ИФЛИ (Институт истории, философии и литературы), и притом западного отделения. Но нет, не услышала… «Sic transit gloria mundi». Древние были правы – «Так проходит слава мирская». В общем, повторяю, если не считать Октябрьской революции, в последний квартал 1917 года ничего выдающегося в мире не произошло.
Но, как бы то ни было, время моего рождения обозначено точно.
Однако мне все же хотелось знать, не было ли какого-нибудь персонального знака свыше? Какого-нибудь знамения в те дни?! Скажем, погодной аномалии типа того, что в середине декабря 1917 года пошел дождь и температура достигла 15° тепла по Реомюру (тогда температуру в России измеряли по Реомюру, а не по Цельсию!). Но ничего подобного не происходило! И вдруг уже в XXI веке я вычитала из газет, что с ноября 1917 года продукты в Москве стали выдавать по карточкам. И тут же выписала нормы их выдачи. Привожу их: «Хлеб Цфунта в день. Крупа – 1 фунт в день. Сахар – 2 фунта в мес. Жиры – Ул фунта коровьего масла на 1-й и Ул фунта растительного масла или сала на 2-й купон. Яйца – неожиданное получение яиц дает возможность выдавать по 1 яйцу на первый яичный купон».
Думаю, что это и был знак свыше. Знамение. Карточки, талоны, «заборные книжки» и купоны преследовали меня всю молодость и все зрелые годы. (Всё и вся было нормировано.)
Хватит! Пора переходить от времени моего рождения к месту.
Ведь согласно правилам французского классицизма произведение должно иметь единство места, времени и действия. Несравненный Буало объяснил это в своем знаменитом стихотворном трактате «Поэтическое искусство».
По-моему, каждая жизнь – тоже произведение, со своей фабулой, началом и концом. Сейчас бы сказали, что жизнь – это хеппенинг или перформанс. Не согласна. В жизни есть сюжет. Только непонятно до поры до времени, какой именно.
Итак, следуя за Буало, скажу о месте. Место – Москва. А если точнее, то не Арбат, где я в роддоме провела, наверное, не больше недели, а Хохловский переулок. Трехэтажный дом в просторном церковном дворе, обнесенном узорчатой железной оградой. По-моему, все дворы, особенно церковные, были тогда обнесены такими же или очень похожими оградами.
Хохловский переулок – тихий, зеленый, с булыжной мостовой, – петляя, сбегал вниз от Покровских ворот к Солянке. Он находился в пределах Бульварного кольца «А», в исконном центре Москвы, хотя и не в самом престижном районе, таком, к примеру, как районы Пречистенки, Остоженки, Поварской или Петровки, обеих Дмитровок – Большой и Малой, Кузнецкого Моста…
В первом десятилетии XXI века, до которого я чудом дожила, выяснилось, что скромный и тихий в мое время Хохловский переулок был прямо-таки напичкан древностями.
Оказывается, в Хохловском была в XVII веке усадьба Татищева, которую, правда, разрушили, но в начале XIX века на ее фундаменте знаменитый архитектор Семен Эйбушиц возвел тоже весьма примечательное здание. Неподалеку от этого дома стояли палаты дьяка Емельяна Украинцева, дипломата, по легенде привезшего в Россию прадеда Пушкина Ибрагима Ганнибала. После палаты перешли к князьям Голицыным, а в 1770 году участок был выкуплен для архива Коллегии иностранных дел. Через дом от бывших белокаменных палат находится здание, построенное сразу же после пожара Москвы в 1812 году… И наконец, правая часть дома № 3, да и весь дом были перестроены из барочных палат XVIII века. В этом именно доме, в полуподвальном этаже, умер писатель Скиталец (Петров), друг Горького. Я его читала в юности. Теперь он забыт.
Но самой-пресамой древностью оказалась как раз та церковь в Хохловском, под сенью которой я прожила первые двадцать лет своей жизни.
Я прочла также, что Хохловский переулок был богат садами. Подтверждаю – садов и в мое время было много. И никаких точечных застроек.
Из всех описаний Москвы моего детства мне нравится лишь описание Андрея Белого в его книге «Москва». И еще загадочные строчки Есенина: «Я люблю этот город вязевый, / пусть обрюзг он и пусть одрях. / Золотая дремотная Азия / Опочила на куполах…» И у Белого, и у Есенина я явственно ощущаю Москву тех дальних годов – расхристанную, пеструю, как бисером вышитую диковинными фасадами особнячков и колоколенками церквушек и часовен. Я помню еще белый, совершенно прелестный Китай-город и прилепившиеся к одной из его стен книжные развалы у Ильинки. Мы с папой иногда ходили туда гулять. Помню шумную толкучку Сухаревку и Сухареву башню, которую сохраняли бы во всем мире как зеницу ока, а у нас – взяли да и взорвали в конце 30-х годов при Сталине. Я слышала взрыв – ночевала тогда в домишке без водопровода и канализации на Третьей Мещанской, то есть в районе теперешнего проспекта Мира у моего первого мужа Бориса. Помню Триумфальную арку в центре города… Прочла недавно в какой-то газете воспоминания примы-балерины Большого театра Ядвиги Сангович, что на Лубянке, на том месте, где стоял памятник Дзержинскому, был большой фонтан. И мне показалось, что я этот фонтан помню. Зыбкое такое воспоминание. Зато отчетливо помню, с каким придыханием взрослые говорили о таинственном Хитровом рынке с его ночлежками и их обитателями – бездомными, беглыми, ворами, нищими, скупщиками краденого и всякой шпаной. Хитров рынок был недалеко от нашего Хохловского переулка.
Как я теперь понимаю, Москва трудно давалась новой советской власти. По-выселяли домовладельцев, позакрывали частные магазины. Но длинный желтый особняк напротив нашего дома мы по-прежнему называли Домом Кувшинова, как выяснилось недавно, известного мецената. А ближе к Покровским воротам стоял Дом Оловянишникова, доходный дом, как и наш, батюшкин (то есть нашего священника), но несравнимо более шикарный. Оловянишников был богачом. На его заводах лили церковные колокола. И дом его представлял собой серую махину в стиле модерн начала века с огромными окнами. Через окна я, маленькая, видела, что комнаты внутри поделены не только вдоль, но и поперек, по горизонтали, образовав вторые этажи. На первом этаже окно уходило куда-то в потолок, а на втором – начиналось от пола. В США такие окна теперь в моде. Представляю себе, сколько людей уместилось в Доме Оловянишникова! Естественно, о Кувшинове и Оловянишникове и об их деятельности я узнала только в 90-х. В моем детстве от них были одни лишь фамилии. И в этом было что-то призрачное. Нынешний ЦУМ звался, конечно, «Мюр и Мерилиз», булочная на Тверской – Филипповской, многоэтажный дом в переулке на Тверской домом Нирензее. Когда шли в Художественный театр, говорили: «Пойдем в Камергерский», хотя Камергерский переименовали в проезд Художественного театра. На Мясницкой был «Чай Высоцкого», на Никольской – «Аптека Ферейна» (не Брынцалова, а настоящего Ферейна), шоколад был «Эйнем». А вот «Елисеевский» как звался, так и остался «Елисеевским», а Сандуновские бани – Санду-новскими, или Сандунами.
Да, совсем забыла: опекушинский Пушкин стоял еще там, где его поставили, в начале Тверского бульвара, и смотрел не на площадь, а на Страстной монастырь. Слава богу, памятник перенесли задолго до мэра Лужкова. Если бы это произошло в годы лужковского правления, его бы, возможно, упекли в Бибирево, а на его месте водрузили бы десятиметрового Ивана Грозного работы Церетели. В моем детстве и гениальный андреевский Гоголь стоял, где ему положено. Уж сколько напридумывал, нафантазировал Николай Васильевич, но такого и он не смог бы себе представить, что его замечательный памятник работы скульптора Андреева будут таскать по Москве и что на месте этого памятника установят какого-то не то Чичикова, не то другого господина, который «доволен собой, и женой, и своей конституцией куцей». Нету спаса от наших городничих ни живым, ни мертвым!
Но что это я все о грустном? Детство мое вовсе не было грустным. Воспоминания скорее забавные, нежели печальные. Например, помню, что по дворам ходили татары с огромными мешками за спиной, они кричали: «Старье берем!» Возглас этот трансформировался у нас во дворе в «шурум-бурум!». По мере надобности татар зазывали в квартиру (не боялись, что они украдут что-нибудь) и предлагали им всякое барахло – от неисправных керосинок до сильно поношенных валенок. Старьевщики платили, конечно, гроши, но все же выполняли чрезвычайно полезную функцию – квартиры освобождались от ненужных вещей, и ненужные вещи обретали нового хозяина, а не просто отправлялись на свалку. При тогдашней нищете это было вполне разумно – покупать старые вещи. Да и продавцам сервис старьевщиков облегчал жизнь – не надо было никуда тащиться. И не только это. Вспоминаю государственные скупки в дни моей молодости. В этих скупках и комиссионках приходилось выстаивать в очередях, а потом выслушивать хамские замечания от зажравшихся оценщиц, с уничижительной ухмылкой рассматривавших наши поношенные платья и пальто. То же и в недавних пунктах приема стеклотары, то бишь бутылок и банок.
В ту пору было много нищих, особенно на церковных папертях. Им подавали милостыню без всякого презрения и гражданского негодования. Ведь знали: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Нищие просили подаяния «Христа ради». И существовал даже глагол – «христарадничать», который употреблялся не только в прямом, но и в переносном смысле. «Перестань христарадничать» – попрошайничать.
У Покровских ворот был кинотеатр «Волшебные грезы». Его потом, увы, переименовали в «Аврору». Увы – потому что название «Волшебные грезы», а также «Великий немой» – кинотеатр на Тверском бульваре – мне ужасно нравились в детстве. В кино у Покровских ворот стоял рояль для тапера и показывали Гарольда Ллойда, Джеки Кугана (очаровательного малыша), Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд, американские ленты моего детства. Видимо, это происходило в годы нэпа, когда Америку на короткое время реабилитировали. Даже вспоминали слова Сталина: «…русский революционный размах имеет все шансы выродиться на практике в пустую “революционную”маниловщину, если не соединить его с американской деловитостью в работе». Цитирую по памяти. Напротив «Волшебных грез» бросались в глаза «советские» вкрапления: чаны с горячим асфальтом, вокруг которых вились беспризорники – чумазые мальчишки в лохмотьях лет десяти – двенадцати. Обыватели их боялись. Беспризорники могли вырвать сумочку, разрезать карман. Они были завшивлены и больны. Все курили, и, по слухам, у них водились наркотики – кокаин. По-моему, первое заблатнение языка, со всеми этими модными тогда словечками «малина», «буза», «бузотер», «шамать», «шухер», «марафет», «урка» или «урка-ган», «гоп со смыком» и тому подобными, пошло от беспризорников. Впрочем, советская власть, следуя заветам пролетарского классика Горького, с сочувствием относилась к этим детям дна, «огаркам» – страшному наследию революции и Гражданской войны. Уже в начале 30-х вышел фильм «Путевка в жизнь» и была издана прекрасная книга Макаренко «Педагогическая поэма». Жизнь беспризорников в них опоэтизирована. Считалось, что беспризорников, не зараженных чувством собственности и прочими буржуазными предрассудками, легче «перековать», нежели детей из благополучных семей. Их и перековывали отличные педагоги, но обязательно с помощью чекистов, то есть будущих гэбэш-ников. Вообще чекисты в пору моих детства и отрочества ходили в героях. И не без помощи передовой, как теперь сказали бы – продвинутой, интеллигенции типа Бриков – Лили и Оси.
Мои родители к ней не принадлежали. Скорее, считались обывателями. За что им запоздалое спасибо.
Итак, с единством времени и места я вчерне разобралась. Осталось еще единство действия. Но те эпохальные годы я пролежала, проползала на четвереньках, а затем проковыляла на своих еще не окрепших детских ножках и действовать самостоятельно не могла. Даже мало что запомнила, поскольку не была вундеркиндом, что мама с упреком отмечала еще очень долго. С упреком, потому что в ее семье в далекой Либаве (Лиепае) дети уже в 4 года читали на трех языках. А я с трудом научилась читать-писать по-русски в 7 лет. И всю жизнь не могла быстро сказать, где правая рука, а где левая, из-за чего чуть не попала в годы увлечения наукой педологией в категорию умственно отсталых детей. Но тут великий Сталин очень кстати отменил эту науку, как в будущем отменил генетику и кибернетику. Так что я просто обязана сказать: «Спасибо товарищу Сталину за мое счастливое детство».
И все же я решила коротко написать о тогдашних эпохальных событиях, ибо все мои 96 лет пришлось хлебать то, что было замешено и заварено именно во время Революции 1917 года, Гражданской войны и военного коммунизма.
Впоследствии меня потрясала полная полярность трактовки этих событий. Начну с восторженного приятия. Минимум 20 лет жизни именно так, то есть с восторгом, я относилась к Революции и как следствию ее к заварухе-нераз-берихе во всей стране. У многих хороших и разных поэтов и кинодеятелей Гражданская война выглядела прямо упоительно: Чапаев громил беляков, его Анка строчила из пулемета, товарищи Ворошилов и Буденный скакали с красными флагами на конях, Щорс несся на своей тачанке как угорелый. Опять же, «гремели трубы» Котовского и, как нам сообщили еще в годы «оттепели», товарищ Сталин на Южном фронте не послушал товарища Ленина и не помог товарищу Тухачевскому взять Варшаву («Даешь Варшаву!»). А где-то посреди всего этого бардака мотался на своем легендарном поезде Лев Давидович Троцкий, что мы, однако, узнали лишь в самом конце XX века, когда с имени Троцкого было снято табу.
Вот как описывал очень хороший поэт Эдуард Багрицкий Гражданскую войну в либретто оперы «Дума про Опанаса»:
Как с востока дунул ветер
Буревой,
Закружилось все на свете.
Конь заржал под грохот бубна
Боевой.
Душен день! Земля в пожаре.
Подымайся, пролетарий!
Тут все убедительно, кроме «грохота бубна»: какой-то неуместный цыганский мотив.
Начитавшись таких стихов, юноши и девушки 30-х годов завидовали поколению времен Гражданской войны с его романтикой боев, красными знаменами и тачанками, а главное – со святой верой в Мировую Революцию. И вот юный поэт из ИФЛИ Павел Коган написал стихи, ставшие просто-таки знаменательными:
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.
Да, замечу, что еще со времен Багрицкого ветер тоже был у поэтов в большом спросе. Муж моей тогдашней подруги Раи Либерзон и мой друг Леня Шершер2 – опять же из ИФЛИ – всю свою короткую жизнь прославлял «ненавидевший слезы и смерть презирающий ветер» как спасение… От чего?
К моему величайшему удивлению, события Гражданской войны были довольно сухо, я бы даже сказала кисло, описаны в «библии» сталинской эпохи – книге «История ВКП(б). Краткий курс», которую мы зубрили в институте почти наизусть. Особенно четвертую главу, якобы написанную товарищем Сталиным собственноручно. А нынче я «Краткий курс» перелистала без всякой ностальгии, даже с отвращением.
О Гражданской войне там такие строчки: «Колчак, Юденич, Корнилов, Антанта плюс председатель “реввоенсовета”» Троцкий (почему, собственно, реввоенсовет в кавычках, он же существовал?), который все время то «срывал план» (какой?), то подозрительно «предлагал остановиться перед Уралом», то «разваливал работу на Южном фронте». В 20-х годах откуда ни возьмись, правда ненадолго, вылезла антипартийная группа «демократического централизма»: «Сапронов, Осинский, Смирнов и поддерживающие их на съезде Рыков и Томский». После чего в связи с выступлением генерала Врангеля Троцкий снова появляется на авансцене со своим «вредительским приказом». Но в конце концов Белая армия и Антанта потерпели поражение, и закончился период интервенции. Красная армия вопреки Троцкому победила.
Замечу в скобках, что не только у Сталина, но в такой же степени и у Троцкого была маниакальная ненависть к сопернику. Если Сталин буквально все неудачи и провалы своей политики объяснял происками Троцкого, то Троцкий винил во всем Сталина. Даже в приходе Гитлера к власти, хотя Гитлер, как-никак, был вполне автономной фигурой, и Гинденбург, тогдашний президент Германии, провозгласил его рейхсканцлером, не советуясь со сталинским Политбюро.
Я привела высказывания об этом периоде поэтов-романтиков и автора «Краткого курса» – не то Емельяна Ярославского, не то Сталина (книга вышла в свет без фамилии автора – «под редакцией комиссии ЦК ВКП(б)»). По слухам, написал ее все же Ярославский, а Сталин включил в свое собрание сочинений, что никого не удивило (нравы были такими!).
Для объективности даю слово и противоположному лагерю – контрреволюционерам. Очень убедительно написал о «белых» известный эмигрантский писатель Иван Шмелев: «Три года ОНИ (белогвардейцы. – 77. Ч.) бились в пожаре (как видим, “пожар” наличествует и у тех, и у других. – Л.Ч.). Не было оружия – ОНИ его добыли. С голыми руками пошли ОНИ… и доходили: до Орла – от Юга, до Казани – от Океана, до Петрограда – с Запада. Им ставили капканы, их предавали, их продавали, выбрасывали с пароходов в эвакуациях, оставляли больных и раненых в полях, в станицах. Предавали в тылах. Их расстреливали в спины. Сотни тысяч ИХ полегли в боях, сотни тысяч умучены по чрезвычайкам, брошены в овраги, в ямы, в реки, в моря. В плечи и в глаза ИМ забивали гвозди, резали ремни из кожи, ошпаривали руки и снимали “барские перчатки”… Кто напишет о НИХ достойное ИХ СЛОВО? История уже написала. Записанного не замазать».
Вот так, как говорят сейчас, «с точностью до наоборот»! Но я в раннем детстве не знала ни советских поэтов, ни «Краткого курса», сляпанного в 1938 году, ни тем более писателя Ивана Шмелева, который, к несчастью, оказался в Крыму, где свирепствовали Бела Кун и Землячка – герои моей юности, большевики-ленинцы. А сам Шмелев, как эмигрант, был предан у нас анафеме аж на 70 лет с гаком. Пришлось мне ориентироваться много лет исключительно на маму с папой. У мамы для обозначения грандиозных катаклизмов Гражданской войны было лишь одно слово: «Куровская». Это загадочное слово мама произносила с ужасом и отвращением. Путем дальнейших расспросов я выяснила: Куровская была тихой железнодорожной станцией, где папа – инженер по профессии и стоик по натуре – что-то строил, и сюда, в Куровскую, эвакуировалась вся наша семья. Эвакуировалась по той простой причине, что в Куровской еще водились мука и дрова. И там моя суперинтеллигентная мама жарила ржаные лепешки на чугунной печке-буржуйке. И над той же печкой, видимо, сушила мои пеленки. Там же она заболела сыпняком, сыпным тифом, буквально косившим людей в те годы. Папа иногда говорил: «Не так уж в Куровской было плохо», но мама махала руками и возражала: «Молчи, Борис. Это было ужасно!..»
2. Малиновый звон
В пять-шесть лет я уже начала кое-что понимать. Приплюсуем к 1917 году пять-шесть годиков, и станет понятно, что я стала осмысливать окружающее в 1922–1923 годах, то есть тогда, когда В.И. Ленин провозгласил новую экономическую политику. И когда эта политика начала давать свои плоды: рубль, вернее, российский червонец стал конвертируемым. Крестьяне начали пахать землю, нэпманы производить какие-то продукты, и люди вздохнули свободнее… Но, как я учила потом десятилетия подряд, «командные высоты» при нэпе оставались в руках большевиков.
Мои первые весьма отрывочные воспоминания о нэпе чисто гастрономические. Я, послушная, тихая девочка, ору благим матом и даже, кажется, сучу ногами, потому что мне впихивают в рот белый хлеб с черной икрой. Икра, видимо, паюсная – она антрацитового цвета. Реву я также, когда мне пытаются скормить суп с осетриной. Меня, дитя голодных лет, тошнит от жирной пищи сытых и богатых. Впрочем, икру я быстро освоила, а рыбную солянку – только четверть века спустя, после войны…
А вот и еще одно воспоминание, и тоже из области гастрономии. Видимо, мама считала, что маленьких детей надо кормить не абы как, а по рекомендациям специалистов. Каждый божий день на второй завтрак мне давали манную кашу на молоке с маслом, куда еще всыпали серый порошок под названием «железо». А каждый вечер – шпинат. Шпинат тогда считался прямо-таки эликсиром жизни. Помню такую сценку: обливаясь слезами, глотаю киселеобразный шпинат. И вдруг звонит телефон – мама, которая ушла с папой в гости, спрашивает у домработницы, все ли в порядке с ребенком. Ребенок, то есть я, рыдая, требует дать ему трубку и, набравшись храбрости, говорит, что шпинат есть не будет. Этот мой смелый демарш увенчался успехом, шпинат заменили вареной морковкой – тоже не ахти что, но все же лучше – «в борьбе обретем мы право свое», как говорили эсеры, которых большевики добивали как раз в то время.
Второй эпизод, связанный с моим кормлением, произошел на даче в Малаховке. На даче 20-х годов, которая коренным образом отличалась от дач 50-х, куда я возила сына. Если дачи 50-х были срубами, плохо приспособленными для житья, то в 20-х годах это – деревянные двухэтажные дома с красивыми застекленными террасами, с городской мебелью. И стояли тогда дачи не на заросших сорняками «участках», а в садах. В мозгу вертятся строчки Бориса Пастернака: «Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, / Прогулки, купанье и клумбу в саду». В 6 лет я жила с родителями на такой даче и бегала вокруг такой клумбы. Единственное, что на той даче мне не нравилось – это коза, которая паслась на лужайке сразу за калиткой. Вы уже догадались? Козу «арендовал» папа, чтобы поить меня козьим молоком. В отличие от мамы, верившей в чудодейственные свойства шпината, отец верил в козье молоко, как средневековый рыцарь в чашу святого Грааля. Надо ли говорить, что козье молоко было мне еще ненавистнее, чем шпинат?
И еще одно дачное воспоминание. Иногда под вечер откуда-то из другой половины дома появляется женщина в черном. Она безмолвно возникает и через какое-то время так же безмолвно исчезает. Я чувствую, что женщина привязана к этому месту, обречена вот так вечно скользить тенью по дорожкам, никого не замечая, ни с кем не разговаривая. Позже, когда я стала ходить в Третьяковку, мне показалось, будто я узнала ту даму в княжне Таракановой на картине Флавицкого. Смутный образ женщины на даче слился с образом несчастной княжны-самозванки, выдававшей себя за дочь Елизаветы Петровны. Стало быть, трагическую судьбу дамы я уже тогда почуяла нутром. Дети чуют нутром гораздо больше, чем считают взрослые.
Из рассказов взрослых позже поняла, что на даче в Малаховке, видимо, под домашним арестом какое-то время держали Марию Спиридонову. Имя Марии Спиридоновой звучало тогда громко. Легендарная личность. В 1906 году, в 22 года, она застрелила создателя Тамбовского отдела Союза русских людей Г.Н. Луженовского. За это эсерку Спиридонову приговорили к пожизненной каторге. На Нерчинской каторге она пробыла одиннадцать лет, а освободившись в результате Февральской революции, вместе с большевиками-ленинцами начала готовить новую революцию – Октябрьскую. Сразу после ее победы Спиридонова стала членом ВЦИК. Даже была избрана в президиум этого высшего законодательного и исполнительного органа Советской России. Но уже в 1918 году разошлась с Лениным по вопросу о Брестском мире. Многие революционеры разошлись тогда с Лениным. Но не таков был Ленин, чтобы прислушиваться к этим многим. Не такова была и Спиридонова, чтобы покориться Ленину. Уже в июле 1918 года эсеры подняли мятеж в Москве. Им даже удалось занять Центральный телеграф и телефонную станцию. Но мятеж был подавлен. Дальше Марию Спиридонову то сажали, то опять выпускали. Казнили ее в сентябре 1941 года во дворе Орловской тюрьмы с «учетом обстановки военного времени». В 1941 году ей было 57 лет. Задолго до этого имя Спиридоновой окончательно вычеркнули из отечественной истории. Однако в годы моей юности мы испытывали к ее имени пиетет, ибо мое поколение поэтизировало всех бунтарей и бунтарок прошлого. Относились мы к ним, как Проханов относится ныне к боевикам из ХАМАСа. Вслух осуждает их тактику, а про себя радуется, что хамасовцы убивают израильтян. Место евреев занимали тогда в нашем сознании представители «проклятого царского режима». Да, молодежь эсеров-террористов втайне уважала за их бескомпромиссность и храбрость. И, конечно, не только в России. С удивлением я прочла недавно очерк Черчилля о Савинкове3. Даже Черчиллю он, оказывается, импонировал. Что уж говорить о подростках в России. Я взахлеб читала лет в 15 книгу Савинкова (Ропшина) «Конь бледный». Вообще о Савинкове в начале 30-х много писали и говорили («Безумству храбрых поем мы песню!»). Может быть, потому я и не забыла Спиридонову.
Жизнь после Революции и Гражданской войны, как теперь говорится, устаканилась. И обычные граждане и гражданочки – подобно ванькам-встанькам – снова приняли вертикальное положение. И закопошились, почти как прежде. Итак, мы опять в Москве, в Хохловском, в доме, где я прожила детство, отрочество и часть юности. По адресу, который навек вписан в мой мозг: «Хохловский пер., 14, кв. 5».
Семьдесят шесть лет я уже не живу в этом доме, но все равно помню все так, словно только вчера сбежала по лестнице с третьего этажа, в последнем пролете перескочила через ступеньку с небольшим бугорком – я дала себе зарок никогда не наступать на эту ступеньку – и рванула во двор.
Кирпичный трехэтажный дом в церковном дворе построил священник по фамилии Успенский. Имя и отчество забыла, ведь мы все, в том числе и я, маленькая, звали священника «батюшкой». Приход был небогатый, поэтому батюшка решил обзавестись собственным домом, а квартиры сдавать внаем. Небогатым приход считался потому, что вокруг – и на Покровке, и на Солянке, и в ближайших переулках – было множество прекрасных церквей, которым наша церковь явно уступала.
Дом заселили перед войной 1914 года. Всего в доме было шесть квартир, по две на каждой лестничной площадке. Их заняли люди среднего достатка, по большей части молодые. Исключение составляла генеральша Марья Степановна, вдова. Она снимала квартиру на первом этаже, вернее, в бельэтаже. Мой папа, инженер, только что женившийся на маме и переехавший в Москву, снял квартиру на третьем этаже. Напротив нас поселился Негребецкий, как я теперь узнала – в прошлом летчик. У Негребецкого были жена, что называется «нерусских кровей», кажется, татарка, и двое мальчиков – Саша и Юра, примерно моего возраста. Мы вместе играли у меня или у них, что было предпочтительнее, поскольку у Саши и Юры была клетка с белыми мышами – довольно противными созданиями с голыми хвостами. Но я в них души не чаяла.
На втором этаже под нами жили немцы Тебусы – сам Тебус Артур Густавович, его жена Луиза Францевна и их дочка Эльза. Эльза была старше меня года на два или на три, но в школу не пошла. Она была «дефективная» – так в ту пору говорили. Сейчас, наверное, ее бы назвали умственно отсталой. Луиза Францевна не отпускала дочь – красивую рослую девочку с толстой косой – от себя ни на шаг. И часто, сидя на лавочке во дворе и подозвав меня, читала нам вслух сказки братьев Гримм. Естественно, на немецком. Дефективная Эльза со странным блуждающим взглядом говорила по-русски и по-немецки. И еще Эльзу, в отличие от меня, учили музыке – игре на рояле. Жизнь Эльзы сложилась трагически: родителей в 1937 году посадили, и их преданная домработница Фрося увезла девушку в деревню. По слухам, Эльзу в годы нэпа предлагали взять в какой-то швейцарский пансион бесплатно, но родители не захотели с ней расстаться.
Квартиру напротив Тебусов снимали Веселовские. Жена Веселовского Лариса Митрофановна, учительница младших классов, стала моей первой учительницей. У Веселовских были двое мальчиков-подростков – Борис и Володя. Но они со мной не водились из-за ощутимой разницы в возрасте. Наконец в бельэтаже напротив генеральши Марьи Степановны жили Дюковы – два брата с женами и с оравой ребятишек. Старший Дюков был известен у нас во дворе как «офицер», Марья Степановна была, как сказано, генеральша. Но ведь советская власть отменила и офицеров, и генералов: в Красной армии были только красноармейцы и красные командиры, а старых царских офицеров и генералов стали называть «беляками». Однако в нашем дворе лексика до поры до времени оставалась прежней.








