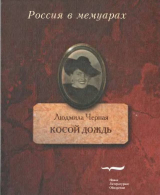
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 47 страниц)
И в большом парадном мне представилась та же ужасная картина: черным-черно от милиционеров.
Один лифт только что отошел, в другой я еще успела втиснуться. Меня вежливо пропустили. Помню, я видела себя со стороны, их глазами. Дама средних лет, вполне респектабельная. Видела и их – спокойные ребята, не агрессивные, занятые хорошим делом. Нужным.
– Вам на какой этаж?
– На пятый.
– Стало быть, попутчики, – смешки. Вполне дружелюбные. Они еще не догадывались. А я уже догадалась.
Пропуская меня, когда лифт остановился, кто-то из них спросил:
– Направо или налево?
– Направо. Вон туда…
Площадка, вернее, коридор между квартирами (в нашем доме на одном этаже шесть квартир) опять же была полна людей – особенно много у квартиры сына, дверь которой была распахнута настежь.
Короткое молчание. Я шагнула к квартире Алика. Тут и они догадались.
– Зачем вам туда? Куда вы, собственно, идете?
– Я к сыну. А вы, собственно, куда?
Замешательство. В квартиру не впускают. Правда, вежливо, без тычков.
– Пустите. Что происходит?
Кто-то нерешительно говорит: «Безобразничают». Еще один добавляет: «Наркотики». Я гляжу на него. Он опускает глаза. Сперва страшно, потом понимаю: сказал первое, что пришло в голову. Милиционеры, видимо, не знают, почему их сюда нагнали. Кое-как протискиваюсь к дверям.
В маленькой квартирке – узкая кухня и комната с альковом (альков с площадки не виден) – у стола стоит взъерошенный, худенький, бледный Алик. Еще несколько человек – молоденькие девушки, юноши разместились на табуретках, как куры на насесте. Справа на стене какая-то странная мазня. Картина? Ничего не понимаю. Понимаю только гигантское несоответствие между армадой милицейских и их машин у подъезда и этой кучкой ребят.
Алик кричит:
– Мама, зачем ты пришла? Иди домой. Папа у Некрича, он уже все уладил.
Поднимаюсь на седьмой этаж к нашему приятелю Саше Некричу. Там сидит сам хозяин, муж и милиционер, видимо начальник. Похоже, это он руководит «операцией». Муж повторяет слова сына:
– Иди домой, мы обо всем договорились.
Ему вторит главный милиционер:
– Не беспокойтесь. Ваш сын, как хозяин квартиры, и еще человека два пойдут в милицию, буквально на полчаса. Составим протокол…
– Нет! – кричу я. – Мой сын без меня никуда не пойдет. Я пойду с ним. Я член Союза писателей (тоже мне довод!), я все сообщу, зафиксирую…
Куда сообщу? Что зафиксирую?
Но начальник видит, что я разъярена. И какие там права у Союза писателей и у меня в Союзе писателей – не знает. У него одно желание – избавиться от разбушевавшейся мамаши.
– Хорошо, – говорит начальник, уже наглядевшись на красные профессорские книжечки – служебные пропуска мужа и Некрича, – пусть пойдут другие люди. А хозяина квартиры оставим.
Спускаюсь опять на два этажа. Жду, пока уйдет милиция. Забирают Леву, двоюродного брата Алика, Андрюшу Пашенкова. Все ж таки они не хозяева, а гости. И спроса с них меньше. Потом узнаю, что среди ребят был и известный в ту пору художник Оскар Рабин, много старше Алика. Его тоже забрали. Виталия Комара – соавтора Алика – по какой-то причине, по-моему, не было.
Привожу домой Алика. Он ночует у нас.
От мужа узнаю кое-какие подробности. Оказывается, Алик организовал «перформанс» – повесил большое полотно на стенку, и все должны были рисовать на нем поочередно на тему газетной заметки: «Завод “Красное знамя” становится в ряды передовиков». Примерно. Точно не помню.
Милиционеры сказали (Некричу и мужу), что в квартире было совершено несколько дней назад убийство или попытка убийства. Ничего себе! И что на полу обнаружили кровь. Показывали какое-то пятно. Муж объяснял, что это краска и что, если бы была кровь, ее бы давно смыли… В общем, чушь собачья.
Действительно, через несколько дней милиция вроде бы извинилась – они перепутали квартиру. Кровь потерпевшего (убитого? раненого?) обнаружили в другом месте. Перед кем извинялись, хоть убей, не помню!
Узнали мы и о том, каким образом, к счастью, удалось подключить свидетелей: Некрича, мужа. Среди участников «перформанса» была Вера Федорова из нашего дома, дочь наших друзей. Поняв, что все они заперты надолго, она подняла крик – у нее грудной ребенок остался один в квартире, некормленый. Ее отпустили, и она позвонила Некричу и мужу.
«Официально» об этой истории было рассказано через много лет в газете «Известия» в номере от 15 декабря 1994 года в статье Кедрина «Бульдозер как последний аргумент соцреализма»: «12 мая 1974 года милиция ворвалась в квартиру Александра Меламида и арестовала всех, кто присутствовал, осыпая их грязными антисемитскими ругательствами».
Там же было сказано, что незадолго до этого у ленинградского художника Евгения Рухина выбили булыжниками стекла и ранили его грудного ребенка. Не написал Кедров, что Рухин, здоровяк, косая сажень, сгорел у себя в мастерской на первом этаже при весьма подозрительных обстоятельствах. Я пришла в ужас, узнав, что в Ленинград он приехал утром того же дня из Москвы… из квартиры сына. Было это, кажется, уже в 1976 году.
…После обыска в квартире сына пройдет полгода с небольшим, и на пустыре в Беляеве 13 художников, в том числе Алик и Виталий, устроят выставку, которая получила название «бульдозерной», поскольку гэбэшники разгоняли ее всей городской техникой – мусороуборочными и поливальными машинами. Об этой выставке узнает весь мир.
Вражеские «радиоголоса» из вечера в вечер, из ночи в ночь будут перечислять имена участников выставки, а также имена иностранцев, пострадавших от ретивых блюстителей порядка. Ведь на выставке были и иностранцы. Скандал на весь мир. Серьезный «прокол» для властей.
Я, конечно, в диком ужасе!
Ко всему прочему обижена на то, что сын меня ни во что не посвящал. С мужем мы в длительной ссоре. Узнаю о разогнанной выставке в переделкинском Доме творчества от поэтессы Инны Лиснянской, которая услышала всю историю по радио. Кажется, по Би-би-си.
Мчусь из Переделкина в Москву. Вызываю к себе домой Алика и Катю…
Катя меня успокаивает. Алик кричит… «Мама, ты ничего не понимаешь…»
Я в отчаянии. Ведь совсем недавно я так радовалась, что у сына все хорошо устроилось: благодаря моим героическим усилиям – и впрямь героическим – Алик получил замечательную квартиру – и у Данечки и у Андрюши по комнате, у сына двадцатипятиметровая комната-мастерская… Кто мог предположить, что результаты обмена будут такими потрясающими? К тому же квартира сына в трех остановках от нашего дома. Для меня это и чудо, и предмет гордости. И вдруг Алик своими руками все разрушил, бросил свое благополучие коту под хвост.
Муж на «бульдозерной выставке» присутствовал. Но о том, как на это отреагировали в его институте, я не знаю. Мы по-прежнему в ссоре. У меня, беспартийной, все оказалось не так уж страшно. В Дом творчества явился кто-то из секретарей Союза писателей. Пожурил меня. Но вполне деликатно. Потом позвонила испуганная редакторша из «Молодой гвардии» Лора Васильева. Сокрушалась. Боится, что у Альбины, художественного редактора, будут большие неприятности, ведь сын оформил у нее две книги с моими переводами. И получил еще какую-то работу. Утешает Лору только то, что Алик подписывался Панин, фамилией нашей домработницы Шуры…
На первых порах после «бульдозерной выставки» власти пошли на некоторые уступки – разрешили выставку на свежем воздухе, в Измайлове. Потом выставку на ВДНХ в павильоне «Пчеловодство». Но вскоре гонения на неофициальных художников опять усилились…
Спустя три года, в 1977 году, сын эмигрировал из Советского Союза в США.
4. Первое свидание
Скажу сразу: речь здесь пойдет не о первом свидании с женихом, мужем или возлюблен-
ным. Речь о первом свидании с сыном, которого я не видела целых десять лет. Свидании нелегальном, устроенном по всем правилам конспирации. Хотя сын не числился в СССР ни преступником, ни даже диссидентом.
Его, молодого художника, как теперь говорят, нонконформиста, в 1977 году вынудили эмигрировать из Советского Союза. И он уехал. Не сбежал, а именно уехал вполне законно, получив официальное разрешение властей.
После чего его навеки (при советской власти, как и в «тысячелетнем рейхе» Гитлера, все было навеки) отлучили от России и от отца с матерью. Родителям отныне не разрешалось пересекать границы СССР, а сыну приезжать в Советский Союз.
В год отъезда сыну было тридцать два, мне почти шестьдесят, а муж совсем недавно широко отпраздновал свое шестидесятилетие в старом Доме актера.
Сын уехал с женой и двумя детьми: с трехлетним сыном, нашим внуком Даней, и сыном жены, подростком Андрюшей.
Немного позже эмигрировал и его соавтор Виталий Комар. Позже, так сказать, по «техническим причинам» – не получил вовремя от матери нужный документ.
Итак, сын, его семья и Виталик как бы канули в другую галактику, куда нам доступа не было. И винить в этом я не могла при всем желании ни Сталина, ни даже Берию, которого тогда винили во всех бедах многострадальной России. Ко времени отъезда сына осенью 1977 года и Сталин и Берия уже почти четверть века как были похоронены – один у стен Кремля, другой неизвестно где. Генсеком был Брежнев, который считался отнюдь не самым злобным тираном в череде диктаторов, правивших Россией.
Все десять лет мы почти не переписывались. Страх цензуры отучил мое поколение, да и поколение сына от эпистолярного жанра. Правда, мы часто говорили по телефону. Звонок из Москвы в Нью-Йорк по льготному тарифу, то есть в воскресенье, стоил 12 с полтиной. Всего ничего.
Но, во-первых, телефоны прослушивались. А главное, мы и впрямь жили в разных мирах. У них было утро, у нас – вечер. У нас – холод собачий, у них – плюсовая температура. Никаких реалий его жизни мы не знали. Не знали, как выглядит его дом, как выглядят соседи, о чем они говорят, спорят. Не знали, какие у него планы, какие идеи. Что он пишет, что выставляет. Тут сыграла свою роль и особенность сына – он терпеть не мог делиться своими замыслами.
Поэтому телефонные разговоры превращались в серию глупых вопросов, на которые никто не ждал ответа.
«Нукакдела? Выздоровы? (Как будто, если кто-то заболел, он сразу признается.) Увасжарко? АчтоделаетДаня? Онхорошоговоритпо-русски?» и т. д. и т. п.
Услышали голос сына – и слава богу.
Нет, не слава богу. Желание увидеть Алика с годами только усиливалось. Кроме вполне осознанного стремления узнать, как же ему на самом деле живется (о его и Комара выставках в разных странах Европы и в Америке мы все же узнавали из запрещенной заграничной прессы и из передач «вражеских голосов» – «Голоса Америки», Би-би-си, «Немецкой волны»), у меня было еще не менее навязчивое желание потрогать своего взрослого ребенка. Дотронуться до длинных «музыкальных» пальцев немузыкального сына.
Что бы там ни говорили, а между матерью и ее детищем существует некая нематериальная, мистическая связь, которая хоть и слабеет с годами, но не исчезает совсем. Когда Алик был младенцем, я просыпалась на минуту раньше его, что меня поражало; ибо я спала в ту пору как убитая. И до сих пор я чувствую какой-то непорядок, когда сыну плохо в далекой Америке. И это, пожалуй, единственное, что я не могу объяснить в своей жизни рационально.
Была и еще одна причина, по которой мне позарез надо было увидеться с Аликом. Только встреча с ним могла вытеснить из сознания ужасную сцену проводов в Шереметьеве-2 и все остальное, что ей предшествовало.
Ведь в силу негласных законов Советского государства отъезд гражданина этого государства на постоянное место жительства, то есть отъезд из страны «зрелого социализма» в страну трижды презренного капитализма, сопровождался чередой мытарств и унижений и для самих отъезжающих, и для их близких.
Муж взял отпуск, и в последние предотъездные две недели мы вместе с Аликом и Катей-невесткой жили, что называется, одной семьей (детей отдали другой бабушке). Муж тогда еще водил машину, и мы возили их по всему городу на старом «москвиче» и кормили обедами в ресторане «Черемушки» или в стекляшке на улице Горького напротив Центрального телеграфа.
Картины Алика и невестки – она тоже художница, – которые иначе как «мазней» не называли, без больших денег не разрешалось вывозить. А денег этих, разумеется, у нас не было. Их квартиру отобрали. И еще грозились, что заставят заплатить за ремонт. Даже за изъятие паспортов пришлось почему-то платить. Процедура эта происходила в обычной сберкассе на Маросейке, очевидно поблизости от синагоги. Ведь Алика унижали и как эмигрировавшего («предавшего Родину»), и как еврея (бывшего «безродного космополита»).
Я помню, как у меня сжалось сердце, когда Алик и Катя сели в машину, где мы их ждали, сели уже без советских паспортов. Их лишили документа, без которого в нашем полицейском государстве нельзя было ни шагу ступить. Даже умереть. Да и вообще, как это – добровольно отказаться от советского гражданства? От любого гражданства? У меня, воспитанной в СССР, это не укладывалось в голове.
Сына с семьей выпустили за границу, отобрав на таможне буквально все. Даже грошовый кофейный сервиз, который я им купила, чтобы на первых порах было из чего попить кофе. Даже глиняный кувшин, который сын хотел взять с собой как воспоминание о своих детских рисунках. И то и другое было признано «предметами искусства» и конфисковано.
В последние дни перед отъездом Алик выбрасывал свои работы на помойку или отдавал их знакомым и незнакомым собирателям, которые вились вокруг Алика и Виталика, как надоедливые осы. К счастью, муж кое-что все же сумел сохранить для нас. Хватал и укладывал в багажник своей машины. Ранний соц-арт много лет пролежал у нас в спальне под кроватью. Теперь это стоит заоблачных денег.
Но работы сына, сохраненные мужем, – капля в море. Не счесть, сколько картин Алик выкинул еще задолго до отъезда. Пропал весь цикл, наклеенный на стекло. Цикл, за который его исключили из молодежной секции МОСХа. Только розовая «Корова» еще долго висела у меня в доме.
Однако тогда нас не так уж и волновали работы. Думалось, Комар и Меламид еще молоды – будут новые работы.
Ужасным казалось унижение, с которым ребята сталкивались на каждом шагу. Виталика, которого мы, естественно, тоже провожали, на таможне раздели догола и «досматривали» так, словно он перекупщик брильянтов или наркокурьер…
А нам даже попрощаться с Аликом на аэродроме толком не дали. Оттолкнули от зарешеченной двери – ее на секунду открыли, чтобы пропустить Данечку; он захотел «пи-пи», и его отвела в уборную Катина ученица. В последние секунды, когда возвращали рубли, – платить надо было и на аэродроме, а возвращали, чтобы, не дай бог, наши «деревянные» не попали на Запад, – я все же с воем прорвалась и обняла сына. Да, с воем. Я не плакала. Не пролила ни слезинки.
И все это происходило еще в старом Шереметьеве-2, как мне казалось, таком уютном, даже домашнем. Не так давно муж и я, встречая Бёлля, шли по летному полю аж до самого трапа самолета.
Да, мне надо было во что бы то ни стало увидеть сына, хотя бы для того, чтобы забыть кошмарные проводы на аэровокзале: растерянные лица Алика и Кати, улетавших в чужую страну, не зная языка, с маленькими детьми, без гроша в кармане. Убитое лицо мужа. Трагическое лицо Виталия – вдруг его в последнюю минуту не выпустят, хотя они с Аликом – один художник. Забыть огромную толпу провожавших сына юношей и девушек, вспышки фотоаппаратов в полутемном помещении. И забыть, что ни близкий нам брат мужа Изя, ни Катин брат Митя не пришли попрощаться с уезжавшими навек родными – побоялись! Все это казалось мне тогда похожим на жертвоприношение неведомому Молоху во имя нового искусства, каюсь, непонятного мне.
В машине, на обратном пути домой, как вспоминал муж, я сказала: «Первую ночь буду спать спокойно». Подразумевалось, что больше не надо бояться ночного звонка – страшной вести о том, что Алика арестовали или избили на улице.
Но это была бравада.
Было отчаянно страшно и сиротливо. Страшно и за сына, и за себя.
И еще: вспоминаю с удивлением, что к этим чувствам примешивалось гадкое чувство, похожее на неловкость. Не хочу лукавить, но нам вдолбили в голову, что эмиграция – страшный грех, позор.
Помню, я стеснялась пригласить к нам домой на проводы Алика и Кати многих друзей и знакомых. Не пригласили Бориса Слуцкого, который первый «открыл» Алика как художника. Не пригласили никого из приятелей мужа, ходивших постоянно к нам в гости.
А между тем никаких сомнений в правильности отъезда сына у меня, а тем более у мужа не было. Я ведь опасалась за его жизнь в Москве. Мы знали, что за ним следят, и, как сказано, я присутствовала при обыске в его временной квартире.
Знали мы также со слов известного адвоката Дины Каминской252, что Алика и Виталика могут спровоцировать на уличную драку или подсунуть им наркотики, чтобы посадить в тюрьму.
Да, много чего мы боялись. И про советскую Фемиду при Брежневе много чего понимали.
Тем не менее я если и не стыдилась, то все же как-то стеснялась отъезда Алика. Уж теперь не понимаю, за кого стеснялась – за сына или за страну, за мою Родину.
С самого начала все было обставлено очень хитро. Родители обязаны были дать заверенное домоуправлением разрешение на отъезд своих отпрысков. Хотя уезжали не дети, а взрослые. Гуманную советскую власть якобы волновало то, что, состарившись, отец с матерью останутся без помощи детей.
Были люди, в том числе и один наш знакомый, которые такого разрешения не дали, зная, что их уволят с волчьим билетом. Но огромное большинство дали. И тем самым могли ожидать разных кар.
Мой партийный муж, посоветовавшись со своим двоюродным братом, тоже членом КПСС, профессором-биологом Д.Г. (его сын уже эмигрировал), написал примерно следующее: «Не одобряя поступок сына по идеологическим соображениям, я, тем не менее, не считаю себя вправе запретить ему отъезд, так как ему уже за тридцать, он живет отдельно, имеет свою семью» и т. д.
Я написала то же самое, что и муж…
Таков был ритуал!
Итак, по «идеологическим соображениям» мы как бы отмежевывались от сына. Не одобряли его поступок.
Что ни говори, это накладывало дополнительные обязательства. Особенно для членов партии или людей засекреченных.
Я не работала ни в «ящике», ни в «идеологическом» учреждении. Не вступала в КПСС. А в Союзе писателей была мелкой сошкой. И Володя Стеженский, мой умный соавтор по книге, которая как раз в это время шла в издательстве «Советский писатель», велел мне сидеть тихо, ни о чем не заявлять, молчать в тряпочку. Так я и сделала.
А вот большинству следовало не только бумажку-отписку сочинить, им приходилось и устно что-то объяснять, оправдываться за то, что сына или дочь «плохо воспитали».
Среди этого большинства был и муж…
Как это выглядело на практике, я догадалась после звонка к нам домой академика Арбатова (для него это, наверное, был смелый поступок!). Я слышала этот разговор и по репликам Д.Е. догадывалась, чего от него хотел Арбатов.
Муж: Да, конечно, ты прав. Глупый мальчишка (это Алик-то глупый!), легкомысленный малый… Но зато какой молодец твой Алеша… (Алеша, сын Арбатова, работал в том же институте, что и муж, был моложе Алика, но уже член партии и завотделом, который специально создали для него)253.
В том разговоре был намек – сын не диссидент, просто дурень. Так и надо трактовать случившееся. И муж не спорил, что неприятно резануло меня.
Но что мог сказать Арбатову (кандидату в члены ЦК) Д.Е.? Сказать: «Я счастлив. Лучше не видеть сына всю жизнь, нежели знать, что он влачит свои дни при советском строе: пишет картины, как ему велит начальство, живет двойной жизнью, сочиняет “в стол”». Но «в стол» (так это и говорилось: «Я пишу “в стол”») могли писать только писатели; художники должны были прятать крамольные картины не «в стол», а уж не знаю куда: в чулан, что ли, или на антресоли, благо они во всех коммуналках были… Получалось: «Пишу картины в чулан» или «Пишу на антресоли».
Однако, как показал мой опыт, вытащенные через много лет из письменного «стола» рукописи и потом изданные звучали не совсем так, как их задумали авторы. В «столах» происходила какая-то загадочная химически-дьявольская реакция: романы и повести выветривались, скукоживались и преждевременно старели. Аналогичная судьба ждала и художников, писавших «на антресоли». Честное слово. Я тому свидетель.
Книги нуждаются в читателях. Картины – в зрителях.
Прочла талантливый, хоть и чуть-чуть кокетливый роман Виктора Ерофеева «Хороший Сталин». Несколько раз автор повторяет: «Я убил своего отца», хотя тут же говорит, что отец жив и даже играет в теннис. Тем не менее, кажется, только в одном месте В. Ерофеев пишет: «Я политически убил отца». И еще: «Я совершил не физическое, а политическое убийство – по законам моей страны это была настоящая смерть».
Итак, В. Ерофеев убил отца, став одним из авторов альманаха «Метрополь» и не пожелав отречься от своего авторства.
Мой сын дважды политически убил отца, а заодно и меня. Дважды – сперва своим творчеством, приравненным к диссидентству, а во второй раз – своим отъездом в Америку.
Конечно, Ерофееву-отцу, крупному советскому чиновнику, мидовскому генералу, в свое время вхожему к самому Сталину, и отцу Алика Меламида судьба определила падать с разной высоты. Д.Е. Меламид, заведующий сектором в ИМЭМО (Институт мировой экономики и международных отношений), «упал» до профессора-консультанта (да и то лишь спустя несколько лет). А Ерофеев-рёге в самый разгар своей карьеры в ожидании нового назначения, заместителем министра иностранных дел, с большим скандалом лишился поста посла-представителя СССР при международных организациях в Вене.
Тем не менее мужу, на мой взгляд, после отъезда Алика было тяжелее, чем баловню судьбы Ерофееву-старшему.
Ничто так не изнуряет, не изничтожает, не ранит, не пригибает к земле, как чувство «изгойства». А мой муж переживал это чувство уже во второй раз. В годы борьбы с космополитизмом он вот-вот должен был потерять работу как еврей. И знал: его не спасут ни ум, ни безупречное чутье политолога, ни даже двуязычие (в СССР очень ценили, как теперь говорят, «носителей языка», а муж до 15 лет прожил в Германии с родителями и говорил одинаково хорошо и по-русски, и по-немецки).
Только после смерти Сталина он немного пришел в себя… И вот снова политическое изгойство. Муж был германистом, занимался Западной Германией. Там его знали, ценили. Став заложником сына-эмигранта, он автоматически превратился в «невыездного». Фактически это был «запрет на профессию», закон, принятый на территории послевоенной Западной Германии в отношении нацистов. Закон, который так клеймили и осуждали у нас в СССР.
Правда, Ерофеев-отец, как видно из книги Ерофеева-сына, лишился друзей, таких же представителей советской элиты, как он сам, друзей, с которыми играл в теннис на кортах в «Соснах» (в кремлевском санатории), постоянно встречался на приемах и общался домами.
Мы друзей не потеряли. Если быть точной, почти не потеряли.
Из книги В. Ерофеева было приятно узнать, что и среди крупных чиновников в брежневские времена были люди порядочные, выдержавшие все удары «инстанций». Мне кажется, что для человека его ранга Ерофеев-отец вел себя просто геройски. И книга «Хороший Сталин» – своего рода благодарность сына отцу, знак уважения за то, что тот сохранил лицо.
Мы такой благодарности от Алика не дождались. В нескольких интервью, которые до нас дошли, он говорил, что «родителей мой отъезд не затронул». Примерно так.
На самом деле только чудо и порядочность Н.Н. Иноземцева – директора института, где работал муж, – спасли нас от большой беды. Если бы мужа отправили на пенсию, мне работу никто не стал бы давать.
Формулировка «недавания» у меня звучит в ушах: «Людмила Борисовна, вы уже так много перевели. Зачем вам этот роман? Кстати, не такой уж он значительный (скоро роман выйдет в другом переводе). Вам надо передохнуть. И потом, вы должны дать дорогу молодым». Это я уже слышала в 1949 году, когда меня увольняли из Радиокомитета, только в несколько иной форме: говорили не «вы так много перевели», а «вы так много написали». Самое смешное, что слова «вы должны дать дорогу молодым» уже фигурировали, хотя мне исполнилось тогда всего 32 года. Кстати, столько же, сколько сыну в год эмиграции.
Да, мужа из ИМЭМО не уволили, а меня не лишили переводов. Но спустя всего два года Д.Е. заболел и болел до самой своей кончины в 1993 году. Не решаюсь сказать прямо, что первый инсульт был следствием разлуки с сыном и страха за свое будущее. Но как иначе объяснить, что Д.Е. так сразу рухнул?..
Хватит писать о разлуках, потерях, расставаниях. Ведь этот эпизод моей жизни я озаглавила «Первое свидание». Стало быть, о свидании и надо писать.
Опускаю на время всю авантюрно-криминальную сторону встречи с сыном, без которой она была бы немыслимой. Сразу беру быка за рога.
Итак, ГДР. 1987 год. Восточный Берлин. Я получила командировку в соцстрану. Я – гость Союза писателей ГДР. Мои «апартаменты» в доме гостиничного типа. Комната, туалет, кухонька. Завтрак положено готовить самой. Сижу на диване, поминутно глядя на часы. Потом хожу, опять же глядя на часы. Нервничаю. И вдруг слышу голоса. Дверь распахивается – сын входит в комнату. За ним на пороге маячит приятель, немец из Западного Берлина Бенгт, это он устроил нашу встречу. Сын с сильной проседью. Я всплакнула, говорю с упреком сквозь слезы: «Но ты же совсем седой». Сын смеется, целует меня.
– Мама, почему ты плачешь? Мы увиделись. А насчет седины – извини. 11е виноват. Ты сама говорила, что поседела рано… Вот и я…
Друг-немец, увидев мои слезы, исчез. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.
Перестала плакать. Секунда молчания. Потом сын заговорил.
– А знаешь, мама, я несколько дней назад прочел у нас (в США. – Л.Ч.) в газете, что найдены первые наброски набоковской «Лолиты». И, представляешь, гам фигурирует не девочка-нимфетка, а мальчик. А ведь дядя Набокова, брат матери, миллионер Рукавишников, был геем. Родителям Набокова, кажется, не очень нравилось, когда дядя сажал на колени их мальчика. Правда, интересно? Мама, почему ты хохочешь?..
Первое сообщение сына после десятилетней разлуки – о Набокове. Хотя мы оба отнюдь не набоковеды. С другой стороны, он умница. Как начать разговор о пережитом за десять лет, если ты жил в другой стране, с другими нравами, обычаями, с другой системой ценностей? Может, лучше притвориться, что мы продолжаем давнюю беседу?
И мы начинаем свой долгий-долгий разговор (Алик приезжал ко мне из Западного Берлина дней шесть подряд). Ходим по городу и говорим без умолку, перебивая друг друга, ожесточенно споря.
О чем мы говорили? Да обо всем на свете – о жизни, об искусстве, о книгах, которые он прочел, и о книгах, которые прочла я.
Конечно, вспомнить наши разговоры, споры, даже ссоры невозможно.
Я так и не поняла, какие требования предъявляло американское общество к художникам. Не поняла, как пробивались к известности К&М. Словом, ничего не поняла.
Надо признать, что у Алика до отъезда, в отличие от многих других художников, все же хватало ума сообразить – в Америке его и Виталика ждут трудные времена. Он часто говорил: «Здесь мы что-то собой представляем, а стоит нам оказаться там, и мы будем никому не нужны». К счастью, его опасения не оправдались. Хотя, как он сказал мне тогда в Берлине, в одном Нью-Йорке 80 тысяч художников.
Споры наши тоже понятны. Сын у меня – левый. Ультралевый. А я – консерватор и конформист.
И все-таки какое это было счастье в процессе спора порычать на своего любимого ребенка. Впрочем, рычал, как всегда, больше он.
Наш обычный диалог, по-моему, изображен у Ильфа и Петрова. Не помню только где.
Я: Яйца кур не учат.
Алик: Если курица очень глупая, почему не поучить.
От Союза писателей ГДР, то есть от приглашавшей меня стороны, я, естественно, скрыла, что встретилась с сыном из Америки. Скрыла это и от некоторых своих знакомых в Восточной Германии. Не хотелось никого подводить. В ГДР нравы были еще более свирепые, чем в Советском Союзе при Брежневе – Андропове – Черненко.
Пять-шесть дней пролетели как сон. Новая страшная разлука надвигалась… Кто мог тогда подумать, что мы на пороге грандиозных перемен, что советскому строю скоро конец? И что можно будет встречаться с сыном не тайком, а легально?
Весной следующего года я уже поехала в Западную Германию (капстрану) в командировку. Потом Алик с Виталиком прилетели в Москву. А в 1989 году, аккурат когда рушили Берлинскую стену, мы с мужем сидели у Алика в его квартире в Нью-Джерси, на берегу Гудзона, и Виталик варил в большом котле гигантских лобстеров.
Но первое свидание все равно осталось первым свиданием.
Ну а теперь пора рассказать, к каким ухищрениям мы прибегли и какими незаконными методами пользовались.
Идея встречи была ясна. Даже примерный план. Исходные данные тоже… Алика не пустят в СССР, каким бы он ни стал знаменитым. В США не пустят нас с мужем. В любую капстрану тоже. Стало быть, надо встретиться в «социалистической» стране, или, как их тогда чаще называли, в «стране народной демократии». Но мужу и туда поехать не разрешат. А мне стоит попробовать через Инокомиссию Союза писателей.
Закона такого, чтобы мать не виделась с сыном, при «реальном социализме» не было. Но негласное установление, оно же негласное железное правило, имелось. Его следовало как-то обойти. Перехитрить власть.
И вот спустя год или полтора после отъезда Алика я подала заявление с просьбой послать меня в командировку в Румынию (там были анклавы, населенные немцами, а я занималась немецкой литературой). Румыния в тот год (для виду?) несколько отбилась от рук, дружила с Китаем, в пику СССР, и, по слухам, пускала к себе иностранцев без звука. На вопрос в анкете, где проживает сын, написала «в Нью-Йорке». И мне командировку дали, но в последний момент я испугалась за Алика и не попросила его приехать. У него еще не было пресловутой «грин-карт», американского «вида на жительство». А вдруг псих Чаушеску не выпустит сына обратно в Америку? Кроме того, я впала в эйфорию: раз дали командировку в Румынию, стало быть, для соцстран я – «выездная».
Не тут-то было! На следующий год меня завернули в родимом Краснопресненском райкоме, который к Союзу писателей особо не придирался (так говорили). Их бдительная «выездная комиссия» все же спросила, что означает «живет в Нью-Йорке»: работает в советском консульстве? В ООН? Или в каких-либо советских учреждениях? Пришлось сказать, что сын уехал из СССР.
Прошло десять лет, и в ГДР меня все же пустили. И не в первый раз.
Но тут возник другой вопрос: кто переправит моего ребенка из Западного Берлина, куда он может приехать в любой день, в Восточный, куда приеду я? Говоря конкретно: кто переведет его из одной части города в другую через охраняемую «дверку» в Берлинской стене?








