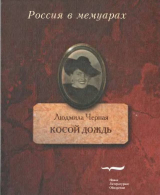
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 47 страниц)
И Борису пришлось пойти в фабзавуч – фабрично-заводское училище. Без этого учиться дальше нельзя было.
Борис никогда не жаловался, но однажды с горечью сказал:
– В фабзавуче я покалечил руки. И потерял время.
Каторжный труд, который был затрачен Борисом и его музыкальными педагогами, пошел коту под хвост…
Вот и все, что я знала о детстве и отрочестве моего первого мужа.
Роман наш был короткий. Довольно скоро мы сочетались законным браком, то есть пошли в ЗАГС и расписались. Парадных свадеб тогда не устраивали: подвенечных нарядов не шили и автомобилей с воздушными шариками и пупсами на капоте не нанимали. Над такими свадьбами мы с друзьями потом долго потешались. Но моя свадьба была до обидного неторжественная, до обидного обыденная. Даже шампанского с родителями мы, по-моему, не пили, хотя «Советское шампанское» в СССР было всегда.
Про этот мой брак и первые браки моих подружек мама потом говорила: «В первый раз они выходили замуж начерно».
А в ту пору она больше всех радовалась моему замужеству, считала, что я остепенюсь. К тому же Борис ей очень нравился. Я для нее была слишком шумная, слишком заводная, своевольная, непостоянная. А у Бориса она находила, по ее словам, много своих черт. Папа, напротив, казался слегка разочарованным. Видимо, он ждал, что его Люся сделает более сногсшибательную партию.
Довольно настороженно встретили Бориса и мои институтские друзья. Это меня и удивляло, и сердило. Борис был умный, остроумный. В чем же дело?
Думаю, мы сошлись чересчур скоропалительно. Не было ни долгих ухаживаний, ни влюбленности на людях. И я, человек, вообще-то, открытый, ничего никому про Бориса не рассказывала. Просто однажды мы пришли на майскую демонстрацию вдвоем. И в ответ на шуточки, отпускаемые по этому поводу, сообщили, что поженились месяц назад.
Прокручивая в мозгу историю своего первого брака, подозреваю, что я так быстро решилась на него из подсознательного желания подвести черту под прошлым. Из желания навсегда забыть и чужие аресты, и мои вызовы на Лубянку. И еще, пожалуй, из желания покончить с «синдромом Бекки Шарп». «Синдромом Бекки Шарп» я называла синдром бедной девушки, которая считает себя лучше «знатных» подруг и стремится занять их место. (Бекки Шарп была моя любимая героиня из замечательного романа Теккерея «Ярмарка тщеславия».)
До знакомства с Борисом в меня почему-то влюблялись и за мной ухаживали «кремлевские мальчики», родителей которых по логике вещей должны были вот-вот посадить.
Немудрено, что мать Бориса Елизавета Соломоновна показалась мне ангелом во плоти. Хотя на ангела отнюдь не походила. Скорее походила на громоздкое сооружение типа дредноута. Меня эта женщина, в молодости, наверное, красивая, сразу невзлюбила. Но Елизавете Соломоновне, по крайней мере, не надо было ждать «гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных».
Нет, не умею я писать про юную любовь, про чувства. Это получается у меня антипоэтично. Лирика – не моя стихия.
Я, как и многие девушки моего поколения, была эмоционально глуха и сексуально безграмотна. Числилась, как и вся тогдашняя молодежь, особенно иф-лийская, по разряду романтиков. Пишу это с иронией, ибо наш романтизм был попыткой оправдать и нашу бесчеловечность, и нашу беспомощность в жизни. Дескать, мы ничего не видим, но мы романтики. Дескать, мы ничего не умеем, но мы романтики.
Свое неумение строить семью, быт, вообще повседневную жизнь я, правда, ощутила не в браке с Борисом, а во втором браке после рождения сына.
А пока что никто из нас ни о чем не задумывался, хотя, глядя из сегодняшнего дня, наш брак с Борисом был полным безумием.
Из всех нас пятерых – нашей семьи и семьи Бориса – единственной постоянно зарабатывающей единицей была моя мама…
Но ни мы с Борисом, ни мои родители – что совсем уже странно – не захотели осознать сей печальный факт. Вместо этого мы стали лихорадочно менять квартиру. И после долгих поисков поменяли свои двадцать восемь метров в Хохловском переулке, две комнаты, на одну сорокаметровую в Большом Власьевском, в перенаселенном особняке. Аналогичная квартира фигурирует в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» под названием «Воронья слободка».
Из сорока метров папа-инженер намеревался сделать три комнаты плюс коридорчик – в двух комнатах собирались поселиться родители, а мы с Борисом – в одной, но двухэтажной. Высота нашего нового жилища была около четырех с половиной метров.
Параллельно Борис поменял свои довольно просторные две комнаты где-то в конце Мещанских улиц (ныне это улица у проспекта Мира), но без удобств на одну комнату в коммуналке на Сивцевом Вражке со всеми удобствами. Мама Елизавета Соломоновна хотела жить в шаговой близости от сына.
Процесс поисков обмена был запечатлен в сочиненном нами водевиле «X через К». Буква X означала «ход», буква К – «кухню». Именно так писалось в объявлениях по обмену: «Ход через кухню». Ведь почти все парадные заколотили еще в 1917 году. В наши сорок метров ход тоже был через «К», вернее, через «Л», через лакейскую, превращенную в кухню. Водевиль мы писали вчетвером, мы с Борисом и мои тогдашние закадычные друзья Леня Шершер и Рая58. Водевиль, по-моему, смешной, но, к сожалению, его не удалось ни поставить, ни напечатать…
Итак, родители и я въехали в Большой Власьевский, д. 12, кв. 1а и приступили к ремонту. Папа нанял рабочих, которые начали разорять уже изрядно разоренный прежними жильцами роскошный кабинет хозяина особняка, по слухам, видного дореволюционного адвоката.
С потолка сбивали лепнину, со стен сдирали панели из черного дерева, доломали камин, тоже обрамленный черным деревом – мрамор, видимо, исчез уже давно. Наконец пробили большое окно во двор в том месте, которое должно было стать нашей комнатой. Завезли цемент, доски и прочие строительные материалы и свалили их на чудесный наборный паркет. Привезли и батареи – в части особняка уже было центральное отопление, папа намеревался продлить его до наших сорока метров.
Но в самый разгар строительного бума папа вдруг… забастовал. Уж не помню, по какому поводу. Кажется, поругался с рабочими.
Папина забастовка была лежачая. Папа лег на привезенную из Хохловского переулка тахту аккурат посередине комнаты и на все наши с мамой вопли отвечал, что ему лично ремонт не нужен. Кому он нужен, тот пусть и ремонтирует. Он, папа, человек неприхотливый, готов спать на тахте и без перегородок, а принимать пищу на подоконнике. Так оно и происходило – папа лежал на тахте посреди комнаты, а домработница ставила ему тарелки с едой на подоконник.
Впрочем, я и мама вопили только для проформы. Мы обе знали, что милейший и добрейший папа органически не способен довести до конца начатое дело. Знала я и то, что моя умная, талантливая и волевая мама пасует перед малейшими житейскими трудностями. Мама делала только то, что хорошо умела. Хорошо умела она переводить, а отнюдь не работать прорабом.
Ремонтом занялась я. Ничего другого мне не оставалось. Вообще-то говоря, в этом не было ничего страшного. Мне уже стукнуло 21 год, а в этом возрасте бабы в России и не такое проворачивают. Но я-то была девица, не приспособленная к суровой действительности. Девица, витавшая в облаках.
Ремонт был сделан погано. Перегородки не мешали слышимости. Коридорчик получился слишком узкий. Десятиметровые комнаты мамы и папы смахивали на колодцы. Да и вообще все было сляпано грубо, топорно. Входная дверь в наши, извините, апартаменты запиралась изнутри… поленом.
И то полено стало для меня символом бытовой неустроенности, символом расхлябанности и ненавистной мне разрухи, символом беспорядка, но не в пределах земного шара или вовсе Вселенной, а в пределах отдельно взятого домашнего очага.
Однако с поленом пришлось смириться. В противном случае на борьбу с ним ушли бы все мои силы…
В Большом Власьевском я прожила много лет. В хоромы с антресолями принесли новорожденного Алика – моего сына от второго брака с Д.Е. Там он лежал в коляске, потом топал на еще не окрепших ножках. Из Большого Власьевского пошел в школу. С придуманной моим папой деревянной лестницы на антресоли и он, и его двоюродный брат Лева Меламид скатывались бесчисленное количество раз, набивая себе шишки на все части своих пятишестилетних тел. Наконец, в нашей комнате во времена моего брака с Д.Е. устраивались пышные застолья, где побывали и посольские работники, и даже два посла, и известные журналисты, и видные разведчики. Они покорно пробирались через «К» – кухню, переделанную из лакейской, и сквозь немыслимо узкий коридорчик.
Умиляет ли это меня? Нет, не умиляет и не примиряет ни с коммуналкой, ни с плохим ремонтом, ни с поленом, которым закрывалась дверь. Мне и задним числом все это неприятно.
Но вернусь к концу 1930-х, к началу жизни в Большом Власьевском.
Сейчас понимаю, что то время было воистину уникальным. Люди, окончившие гуманитарный вуз, оказались нарасхват. Сразу же после госэкзаменов Бориса направили в отдел литературы и искусства «Комсомольской правды», то есть в одну из ведущих газет. В годы после массовых репрессий не выпускники искали работу, а престижная работа искала выпускников. Из-за массовых арестов образовались кадровые бреши.
Отдел литературы и искусства в «Комсомолке» возглавлял известный журналист Трегуб59, который поднял на недосягаемую высоту Николая Островского и его роман «Как закалялась сталь». Кто бы мог предположить, что после войны в 1949 году Трегуба объявят «космополитом» и его вина будет как раз в том, что он проглядел Николая Островского и его роман «Как закалялась сталь»? Но до 1949 года было еще почти десять лет, Трегуб процветал, и Борис очень скоро нашел с ним общий язык…
А дома муж занялся моим воспитанием, старался приобщить к серьезной музыке, регулярно водил в консерваторию. Пытался объяснить, кто есть кто из великих композиторов. Из его объяснений я поняла только, что Григ – не Моцарт. А потом, как неофит, с жаром втолковывала это второму мужу Тэку, который, напротив, считал григовского «Пер Гюнта» главным музыкальным шедевром всех времен и народов.
С консерваторией мне здорово помог друг мужа Борис Галантер. Он рекомендовал, чтобы не очень скучать на концертах, пересчитывать трубы органа… Так я и поступала.
Однако если без шуток, то у Бориса был безупречный вкус. Это он научил меня без памяти любить Чехова и читать и перечитывать Зощенко. А ходить с ним в театр было одно удовольствие.
Но не прошло и года благополучной жизни, как Бориса призвали в армию. В Европе уже бушевала Вторая мировая война, и ни о какой отсрочке от армии не могло быть и речи. Из газет отсрочку давала только «Правда». Словом, Борис отбыл в неизвестном направлении, а я стала… солдаткой.
Роль молодки-солдатки – очень странная. Только-только у тебя появился собственный мужчина, только-только ты успела привыкнуть, что он тебя выслушает, похвалит и приласкает, как вдруг ты опять одна. Вроде бы ты мужняя жена, но уже и не мужняя. У меня чувство «немужности» усугублялось тем, что я вернулась точно в то самое положение, в каком была до замужества. Дело в том, что я поступила в аспирантуру, то есть, что ни говори, не изменила свой статус учащейся. Твердого заработка не было. И я опять оказалась папиной-маминой дочкой, опять ходила на лекции и на семинары в те же аудитории. Только теперь не как студентка, а как аспирантка. И опять мой друг Сережа Иванов – его тоже оставили в аспирантуре по кафедре русского языка – поджидал меня, чтобы проводить домой. Мы с ним оба пережили невзгоды и унижения 1937 года, он, как муж Е., я – как ее подруга. Провожать меня Сереже стало даже удобнее. Я теперь жила в двух шагах от Сивцева Вражка, от многоэтажного серого дома, где обитали Сережа и его родители.
А теперь об аспирантуре. Зачем я вообще поступила в аспирантуру? Почему не пошла работать? Учеба мне надоела, наука (литературоведение) не прельщала, институт опостылел. Однако отказаться от аспирантуры я считала себя не вправе.
Западное отделение имело там всего два места. Для сравнения: на кафедре советской литературы было семнадцать вакансий.
Наша кафедра рекомендовала на свои два места Мелетинского и меня. Елеазар (для меня Зоря) Мелетинский родился ученым и вопреки всему стал им. Я, напротив, не была ученым. Но мы оба получили «красные» дипломы и считались способными.
Тут я сделаю небольшое отступление. Мелетинский не только оставил большое научное наследие, но и опубликовал свои воспоминания о войне60.
Процитирую всего один абзац оттуда: «Горе, однако, в том, что о героическом времени у меня сохранились не-героические воспоминания, что отчасти объясняется случайностью, отчасти моим участием в войне, в ее первый, заведомо “несчастный” этап, отчасти моим стремлением видеть вещи не только с той стороны, в которую меня тычат».
Слова о том, что надо видеть действительность не с той стороны, в которую «тебя тычат», дорогого стоят. Хотела бы я сказать их от своего имени.
Но вернусь к аспирантским делам: партком института не согласился с решением кафедры обо мне и Мелетинском и предложил свои кандидатуры: Раисы Олыпевец и Блинкина, двух членов партии. В конце концов стороны пришли к компромиссу: сдавать экзамены предложили всем четверым. Мы с Зорей вместе готовились, вместе сдали экзамены на пятерки, после чего поступили в аспирантуру. Проявив принципиальность, кафедра и ее заведующий Я.М. Металлов одержали победу. Конечно, это была буря в стакане воды. И все же… Так я попала в аспирантуру и сочла, что отказываться от нее грех.
Впрочем, были и другие причины. Но в ту пору я, пожалуй, не сумела бы их сформулировать. Меня не очень устраивали учреждения, куда я могла легко поступить: ТАСС и ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей – туда меня вызывали на собеседование – требовались люди со знанием иностранных языков).
На самом деле я мечтала о газете. Но для этого надо было предпринимать какие-то усилия. Ходить и просить, чтобы взяли на работу. И не только это…
Все наши газеты были фактически «партийной печатью»… А я была беспартийная. И понимала, что таковой останусь… В 14 лет я с восторгом вступила в комсомол. В 20 лет знала точно, что в ВКП(б) не буду вступать.
Уже на последнем курсе ИФЛИ моя лучшая институтская подруга Рая стала кандидатом в члены партии. Сразу же после окончания института ее муж Леня Шершер также вступил в ВКП(б).
Да и мой муж Борис, отнюдь не карьерист, приехав в Москву из армии на побывку, сообщил, что стал кандидатом в члены партии. Такое вот радостное известие. И очень удивился, когда я воскликнула: «Зачем? Кому это нужно?»
Муж промолчал, мама с негодованием сказала: «Люся, не говори глупости! Борис – молодой человек… Он должен быть членом партии…»
Я не возражала. Не могла ничего возразить. Не могла ничего объяснить… Никакого сознательного неприятия ни партии, ни того курса, которым шла страна, у меня не было… Все происходило на уровне интуиции…
К счастью, военная служба в 1939–1941 годах, то есть в последние мирные годы в СССР, была не похожа на военную службу ни во времена Брежнева, ни тем более в нынешние дни. Никаких издевательств. Никакой дедовщины. Уважительное отношение к ребятам с высшим образованием. Ифлийцы с разных факультетов – литераторы, историки, философы – попали в одну часть, дислоцированную в Брянске. А потом все они получили «кубаря» («квадратик» в петлицы), стали младшим комсоставом и начали преподавать в Брянском военном училище. Начальник училища оказался отнюдь не солдафоном. По словам Бориса, это был интеллигентный и умный человек.
Тем не менее жизнь в Брянске была у сугубо штатского Бориса отнюдь не сахар…
А для меня Брянск стал школой жизни. Нет, не жизни, а выживания. Жен охотно пускали на побывку к мужьям, мужьям охотно давали увольнительные. Казалось бы, чего больше? Однако на пути свидания с дорогим тебе солдатиком вставали неодолимые преграды. Из Москвы до Брянска пешком не дойдешь. Надо ехать поездом. А чтобы ехать поездом, нужен железнодорожный билет. Свободно получали билеты только «по литерам» в специальной кассе. Но откуда у простой аспирантки литер? Чтобы получить билет без литера, следовало выстоять в многодневной, вернее, в многосуточной очереди с утренними и ночными перекличками. И будущие пассажиры поселялись на вокзалах, забитых под завязку. Жили там по многу дней целыми семьями, иногда с грудными младенцами. Там же пили и ели, стирали и сушили белье, спали на полу вповалку, здоровые и больные вперемежку.
Я ездила к Борису очень часто, но ни разу не взяла билета. Приходила на перрон примерно за час до отхода поезда. Договаривалась с проводницей. Перед самым отходом проводница сажала меня в тамбур, а пожитки забирала к себе. Я стояла и ждала, пока поезд не отойдет от Москвы на приличное расстояние. Тогда и меня впустят в купе для проводников.
Можно подумать, что на два-три дня я ездила налегке. Ничего подобного, я ездила навьюченная, как верблюд, таскала еду – в брянских магазинах не было ничего съестного, кроме целых пирамид из банок «Chatka», дальневосточных крабов, и бутылок с «Советским шампанским», а хотелось накормить домашней едой не только мужа, но и других ифлийских ребят.
Брянск показался мне скучным, серым городом, где холодно зимой и пыльно летом. Может, это и не так. Но что за город, если в нем невозможно нигде посидеть – ни в кафе, ни в ресторанчике, ни в пивбаре?
Не знала я тогда, как героически будут сопротивляться нацистам люди этого «скучного города» и окружающих деревень… О партизанах Брянщины услышала в начале войны…
А пока что не только я решала сложную задачу: как попасть к мужу. Еще более сложную задачу – как найти для меня в Брянске пристанище – решал Борис. Кажется, всего раз или два мы с ним жили в гостинице. Подобие брянской гостиницы уже в 60-х годах я обнаружила в Тарусе. Но в тарусской гостинице отхожее место – дырка в зацементированном полу – вызывала у нас, постояльцев, смех: мы уже имели тогда отдельные квартиры со своими ванными комнатами и уборными. И приезжали в Тарусу на машине.
А в 1939—1940-х годах перспектива проехать много часов в грязном вагоне, а после этого мыться у себя в номере холодной водой и обходиться без ватерклозета вызывала у меня тоску и уныние.
Венцом моего пребывания в Брянске оказалась вовсе не гостиница, а снятая Борисом комната. Комната была хоть и в коммуналке, но в новом четырехэтажном доме со всеми удобствами. Однако при ближайшем рассмотрении у нее обнаружился крупный дефект – из экономии (а при советской власти всегда экономили) строители не довели квартирные перегородки до потолка, они кончались на уровне человеческого роста, может, чуть выше. Никого из жильцов вы не видели, но зато хорошо слышали. Особенно ночью. Слышали храп, покашливание, скрип матрасов, вздохи, иногда крик во сне, иногда перебранку шепотом. Предполагается, что молодые пары вроде нас с Борисом после разлуки должны, как пишут в переводных романах, «заниматься любовью», то есть «заниматься сексом», но в брянской съемной квартире даже лежать с собственным мужем на одной кровати казалось мне верхом непристойности.
Однако хватит о Брянске и нашем быте в те последние мирные годы, месяцы, недели.
Двухгодичная служба Бориса приближалась к концу. Оставалось, по-моему, всего месяцев шесть – лето, осень. Борис помаленьку привыкал к серой шинели и прочим атрибутам армейской жизни. А я тем временем сдавала аспирантский минимум и готовилась писать диссертацию по непонятному мне немецкому поэту-романтику Гельдерлину.
Но тут наступило воскресенье 22 июня 1941 года, и мы с папой (маму вызвали в 6 утра в ТАСС) в Большом Власьевском услышали речь Молотова, услышали, что нацистская Германия «вероломно напала на Советский Союз» и что «победа будет за нами».
В тот же день я поехала в Брянск, хотела услышать от Бориса, что мне делать. Но Борис, как всегда, смотрел на меня своими грустными зелеными глазами и… молчал. А что он мог сказать? На что я, собственно, надеялась?
На следующий день вечером я снова уехала в Москву. Сдала последний экзамен той экзаменационной сессии, а через неделю или две ушла из аспирантуры…
Как я собиралась жить дальше – не знаю. По-моему, даже не задумывалась на эту тему.
К Борису я приехала поздней осенью 1941 года из Куйбышева, куда маму эвакуировали с ТАССом уже в августе. Мама взяла с собой не только отца, но и меня, свою великовозрастную дочку, мне стукнуло тогда 23 года… В первые дни войны Бориса и еще нескольких ифлийцев отправили в Орел, в газету Орловского военного округа, но в то время, когда я к нему собралась, и Брянск и Орел уже сдали немцам. Газета временно находилась в Моршанске, а билеты давали только до Сызрани. Тут и пригодился опыт безбилетных поездок в Брянск.
Поезда еле тащились, останавливались в пути иногда на несколько часов, иногда на несколько суток. Транспорт явно не справлялся с военными перевозками. Впрочем, он и в мирное время ни с чем не справлялся. На станциях военным выдавали продукты и «сухим пайком», и не сухим – каши, супы в котелки. Для этого у военных были специальные талоны-литеры, как они назывались, не помню. Но я-то собиралась ехать без этих талонов-литеров, уверенная, что с голоду не помру. Теперь мне непонятно, на чем основывалась моя уверенность.
И все же до Моршанска я добралась. Но пробыла там, по-моему, всего недели две. Моршанск – он показался мне тихим и уютным городишкой с горбатыми улицами и одноэтажными домами – начали сильно бомбить. Фронт приблизился вплотную. При том, что никаких противозенитных орудий, вообще никаких орудий там не имелось. А из военных были только газетчики и… портные из ателье по пошиву верхнего обмундирования. Да еще где-то находился ансамбль песни с молодым Алешей Фатьяновым, который мне сразу приглянулся.
«Бывалых вояк», Бориса в том числе, насторожили не столько бомбежки, сколько… отменные продукты, которые вдруг выбросили на пустые прилавки моршанских магазинов.
– Если в городе появились сметана и сливочное масло, мясо и колбаса, его через несколько дней сдадут, – сказал мне Борис уверенно. Как в воду глядел.
Скоро нас погрузили в эшелон, то есть в теплушки, и я снова покатила на восток, в глубокий тыл, на сей раз вместе с Борисом. Газета Орловского военного округа стала газетой Южно-Уральского военного округа с местопребыванием в Чкалове (так тогда назывался Оренбург).
В Чкалове я не прижилась. К Борису в газете относились очень хорошо, а меня еле терпели. Да и с Борисом отношения вконец разладились. По моей вине.
К счастью, ранней весной я получила вызов на фронт. И с этим вызовом уехала в Москву. Шел уже 1942 год. Помню, как я иду с вокзала по совершенно темной ночной Москве – все окна уже в первые дни войны завесили черными бумажными шторами, называлось это светомаскировкой.
Иду по таким знакомым, хоженым-перехоженым улицам, которые при свете луны кажутся незнакомыми. От Каланчевки через Мясницкую, Лубянку, по Охотному Ряду, Воздвиженке, к Арбату, по Арбату к Калошину переулку… А вот уже и Сивцев Вражек и Большой Власьевский. На Казанском вокзале предупреждение: ходить по городу ночью без ночных пропусков запрещено – военные патрули ловят нарушителей. Но разве я могла усидеть на вокзале? В моем родном городе? Тем более зная, что мама уже вернулась в Москву – ее вызвал ТАСС. А папа в Куйбышеве застрял. Передвигаться по стране без вызова было невозможно.
Мама открыла мне дверь. Напоила чаем из термоса. Но боже, как она изменилась за какие-нибудь четыре-пять месяцев! Маленькая, худенькая старушка. Такой она стала опять уже только перед смертью. А ведь мама всегда была… нет, не толстой, а полной, представительной, хорошо одетой и хорошо причесанной дамой. И каким жалким показалось мне все вокруг при свете допотопной коптилки! Электричество было отключено. И мама, моя гостеприимная и широкая мама, совала мне в руку невесомые, как иней, осколки пиленого сахара и дольки шоколада. В нормальной жизни мама признавала только трюфели и ставила их на стол в большой хрустальной конфетнице.
Бедная, бедная мама!
Утром я пошла на Воздвиженку, в Политуправление РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии), оттуда мне пришел вызов. И на Воздвиженке с огромным удивлением узнала, что вызов послан по рекомендации Льва Копелева и что я буду служить вместе с ним в 7-м отделе – Отделе работы среди войск противника Северо-Западного фронта.
Не могу сказать, что это меня особенно обрадовало. Скорее, удивило. И даже напугало, ибо я поняла: ни Борис, ни мама и никто из друзей не поверят, будто вызов послан без моего ведома.
Дело в том, что, когда я оканчивала институт, у меня с Копелевым, моим тогдашним научным руководителем, завязался короткий, но бурный роман.
В ту пору Лева был долговязый молодой преподаватель (ему еще не исполнилось и 30 лет), очень восторженный, увлекающийся, безмерно общительный – тогда острили: мол, у Копелева вся Москва – знакомые, а все знакомые – друзья. Подкупали в Копелеве его добродушие и незлобивость. Он первый смеялся, когда над ним подшучивали. Особо всерьез Леву, по-моему, никто не принимал. И все дамы, а Лева не пропускал ни одной юбки, его опекали.
Наш роман с Копелевым изжил себя уже в первые дни войны: слава богу, мы оба это понимали.
Правда, Лева единственный из моих друзей проводил меня в эвакуацию в Куйбышев. Остальные прийти в Химки на пристань не смогли – ТАСС, вернее, часть ТАССа эвакуировали пароходом. На глазах у тассовцев, уезжавших в эвакуацию, я обнималась и целовалась с импозантным высоким Левой. Мое самолюбие было удовлетворено: в роковой час разлуки с Москвой и с мирной жизнью меня проводил возлюбленный. Такая я была тщеславная и глупая девчонка.
Все это пронеслось у меня в мозгу, пока я сидела в отделе кадров Политуправления РККА и молодой человек, не знаю, в каком чине, оформлял меня на работу в 7-м отделе.
В тот день на Воздвиженке я сделала доброе дело для Бориса. Вцепилась, как клещ, в кадровика из Политуправления и стала уговаривать, чтобы он вызвал на Северо-Западный фронт моего мужа. Я так пристала к нему, что он начал клясться и божиться, что пошлет Борису вызов. И выполнил свое обещание.
Фронт был для Бориса куда важнее, чем для меня. Он определил его судьбу на долгие годы, если не на всю жизнь. Ведь после войны к людям возраста Бориса, не прошедшим фронт, относились, как правило, с предубеждением…
На следующий день после разговора в Политуправлении я отбыла в 7-й отдел. Та поездка была просто-таки увеселительной – меня захватили с собой мои будущие начальники. Ехали мы на машине, и сравнительно недолго. Штаб Северо-Западного фронта находился тогда на Валдае. А Валдай той весной буквально утопал в черемухе. Правда, черемуха зацвела позже.
О своей работе в 7-м отделе я еще, возможно, напишу. Но о Копелеве скажу несколько слов уже сейчас. На фронте он предстал совсем в другом ракурсе. Если до войны в Москве к Леве относились сверхдоброжелательно, можно сказать, баловали его, то в штабе фронта Копелева явно невзлюбили, придирались к нему, хотя он был отличным работником.
С Борисом я списалась, как только его перевели из Чкалова в армейскую газету на Северо-Западном фронте. А осенью, когда я уезжала в Москву насовсем (хотела перевестись на другой фронт), мы с ним встретились. Борис получил увольнительную, а я и вовсе была свободна. Непонятно было только, где нам провести эти сутки или двое суток.
Почему-то мы оказались в деревне, видимо, недалеко от железнодорожной станции – ведь мне предстояло ехать в Москву. Деревню эту немцы не занимали, ее никто не бомбил и не грабил. Тем не менее в ней негде было остановиться, настолько она была нищая и грязная. По сравнению с избами, куда нас с Борисом пускали на постой, гостиничные номера в Брянске и комната в брянском доме с перегородками, не доходившими до потолка, выглядели как апартаменты в пятизвездочном отеле где-нибудь в Париже или в Чикаго. Кончилось тем, что мы залезли на сеновал и мерзли часть дня и ночь на прелом сене, где нас кусали какие-то насекомые. Зато на сеновале было видно звездное небо и там было чем дышать.
Утром из этой деревни между Москвой и Ленинградом Борис отправился в свою часть, а я – в Москву.
Как я потом поняла, именно там наш недолгий брак пришел к концу. Психологическому концу. Однако у нас была еще последняя встреча в 1943 году, по-моему, в конце лета. Я приехала к Борису из Москвы на 2-й Украинский фронт, куда его перевели с Северо-Западного. Но эта встреча уже ничего не могла изменить. Мы разошлись навсегда, хотя брак расторгли много позже.
…Долгое время я узнавала о Борисе лишь из рассказов общих друзей или друзей Бориса, которые изредка заходили ко мне.
В конце войны Борис оказался в Австрии, в прекрасном городе Вене. Нацисты в Австрии были еще почище, чем в Германии. Чего стоил один Кальтен-бруннер, именуемый у нас «обер-палачом». Он и впрямь был обер-палач. Тем не менее Австрия считалась захваченной Гитлером, и ее не так бомбили, как Германию. И не делили после войны на оккупационные зоны и не вывозили из нее специалистов и заводы. В Вене наши «оккупанты», в том числе Борис, чувствовали себя отлично.
По рассказам знала, что там собралось много москвичей и даже знакомых. Знала, что к Борису в Вене все относились тепло и уважительно. Он умел поставить себя, и его любили в любом коллективе.
И еще, как мне рассказали гораздо позже, в Вене он нашел свою будущую жену Нину Цеткин. Нина Цеткин была не то внучка, не то внучатая племянница Клары Цеткин, немецкой коммунистки, одной из основателей Коминтерна, видного политика и видной общественной деятельницы. В СССР несколько иронически относились к Кларе Цеткин, ибо по ее и Коллонтай инициативе день 8 марта был объявлен Международным женским днем, праздником счастливой раскрепощенной женщины, что в условиях советской действительности звучало прямо-таки издевательски.
Но Клара Цеткин в бедах советских женщин была явно не виновата. Занимаясь германским фашизмом, я поняла, какая это была мужественная женщина. Именно семидесятишестилетняя Клара Цеткин открыла заседание немецкого рейхстага 30 января 1933 года уже после того, как Гинденбург назначил канцлером Гитлера, то есть фактически отдал свою страну во власть оголтелого тирана! Чего стоило старой женщине взойти на трибуну захваченного фашистами Рейхстага. Чего стоило заговорить с этой трибуны в обстановке истерии, царившей во всей Германии…
История семьи Клары Цеткин мне неизвестна. Нину Цеткин, жену Бориса, я никогда не видела. Но по рассказам подруги Мухи и других общих знакомых знаю, что это была достойная и умная женщина, верная жена и самоотверженная мать.








