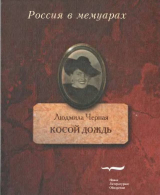
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 47 страниц)
Вернусь к теме нянь. Нянь в послевоенной Москве не было. А без нянь я и другие молодые женщины с малыми детьми не могли работать. Почему нянь не было, скажу сразу: дело в том, что столицу нашей Родины Сталин отгородил после войны от всей Европейской России, от многочисленных ее деревень. Опустил, так сказать, железный мини-занавес. Граждане по ту сторону этого занавеса, то есть граждане, освобожденные Советской армией, оказались как бы в резервации или в лепрозории. Побыв под игом немецких фашистов, они, по логике нашего Вождя и Учителя, могли стать заразными, опасными для москвичей. И долгие годы, а может, десятилетия после войны мы заполняли анкеты, где значились вопросы, сформулированные примерно так: «Не находились ли вы на временно оккупированных территориях?», «Не находились ли ваши родственники (отец, мать, муж, жена) на временно оккупированных территориях?». И даже: «Где похоронены ваши родители?»
А вдруг ваши родители похоронены в Орле, в Смоленске или на Брянщине и в бытность свою живыми успели заразить вас нехорошим вирусом?
Коротко и ясно сказал об этом в стихотворении «Оккупация» поэт Константин Ваншенкин, мой большой друг. У него был дар говорить о трагедиях простыми словами.
Не любила страдавших под оккупацией
Наша власть —
Как гуляющих где-нибудь под акацией
Ночью всласть.
Но сама же безжалостно там оставила
Их одних.
И позднее придумала эти правила – Против них.
Окружила рассчитанными анкетами
Навсегда.
Объявила разбойниками отпетыми Без суда.
Трагическое стихотворение!
Большая часть Европейской России, нищая и замордованная, оказалась отсеченной от Москвы. Откуда было взяться няням? Добавлю, что наша домработница Шура, появившаяся у нас только в конце 40-х, получила возможность приехать в Москву из-под Ельца с помощью поллитровок. Ей выдали какую-то липовую справку, и она сумела и прописаться в Москве, и даже получить паспорт, о котором колхозники не могли и мечтать.
Чтобы покончить с темой нянь после войны, расскажу смешную историю. Вскоре после смерти Сталина, когда мы еще обитали в огромной коммуналке в бывшем публичном доме на Цветном бульваре – одна кухня на восемнадцать жильцов, одна раковина в кухне, кишевшей тараканами, – мужа стали приглашать на приемы в посольство ФРЕ Естественно, приглашали «с супругой». И вот на одном из первых приемов я, тщетно подыскивая тему для разговора с молодой немкой из ФРГ, пожаловалась на отсутствие нянь в Москве… И милая молодая немка, воодушевившись, произнесла следующий монолог:
– Я дам вам замечательный совет. И вы меня век будете вспоминать с благодарностью. Выпишите себе няню из Швейцарии. В Швейцарии девушки аккуратные и чистоплотные. И стоить вам эта няня будет не так уж дорого…
А теперь представьте себе чистоплотную швейцарку в бывшем борделе. Представьте себе огромную коммуналку и стада тараканов на общей кухне, и нас с мужем, бедных, как церковные мыши, для которых единственной твердой валютой была поллитровка… И вы оцените замечательный совет молодой иностранки.
Я ее и впрямь век не забываю.
…Однако швейцарские няни и брат мужа Изя совсем сбили меня с панталыку, увели не в ту степь.
Впрочем, Изя все же оказался в теме. Немало специалистов отбыли из послевоенной Москвы в Германию и Австрию, а также в будущие страны «народной демократии»… В Германии они демонтировали заводы и верфи в счет репараций. Еще больше москвичей – старших и младших командиров и политработников – оказалось в составе наших оккупационных войск. В том числе и мой первый муж Борис.
Ну а что означало это для Москвы? Ничего, кроме того, что некоторые москвичи приобщились к европейской жизни. Пусть и в разоренной Европе. Осколки той европейской жизни проникали и на Родину в виде ярких свитеров, которые стали называть пуловерами, и другого ширпотреба. На Арбате открылся комиссионный, где за малые деньги продавали трофеи: от великолепного венецианского зеркала (я перед ним так и застыла, мне показалось, что я видела это зеркало у бабушки в Либаве) и картин в тяжелых золоченых рамах до старинных чешских гранатовых браслетов и итальянских камей. Были там и муранское стекло, и замечательная старая эмаль… Золотые оправы в комиссионке на Арбате значились как оправы из «желтого металла» – золото разрешалось продавать только в ювелирторгах. Но кому нужно было это золото в первые годы после войны?
Блошиные рынки, инвалиды, карточки, тихий бездетный город, арбатская комиссионка, предлагавшая украшения из многих стран Европы, – все это были видимые приметы прошедшей войны. Но в Москве происходило и почти не видимое простым глазом бурление. Иного слова не подберу. Дело в том, что война пробудила в людях инициативу, активность, веру в свои силы.
Задор в первые два-три года у москвичей не пропал. Правда, он проявлялся в довольно карикатурной форме. В Москве подспудно начался передел собственности, точнее, передел жилплощади, еще точнее – комнат и углов в коммуналках. Из-за эвакуации и людских потерь в перенаселенной столице появились, хоть и небольшие, бреши-пустоты. Кто-то не вернулся в столицу, кто-то не платил за квартиру и потерял свою каморку, кто-то просто захватил чужую комнату. Важной фигурой в то время стал управдом. Управдомы спекулировали жилплощадью и были связаны с милицией. В милиции «прописывали» жильцов. Без московской прописки нельзя было жить в Москве, получить карточки и устроиться на работу, более того, без прописки могли посадить в тюрьму, выслать, отнять паспорт.
Управдомов боялись в 20-х годах, но перестали бояться в 30-х. Тогда боялись только ОГПУ, потом – НКВД, а управдомы стали скорее юмористическими фигурами. В 1945–1947 годах управдомы плюс участковые милиционеры получили большую власть.
Нашу семью – папу с мамой и меня – в Большом Власьевском после войны не тронули. Мы жили в бывшем особняке, которые не котировались. Котировались большие доходные дома с центральным отоплением и лифтом. У нас центральное отопление было только в одной части особняка.
В больших доходных домах, где жили до 1917 года состоятельные присяжные поверенные, врачи, чиновники, комнаты были давно поделены между жильцами. В каждой комнате поселилась семья, а часто и две, а после войны стали заселять даже чуланы, кладовки, отхватывали часть коридора. В квартире, где жила семья Мары, жены Изи, в ванную комнату после войны вселилась какая-то женщина. И много лет там нельзя было мыться. А проживали в этой квартире на Рождественском бульваре семь семей – человек двадцать пять. Муж моей ближайшей подруги и мой приятель по ИФЛИ Сережа Иванов жил в огромном доме на Сивцевом Вражке. Его семья – мать, отец, младший брат и он сам – обитала в половине (темной!) перегороженной комнаты. В светлой половине обитала их родственница с дочерью. И эту квартиру, кажется, еще «уплотнили» после войны.
На Арбате целая семья поселилась в вестибюле одного дома, соответственно переделав его. Стройка проходила на глазах у прохожих. Вестибюль как вестибюль. При советской власти жильцы все равно не ходили через парадный ход, благо во всех старых домах был черный ход. У нас в Большом Власьевском шикарным парадным с росписью на потолке завладела соседка. Ходили мы, как я уже писала, не с улицы, а со двора через кухню, бывшую лакейскую.
Но больше всего поразила меня квартира на Арбате, которую предприимчивые люди сразу после войны встроили в широкие сводчатые ворота в каменном заборе. Стало быть, эти предприимчивые граждане поселились в подворотне!
Впрочем, квартиры в воротах и в парадных – это единичные случаи. В массовом порядке пришлые люди заселяли полуподвалы. По вечерам низ домов был ярко освещен. Занавески там не задергивали – половинки окон чуть выше тротуара были единственным источником дневного света и свежего воздуха. Проходя вечерами по длинному Гагаринскому переулку, я опускала глаза и наблюдала чью-то чужую жизнь при свете ламп с оранжевыми абажурами. Конечно, я знала, что подглядывать некрасиво. Но зато как интересно было невидимкой побывать в незнакомой комнате у незнакомых людей…
Это «дикое» строительство означало, что Москва, тяжело заболевшая еще в 30-х годах, а в войну впавшая в коматозное состояние, постепенно оживала… Москвичи хотели есть и пить, иметь крышу над головой, покупать шмотки. К сожалению, эти естественные стремления проявлялись как-то уродливо… Но что поделаешь!
«Убитый город» (сейчас иногда говорят «убитая квартира», и мне это выражение по отношению к квартире и городу нравится) я увидела не в Советском Союзе, а в ГДР в 70-х годах прошлого века…
Тогда Алика вынудили эмигрировать, а меня и мужа наказали за это, перестав пускать за границу. Первую командировку в ГДР, страну народной демократии, мне устроил по дружбе мой соавтор Владимир Иванович Стеженский, работавший в Иностранной комиссии Союза писателей.
В Восточном Берлине меня встретили две дамы от тамошнего писательского союза и отвели в «апартаменты», то есть в ведомственную гостиницу. «Апартаменты» отличались от гостиниц тем, что вы получали однокомнатную квартирку: комнату с нишей-кухонькой и санузлом, но не получали завтрака, подаваемого в обычных отелях.
Те «апартаменты» помещались в самом центре, на углу главной артерии Восточного Берлина Унтер-ден-Линден и Фридрихштрассе – шумной и многолюдной улицы, много раз воспетой в годы Веймарской республики.
Прилетела я в Берлин зимой, уже в сумерки. Провожатые ушли, договорившись о встрече на следующий день. Я разобрала вещи, выпила чаю с дороги – пакетики с чаем нашла на кухне – и решила прогуляться по городу. Было, наверное, часов восемь вечера, но, разумеется, темно. Зима. И, выйдя на Унтер-ден-Линден, я увидела, что она совершенно пуста – нет ни пешеходов, ни машин, хотя улица залита мертвенным светом фонарей и освещена вдобавок витринами на первых этажах. А на верхних этажах были сплошь темные окна. Некоторое время я шла по этой пустыне, а потом мне стало не по себе, жутко, страшно. Берлин не Москва, там теплее, нет снега. Поэтому у себя в гостинице я сняла зимние сапоги и с удовольствием надела туфли на каблуках. И вот на этой длинной мертвой асфальтовой дороге был слышен только стук моих каблуков – тук-тук-тук. Словно метроном отбивал. Минут через пятнадцать я повернула назад – чужая комната в чужом доме показалась мне куда более обжитой, уютной и веселой, нежели эта улица.
На следующий день я сказала моей берлинской знакомой, бывшей советской гражданке, вышедшей после войны замуж на немца-коммуниста, что меня неприятно поразила Унтер-ден-Линден в восемь (!) часов вечера, но в ответ она недовольно заметила, что берлинцы ложатся спать рано, ибо рано встают… Подразумевалось, что у них нет праздных гуляк, все усердно строят социализм. Я промолчала, но про себя подумала: какой ужас!!! Эта же моя знакомая, приехав в Москву во второй половине 90-х годов, когда город стал по-настоящему оживать, пришла в негодование: перед Новым Арбатом на самодельных лотках продавалась всякая всячина – от пирожков и хачапури до книг, от цветов до постельного белья.
Зато как радовались в начале этого века я и мои приятельницы, которых на старости лет выпустили в широкий мир, как радовались мы, покупая вместе с другими туристами замшевые безрукавки напротив собора Святого Петра в Риме, или дешевые сувениры рядом с Биг-Беном, или разноцветные кукурузные початки и пестрые галстуки в самом центре Манхэттена…
До сих пор уверена – нет ничего печальнее города, где на улицах день и ночь не снуют люди, где не слышны голоса, смех, обрывки разговоров и приветствий, где из окон и дверей порой не вырывается музыка, где нельзя зайти в кино, в бар, в кафешку, в пивную, в шашлычную, где никогда не встретишь знакомых, где не назначают свиданий и где не покупают милую дребедень…
Москву спасли от коллапса извечное российское разгильдяйство, легкомыслие и лень. Слава богу, Москва не стала «образцовым социалистическим городом», хотя ее так называли. Семьдесят лет она сопротивлялась этому. В том числе и в послевоенные годы.
После войны она была холодная-голодная, больная, притихшая, ободранная и окончательно обнищавшая, но все же живая.
Для чего я пишу это?
Отчасти для того, чтобы самой стало ясно, как сложно было заново начинать жизнь в послевоенной Москве, создавать семью, рожать ребенка, выхаживать его, не потеряв ни профессию, ни вкус к жизни…
Мы с Д.Е. начали совместную жизнь в послевоенной Москве, при этом все складывалось для нас на редкость неудачно. Муж пережил тяжелый удар. Его любимое детище, Редакцию контрпропаганды и дезинформации, закрыли, а сотрудников разбросали кого куда. Самого Д.Е. сунули замом в тассовскую Редакцию информации для заграницы к Чернову. Чернов, человек интеллигентный и знающий, был верный служака, образцовый чинуша, принципиальный противник всяческих новшеств и инициатив. Словом, антипод мужа. Как дошел он до жизни такой – не знаю. Может, от природы был смирным. А может, ему обломали крылья, как уже говорилось в начале мемуаров, он долго работал за границей. Стало быть, первый кандидат на посадку в ГУЛАГ…
В общем, Д.Е. спустя месяца четыре сбежал из ТАССа навсегда: его назначили обозревателем в Совинформбюро. Явное понижение статуса. И соответственно потеря материальных благ: Д.Е. лишили и литерных карточек на обеды и ужины в хороших столовых, и сравнительно большой зарплаты.
Ну а я была сама виновата в том плачевном состоянии, в каком очутилась. После рождения Алика в июле 1945-го я могла целых шесть недель пользоваться оплаченным отпуском по уходу за ребенком. Иными словами, получать рабочие карточки и какую-никакую зарплату. А через полтора месяца взять отпуск за свой счет. Навряд ли меня, мать грудного ребенка, лишили бы рабочей карточки. Наверное, это было бы противозаконно.
Но законов я не знала и не хотела знать. Уволилась из lACCa, из ненавистной Редакции союзной информации, как только родила.
В результате беды, свалившейся на голову Д.Е., и по моей вине мы даже на общем нищем фоне оказались самыми обделенными. И все это видели и понимали, кроме нас.
Помню, с каким состраданием смотрела на меня моя институтская подруга Рая, вернувшаяся из Румынии, где она с мужем Колей Орловым года два проработала после войны.
Даже подруга Муха, не имевшая никаких привилегий и никаких амбиций, с удивлением взирала на меня и на Тэка, людей амбициозных.
У Мухи мать скончалась, когда она еще была ребенком, а отец умер где-то в 30-х, далеко от Москвы. Воспитывал Муху дядя Лев Александрович Гринкруг, человек светский, холостяк, друг Маяковского, Бриков и еще множества известных людей 20—30-х годов.
Казалось бы, положение Мухи и вовсе безнадежно. Но вот, гляди-ка, розовощекий бутуз Володя, Мухин сынок, был куда лучше обихожен, нежели наш бледнолицый худенький Алик. Да и Муха с мужем жили намного лучше нас – им помогали такие хозяйственные люди, как Мухина мачеха, которая и торт наполеон могла испечь, и еще нестарая свекровь, а также свекор. Кроме всего прочего, у свекра была дачка в Кратове и восхитительный огородик. А что могло быть полезнее, чем огород, в те голодные времена? И Муха с ее поразительным чувством юмора объясняла нам с мужем все преимущества пассивности перед активностью и советовала не «суетиться под клиентом» и вообще быть «спокойнее».
Самое смешное, что, придя ко мне, Д.Е. стал в Москве нелегалом, жил в Большом Власьевском без прописки. Чтобы прописаться, ему следовало жениться на мне, а чтобы жениться на мне, надо было развестись с первой женой. Но первая жена развод не давала. А без ее согласия нельзя было развестись. Заколдованный круг! Раза два в неделю к нам в «воронью слободку» являлся участковый милиционер, и мы обсуждали этот казус.
К счастью, участковый был парень покладистый. Тэк ставил на стол пол-литра, и мы распивали водку втроем.
На что мы рассчитывали? На что надеялись? Как планировали будущее? Какой «проект», как сейчас говорят, собирались осуществить?
Ни на что не рассчитывали. Ни на что не надеялись. Ничего не планировали и никакого проекта не имели.
А ведь если речь шла о глобальных проблемах, мы оба были совсем не глупые люди. Вспоминая те годы, я удивляюсь, как много мы уже тогда понимали.
Повторю, еще в 1944 году муж сказал мне, что победа, которая была совсем близка, не принесет нам неба в алмазах. Я страшно удивилась: ведь и я, и все вокруг меня свято верили, что, как только отгремит последний салют (в конце войны салюты по случаю взятия городов шли один за другим) и как только с окон снимут черные бумажные шторы, в СССР начнется совсем другая – счастливая жизнь. Кончатся страх и недоверие, постепенно наладится экономика, ведь страна перестанет готовиться к войне и лихорадочно вооружаться, армию демобилизуют, мужики вернутся в деревню… И так далее.
Не помню точно слов Тэка, но помню, что он сказал: «Все сложится совсем иначе, трудно и плохо. Сталин не хочет перемен к лучшему».
По тем временам то была антисоветская речь.
В свою очередь и я поразила Д.Е., сказав: «Никогда не вступлю в партию. Мне эта партия чужда. Если бы я жила в Европе, я была бы буржуазная барышня, надеюсь, журналистка, но отнюдь не левого толка. Вышла бы замуж за интеллигентного молодого человека, желательно небедного».
Таким образом, уже тогда я призналась в моем, пусть интуитивном, отторжении от советского строя.
В 1944 году эти речи звучали жуткой крамолой. И Тэк тотчас возразил: «Я бы стал коммунистом в любом уголке земного шара. В современном мире – выбора нет».
Сказалась разница в нашем воспитании: я жила с рождения при советской власти, он до 15 лет в Веймарской Германии, которую вот-вот должны были захватить нацисты…
Конечно, мы оба постарались забыть сказанное. Не знаю, как муж, но я не забыла.
2. Я учусь…
Но говорить можно было все что угодно, надо было как-то жить, вернее, учиться выживать в послевоенной обескровленной стране. Учиться семейной жизни. Учиться растить ребенка в немыслимых условиях.
«Учиться, учиться и учиться», – как сказал товарищ Ленин. Изредка даже он говорил правильные слова.
И я стала учиться. Иногда успешно, иногда – нет.
Муж в годы моего учения проявил и такт и ум. Увидев, как я неделю пытаюсь сшить крохе Алику ситцевый комбинезон, сказал:
– Прошу тебя, прекрати. Займись делом. Напиши лучше статью. Не то мы и впрямь пойдем по миру…
Но до статей было еще далеко.
Как ни странно, первое, чему я научилась – это давать взятки.
Дело было так: среди постоянных дефицитов в СССР был дефицит № 1 – дефицит телефонов. Люди в коммуналках десятилетиями умоляли поставить им телефон, приносили справки о том, что в их семьях лежачие больные, инвалиды войны, малые дети, беспомощные старики. Ответ был один: «Свободных номеров нет…» К счастью, телефон стоял у нас всегда – и в Хохловском переулке, и в Большом Власьевском. Видимо, в Хохловском поставили еще до революции… Однако в первые дни войны все частные телефоны у обыкновенных смертных изъяли. Смысл этого мне до сих пор не понятен. Неужели опасались, что мы позвоним в ставку Гитлера в Восточной Пруссии «Вольфшанце» и сообщим дислокацию наших войск? Бред какой-то.
Но факт остается фактом: телефоны повсеместно срезали. И совершенно ясно, что поставить их заново было практически немыслимо. Для нашей семьи, во всяком случае. Мама не стала бы просить телефон у своего тассовского начальства – она была интеллигенткой старого типа: никогда ничего не просила. Я сидела с ребенком – и просить было не у кого; мужу за год до этого оказали великую милость: поставили телефон по старому адресу, то есть его первой жене; ставили так долго, что он успел от нее уйти.
И вдруг нам сказочно подфартило. Всемогущий Вышинский – в 1946 году замнаркома иностранных дел – позвонил из какой-то европейской столицы в Информбюро, где Д.Е. как раз начал работать. Вышинскому срочно понадобилась справка. А эту справку мог дать только такой специалист по Германии, каким был муж. И никто другой. И тут выяснилось, что Меламида Совинформбюро разыскать не может – у него нет телефона. В результате разыгравшегося скандала появилась грозная бумага за подписью наркома связи Присыпкина. В бумаге говорилось, что Меламиду Д.Е. по адресу: Большой Власьевский, д. 12, кв. 1а – следует поставить телефон «с последующим оформлением». Слова «с последующим оформлением» воодушевили всех нас. Стало быть, телефон поставят немедленно, без всякой волокиты.
Я уже писала, что отремонтирована наша «жилплощадь» в Большом Власьевском была из рук вон плохо. В тесном выгороженном коридорчике, где на стене висел телефон, у всех на виду были протянуты толстые черные провода. Когда аппарат сняли, толстые провода кое-как перерезали, и они остались висеть, ничем не прикрытые…
Очень скоро, вслед за бумагой от наркома Присыпкина, к нам пожаловал нагловатый парень с чемоданчиком, монтер с телефонной станции.
Я встретила его как посланца божьего.
Монтер вошел в коридорчик, потыкал пальцем в черные провода на стене и сухо сказал:
– Поставить телефон не могу. Ввода нет…
– Как нет? Вот же он… На том же самом месте, где и был… вы же видите… Все осталось…
– Ничего не знаю. Ввода нет…
Довольно долго я твердила свое, монтер – свое. Чем громче я кричала, тем холоднее становился монтер. И вдруг меня осенило.
Я бросилась в комнату, куда забилась испуганная мама, и выпросила у нее не то 100, не то 200 рублей. Выпросила не потому, что маме было жалко денег, нет, – она боялась. Мама верила, что в СССР взяток не дают и взяток не берут.
Получив деньги, наглый парень открыл чемоданчик, достал телефонный аппарат, мигом поставил его и продиктовал номер. Начинался номер на букву «Г».
Ну а как я должна была поступить? Жаловаться на монтера наркому Присыпкину? Подавать челобитную в ЦК ВКП(б)? В Кремль? В приемную Калинина? В наш «народный суд»? Я и сейчас не жалею, что дала нашему ангелу-спасителю с телефонной станции взятку. Тем более что эти рублики в том же году Сталин отменил – провел денежную реформу.
С денежной реформой 1947 года у меня связано несколько занятных историй…
Реформу проводили под Новый год, а 13 декабря мой день рождения, и к нам ожидались гости. Бедный Тэк обегал все окрестные коммерческие магазины и разжился двумя банками варенья из розовых лепестков для праздничного стола и маленькой палехской шкатулкой в качестве подарка. Коммерческие магазины были пусты, продукты, да и вообще всё, что можно было смести, – смели. А дома ни у меня, ни у мамы не было ни хлеба, ни муки или крупы, ни грамма сахара, не говоря уже о других продуктах. Но вечером уже упомянутая соседка, оккупировавшая наше парадное, отвалила мне большую миску или, скорее, таз квашеной капусты. При том, что картошка и водка у нас были. Да и гости тоже приносили водку. Капуста с картошкой и варенье из роз пошли под водку хорошо. Хотя розовые лепестки на вкус оказались довольно противными. Тем не менее мы очень весело отпраздновали мое тридцатилетие.
Никаких претензий к жизни мы тогда не предъявляли. Война только что кончилась. Общая беда!
И второй эпизод. В предвкушении денежной реформы я заключила первую и, пожалуй, последнюю в моей жизни коммерческую сделку: продала черный крепдешиновый отрез, который получила по так называемой лимитной книжке. Лимитную книжку на ширпотреб мужу выдали в ТАССе один раз – перед тем, как закрыть редакцию контрпропаганды. В результате сделки отрез достался соседской домработнице Дусе, а мне – деньги, которые бесследно пропали после денежной реформы.
Почему я так поступила? Объясню. Я считала, что людям, которые живут на зарплату (муж работал в Совинформбюро, а я в 47-м году стала редактором в Радиокомитете, уйдя из ТАССа в 45-м), рубли обменяют по номиналу, ведь это честно нажитые деньги. Иначе говоря, я верила в справедливость в стране строящегося социализма. Но все наличные рублики пропали, хотя, вообще-то, деньги обменивали 1 к 10. Я не очень огорчилась пропаже. Решила, что это хороший урок. Не следует выпендриваться и поступать по собственному разумению – надо делать как все. Советскую власть не перехитришь. Или, как говорили позже остряки, – «Не играй с советской властью в азартные игры».
Зато в Москве наступило изобилие. Такого второго изобилия при социализме я не помню. Правда, позже и Хрущев обещал изобилие. Но после этих слов Хрущева появился анекдот: одна старушка говорит другой: «Не боись, милая. Голод мы пережили, переживем и изобилие…»
Однако в 1948 году в Москве и впрямь появилось всё. На Арбате в неказистом магазине «Рыба» на прилавке в лотках лежала икра зернистая, икра паюсная, икра с «пленочками», видимо, не совсем очищенная, адски вкусная и очень дешевая. На том же прилавке красовались семга, балык, лососина, осетрина холодного и горячего копчения, белуга, также холодного и горячего копчения. И вкуснейшие копченые в коричневой коже рыбы, в том числе копченый сиг, копченый угорь, лещ, копченая треска. Копченого сига я с тех пор никогда не видела. Что это за рыба сиг, не знаю. В той же «Рыбе» на других прилавках во льду лежали и огромные осетры – царь-рыба и другие рыбы. А в аквариумах плавали живые карпы.
В гастрономе № 2 на Смоленской, да и на Арбате в «Диете» было полно свежайшей, вкуснейшей ветчины, которую теперь почему-то называют «окороком тамбовским». Окорок – это задняя часть свиной ноги, определенным образом прокопченная. А еще там продавался копченый язык в тоненькой оболочке белого жира… О колбасах и говорить нечего – они были редчайшей свежести и вкусности. Даже в обычных овощных лавочках на полу стояли бочки с квашеной капустой и с масляно блестевшей капустой провансаль, которую заквашивали с клюквой, яблоками и виноградом.
Да, все это появилось как по мановению волшебной палочки. А как потом исчезло – не помню. Видимо, исчезало постепенно! Мне кажется, что до смерти Сталина в Москве – подчеркиваю, в Москве – карточек и талонов не вводили, стало быть, продукты первой необходимости не пропадали полностью. А после смерти Сталина стало совсем хорошо. Но на короткое время. Тем не менее хочу вспомнить знаменитого конферансье 30-х годов Смирнова-Сокольского: он говорил, что у большевиков все непредсказуемо, кроме голода, возникающего каждые несколько лет. Поэтому он, Смирнов-Сокольский, ввел для себя новое летоисчисление. И так определяет время: «С этой дамочкой я познакомился уже два голода назад» или «Эти репризы я сочинил сразу после последнего голода…».
Но вернемся к моим делам.
К 1947 году угроза голодной смерти для нашей семьи миновала. И муж и я работали, получали зарплату и прирабатывали, писали статьи, а муж еще читал лекции. Я поступила в американскую редакцию Иновещания Радиокомитета, между прочим, по протекции мужа. Тэка, как сказано, уже в 1945-м направили в Совинформбюро обозревателем.
На том этапе и Алик был устроен. Няню все же нашли. Кроме того, спасением для нашего ребенка и других послевоенных детишек, не имевших неработающих бабушек, скоро стали довольно распространенные тогда частные детские группы. Устроить после войны ребенка ни в ясли, ни в детский сад было невозможно. Да и не очень хотелось. Детские группы набирали скромные дамы средних лет… Нет, они не мнили себя великими педагогами. Но, ей-богу, это были замечательные женщины.
О них надо слагать оды и поэмы. Славить их в гимнах и в песнопениях.
Эти святые женщины брали за ручку наших чахлых худеньких послевоенных детенышей и водили их по тихим московским переулкам. Гуляли с ними. А в обед кормили супом и котлетками, которые каждая родительница или няня приносила в кастрюльках или мисочках для своего малыша, а потом укладывали спать на раскладушках. У этих частных воспитательниц наши бесценные крошки учили первые детские стихи, рисовали первые картинки, разгадывали загадки. И воспитательницы устраивали им замечательные праздники, на которых даже самые стеснительные Саши и Маши (после войны почти всех мальчиков называли Сашами, а почти всех девочек – Машами) декламировали стихи, танцевали и пели. Один из таких праздников в детской группе в Гагаринском переулке стал триумфом сына, в будущем известного художника. Триумфом, наверное, равным по значению с персональной выставкой в Лондоне или в Нью-Йорке… В тот знаменательный день мой мальчик удостоился чести танцевать в паре с самой красивой и нарядной девочкой Машей Большой. Машу Большую (в группе было еще две Маши) для краткости называли Машей Бэ, что резало мне слух. Маша Бэ – выше сына на полголовы – была дочкой балерины и училась танцам. Но, как выяснилось, мой ребенок танцевал лучше всех мальчиков в группе, и Маша Бэ без тени сомнения выбрала его себе в партнеры.
В частных детских группах (сын был в двух таких группах) детей привечали, уважали и любили, и они старались не обмануть доверия взрослых. И там не было казенщины… Помню, по радио в хрущевские времена как-то передавали сценку из быта детских яслей: воспитательница, подзывая к себе годовалого малыша, кричала: «Ползи, Степанов!»
С группами нам с сыном безусловно повезло!
Но в группах дети проводили часов пять-шесть. И только тогда, когда были здоровы. Но не так уж часто они были здоровы. Мне в ту пору казалось, что у нормального ребенка здоровье – это короткая пауза между двумя хворями. У племянника Левы, сына Изи с Марой, воспаление среднего уха, у нашего Алика – очередная ангина. У Левы – бронхит, у Алика – тонзиллит, опять ангина, операция – удаление гланд. Операция не помогла, осложнение на сердце – ревмокардит. Шестилетнему ребенку запретили бегать. Когда же ему еще бегать, если не в шесть лет? А за полтора года до этого – очень страшное: гнойный аппендицит. Алик на волоске от смерти.
Слава богу, в ту пору еще не перевелись в России замечательные частные доктора. Как не вспомнить покойного Селестина Моисеевича Тумаркина, спасителя сына! Вот с кем нам сказочно повезло!
Когда он, седой высокий человек, неторопливо (врачи из поликлиники всегда торопятся) входил в комнату и, чуть прищурясь, оглядывал ребенка своими добрыми глазами, а потом прикладывал стетоскоп к его худой спинке, сразу становилось легче на душе. И вроде бы хворь отступала.
Я говорю о платных врачах. Но что значили для нас скромные денежки – хорошие врачи не были рвачами, – если врач взваливал на себя ответственность за наше сокровище? Если он вместе с нами боролся за здоровье ребенка и за его благополучие?
Однако даже самые лучшие детские врачи не всемогущи. Малыши все равно болеют и страдают. И мамы вместе с ними. А поскольку в мое время мамы маленьких детей находились на госслужбе, где при Сталине за опоздание на двадцать минут наказывали тюрьмой, выполняли план, сидели на собраниях и еще занимались домашним хозяйством и ублажали мужа, если таковой не успел сбежать, то о более-менее разумном воспитании ребенка у большинства мам речи не было.








