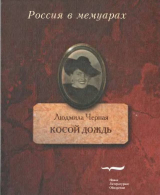
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 47 страниц)
Все трое бабушкиных вассалов – дед, Якоб и Владимир – были полиглотами, знали по пять-шесть языков. Особенно гордилась мама Владимиром: поступив на государственную службу в Латвии уже в зрелом возрасте, он должен был изучить латышский. И блестяще справился с этой задачей.
Мама, человек замкнутый, чрезвычайно редко и неохотно говорила и о себе, и о своей семье. Поэтому многого о либавских родных я так и не узнала.
Но все это, конечно, пришло мне в голову десятилетия спустя. А пока что я оказалась в очень большой квартире – в целом этаже собственного дома. Главная комната в ней – залитая солнцем бабушкина спальня с большим балконом. В этой комнате за длинным столом завтракали бабушка и мы с мамой, а в углу за японскими ширмами стояла бабушкина кровать. В кабинет Якоба меня не пускали, равно как и в нарядную гостиную. Но в гостиную можно было проникнуть вместе с бабушкой, когда она из лейки поливала вьющиеся растения, которые росли на жардиньерках, так эти предметы, кажется, назывались. Кроме того, в гостиной висело венецианское зеркало, которое запало мне в душу.
Нам с мамой предоставлялись две смежные комнаты. В своей комнате я съедала второй завтрак в обществе фройляйн, гувернантки-немки. Она же и гуляла со мной в красивом парке. Помню также, что мы с фройляйн что-то все время клеили. Клеила я и в Москве с великовозрастной племянницей папы Раей, педологом. Из этого факта делаю вывод, что и в Советской России, и в Либаве Ульманиса маленьких девочек воспитывали тогда одинаково. А потом Сталин запретил педологию.
В Либаве со мной случились несколько забавных и, я сказала бы, знаменательных историй.
Однажды меня послали за хлебом. Было мне пять с половиной. Булочник был знакомый, и он меня ждал. Надо было пройти несколько шагов, свернуть и идти прямо до дверей лавки. Почти весь путь просматривался бабушкой и мамой с балкона. Я храбро вступила на тихую улицу под сень старых деревьев, прошла немного и тут же… заблудилась.
С этого началась моя карьера топографического кретина. В студенческие годы приятели говорили: «Ну хоть бы раз она пошла в нужном направлении. Ну хоть бы по ошибке повернула куда надо».
Вторая история была тоже очень поучительной. В парке, где мы с фройляйн гуляли, состоялся детский праздник. На этом празднике должны были выбрать самого красивого ребенка и вручить ему награду. Моя честолюбивая фройляйн, видимо, была уверена, что награда достанется мне. Ревниво оглядываясь, она тихонько подталкивала меня вперед. Но жюри – несколько важных дам – даже не взглянули в мою сторону. Они прямиком направились к мальчику в матросском костюмчике и под аплодисменты публики дали мальчугану огромную коробку – приз за красоту. Моя фройляйн, так же как и стоящие поблизости другие фройляйн, пришла в жуткое волнение. Их возмущало, что мальчуган был не то сыном, не то внуком бургомистра. Какая несправедливость!.. Разве могла простая девочка из Москвы конкурировать с внуком или сыном бургомистра?
Ä propos. Моя красота сильно потускнела в самое неподходящее время. Когда мне минуло двенадцать – четырнадцать, то есть именно тогда, когда гадкие утята должны превращаться в гордых барышень-лебедей…
Наконец, третья история тоже открыла девочке Люсе нечто новое.
Все в том же парке я играла с местными ребятишками в школу. Мы писали диктант, а один мальчик диктовал. Вдруг кто-то из ребят заглянул ко мне и закричал: «Она писать не умеет». Обидно до слез. Ведь только накануне я написала папе открытку – «Дорогой папочка…». И еще несколько слов в придачу.
Выяснилось, что в парке я писала под диктовку немецкие слова русскими буквами…
Потом мне долго внушали, что существуют разные шрифты, разные алфавиты. Русские слова пишутся кириллицей, немецкие – латинским шрифтом. А тогда, в 20-х годах прошлого века, еще и готическим шрифтом…
Обедали в Либаве очень торжественно, в огромной сумрачной столовой, расположенной на другом уровне, чуть ниже жилых комнат и почему-то с задернутыми шторами. В столовой стоял длиннющий стол, его накрывали только на треть. Стулья вокруг стола были тяжелые, с высокими спинками. Мне клали на сиденье подушку. Вдоль одной стены стоял массивный дубовый буфет, а вдоль другой – такой же массивный сервант, на котором красовались гигантские раковины. Несколько раз мне подносили их к уху, и я отчетливо слышала шум моря.
Мой первый большой грех связан с тайной маминой семьи, с одной стороны, и с моим воспитанием – с другой. Воспитание было построено на безусловном послушании. В частности, ребенок должен был съесть все, что ему давали; на тарелке ничего нельзя было оставлять. Для меня каждый обед превращался в муку мученическую – пока я, давясь слезами, хлебала большой ложкой из необъятной суповой тарелки, взрослые – бабушка, мама, иногда дядя Владимир и очень редко дядя Якоб (он постоянно был в разъездах) – съедали и второе, и десерт и, покончив с обедом, уходили по своим делам. Служанке Аннеле категорически запрещалось отпускать меня, пока я все не съем…
Рядом со столовой была комната деда. Дед был седобородый, высокий, но какой-то заброшенный. Он сидел за большим письменным столом и читал толстые книги, которые называли «фолиантами». Много лет спустя я узнала от мамы: фолианты были на латинском и на греческом. Дед зазывал меня в свою неуютную, какую-то нежилую комнату, униженно просил побыть с ним, поговорить и норовил поцеловать. Но я быстро вырывалась и убегала. Мне не нравилось, как от деда пахло. Чем пахло? Наверное, старостью. Одинокой, неопрятной старостью, несвежим бельем, затхлой непроветриваемой комнатой. Неухоженность деда становилась особенно явной по сравнению с подтянутостью бабушки. Ни разу я не видела бабушку в халате и в шлепанцах.
Дед был у себя в доме изгоем. И, не зная тайны этого дома, я своим маленьким дрянным сердечком прекрасно понимала, что вырываться и убегать от деда можно. Он не пожалуется, и никто не узнает. А если кто и узнает, то скажет деду: «Не приставай к девочке». Ни дяде Якобу, ни дяде Владимиру, а тем более бабушке невозможно было показать, что ты их не любишь. А деду можно. Этот грех особенно мучает меня сейчас, когда я стала старой и все обиды от сына и невестки кажутся мне возмездием за тот грех.
Первым среди маминой родни умер дядя Якоб. И мама горько и безутешно плакала. Потом умер дед. И мама опять плакала. И уже незадолго до 1939 года, когда Латвия стала советской, умерла бабушка. И мы получили очередное письмо в светло-зеленом конверте от Владимира со словами: «Милая Тильхен, мы осиротели, наш Ангел, мама, скончалась. Теперь она на Небе…» Владимир пережил бабушку всего на несколько месяцев. В ту пору уже ни о какой поездке в Латвию на похороны и речи быть не могло. Мамины заграничные племянницы, дочери ее сестры Зины, продали дом и прислали маме сундук со всяким скарбом: старыми сюртуками Владимира, розовой сахарницей на бронзовых ножках – она до сих пор живет у меня в качестве конфетницы – и не помню еще с чем. Ни серебра, ни картин, ни венецианского зеркала там не было.
Насколько я помню, племянницы собирались эмигрировать – знали, что в Прибалтику скоро придет или Сталин, или Гитлер. Час оккупации Эстонии, Латвии и Литвы вот-вот пробьет. Бэла собиралась в Аргентину, там у ее мужа «были дела». Ее сестра Маргарита – в Англию, у ее мужа оказались «дела» в Лондоне. Судя по подаркам, которые Бэла привезла в Москву в свой последний приезд, сестры были состоятельные люди. Бэла подарила нам дорогие вещи – платья, джемпера, туфли и часы «Омега». Эти часы служили мне верой и правдой лет тридцать, потом их украли.
Фамилий мужей Бэлы и Маргариты я не знаю. И мамина семья для меня кончилась. Отныне в графе «Есть ли родственники за границей» я, уже студентка, с чистой совестью писала «нет». Какое счастье!
Либава была в начале нэпа. А был еще и закат нэпа. И с закатом нэпа связано мое воспоминание о пансионе в Болшеве… Я уже немного повзрослела, все отчетливо помню. Мы живем два лета подряд в частном пансионе. Пансион дорогой, но все очень довольны. Мама уже работает в ТАССе и много зарабатывает. У нас большая комната – убирают ее каждый день. В хорошую погоду раскладывают большой стол в саду, стелют белоснежную накрахмаленную скатерть. У приборов салфетки, воду подают в хрустальных графинах. Очень все нарядно, масса каких-то яств (тут бы мне с ними и попрощаться на долгие годы, но у нас в стране никогда нельзя угадать – что, когда и на сколько лет исчезнет!).
Кроме меня в пансионе были еще двое ребят. Красивый мальчик Гарик, ненамного старше меня. И Юра Есенин. Как я позже узнала, он носил фамилию матери – Анны Извековой8. Незадолго до того его знаменитый отец, поэт Есенин, покончил с собой. Юра – губастый коренастый мальчишка. От отца у него только золотой чуб и синие глаза.
Мать Юры каждый вечер приезжала из Москвы на поезде и утром опять уезжала. Она, кажется, работала в типографии. Черноволосая худенькая женщина, строго одетая. Юра вызывал у меня священный ужас тем, что как-то вмешался в разговор взрослых за столом и громогласно заявил: «Отец не любил Айседору Дункан». С Юрой, как и с Гариком, я дружу. Юра читает стихи собственного сочинения. Его кумир – Маяковский. Он пишет «лесенкой». Говорит, что хочет посвятить мне свои стихи. Но я мала и глупа. Мне это не столь уж лестно. Но вот однажды, выйдя за калитку, я встречаю нескольких девочек, подглядывающих в щелку через забор. Спрашиваю, что они высматривают? Девочки говорят; «А ты знаешь, что на той даче живет сын Есенина?» Еще бы мне не знать. Я тут же начинаю хвастаться тем, что мы – неразлучные друзья. Девочки смотрят на меня с большим сомнением. Я для них еще мала и глупа. Узнаю, что стихи Сергея Есенина переписывают в альбомы, учат наизусть. Он запрещенный, но бесконечно любимый и популярный поэт. Первый самиздат!
Девочки начинают уговаривать меня, чтобы я познакомила их с Юрой. Я отказываюсь. Во-первых, раз Юра такой ужасно знаменитый, мне не нужна конкуренция. Особенно настораживает меня красивая девочка лет двенадцатитринадцати с золотым медальоном на худенькой шейке. Она тут же предлагает медальон в обмен на знакомство с Юрой. Но, во-первых, медальон мне, конечно, ни к чему. Во-вторых, я знаю, что Юра большой воображала. Он говорит, что терпеть не может поклонниц. И я смекаю, что эти девочки и есть поклонницы. Если я начну разговор про них, может послать меня к черту. Словом, я непреклонна…
Став старше, я не раз удивлялась тому, что никогда не встречала больше Юру Есенина, а ведь я окончила литфак ИФЛИ. Среди моих друзей и знакомых было много поэтов. Уже после смерти Сталина стала спрашивать о судьбе есенинского сына Юры. И гораздо позже узнала из газетных публикаций, что его в 1937-м репрессировали и сразу же расстреляли. Это был, пожалуй, первый встреченный мной человек, который, как говорили когда-то, канул в Лету. Бесследно исчез, был вычеркнут из жизни.
Впрочем, отнюдь не только Юра Есенин интересен в частном пансионе в Болшеве. Меня занимает и хозяйка пансиона. Ее зовут Таисия Михайловна. Биография Таисии Михайловны – одна из тех фантастических биографий, которые породила Революция… Таисия Михайловна – худая женщина с гладко зачесанными черными волосами, с пучком. Она – сгусток воли и энергии. Вместе с тем она, как чеховский Епиходов из «Вишневого сада», – «тридцать три несчастья». Таисия рассказывает маме и всем другим дамам-постоялицам, что после Революции муж ее сбежал с любовницей на какой-то экзотический остров. По-моему, на Мадейру. И все дамы-постоялицы шепотом повторяют: «Надо же, на Мадейру…» (А может быть, на Мадагаскар?) Во всяком случае, он сбежал, оставив ее с двумя детьми. Но на этом несчастья Таисии не кончились. Старший сын Анатолий, непризнанный композитор, женился на подруге Таисии Михайловны немолодой Нине. Мужа подруги, белого офицера, расстреляли. Таисия пожалела и приютила Нину, а та, «змея подколодная», отплатила ей замужеством с Толечкой. «Змея подколодная» и «Толечка», жилистый мужчина с рыжеватыми усами, жили в отдельном домике, откуда раздавались иногда звуки пианино, – Толя сочинял музыку. Честно говоря, я не замечала между ним и «змеей» никакой особой возрастной разницы. Оба они казались мне старыми и скучными.
Другой упрек Таисии Михайловны в адрес бывшей подруги Нины звучал, на мой взгляд, более убедительно. Нина сидела целый день с французской книжкой в руках, а иногда мечтательно вперяла взгляд в пространство. Таисию же в это время «рвали на части». Она одна должна была управляться со всем хозяйством. Праздность Нины я не одобряла…
Но и с младшим сыном Таисии Шурой происходили разные беды. Шуре 24 года, он не то инженер, не то учится на инженера. И вдруг – о ужас! «О ужас!» – повторяют дамы-постоялицы. В толстощекого большого Шуру влюбляется Зинаида Райх, тогдашняя жена Мейерхольда, одна из жен Есенина. Поистине дух Есенина бродит по пансиону!
Однажды Зинаида Райх приехала к Шуре. В пансионе поднялся переполох. Но Зинаида Райх, не поприветствовав никого, уединилась с Шурой. Таисия заламывает руки. По правде говоря, испугалась и я. Видимо, решила, что и Зинаида Райх поселится в пансионе и перейдет на содержание Таисии. Но Зинаида Райх скоро уехала и больше не появлялась.
Еще помню в Болшеве знаменитого кинорежиссера Протазанова с красивой дамой и с красивым молодым человеком. Они напоминали мне почему-то тройку. Красивая дама, жена Протазанова, всегда шла посередине – коренник; по бокам две пристяжные – сам Протазанов и красивый молодой человек. Они жили на другой даче – не завтракали и не ужинали с нами. Только обедали. Когда они уходили, все дамы вздыхали и говорили загадочные слова: «Menage ä trois» («Брак втроем»)…Сейчас мне пришло в голову, что кусочек жизни, подсмотренный мной в болшевском пансионе, был последним кусочком «нормальной» жизни.
Любовь втроем… Тень поэта, вскрывшего себе вены и написавшего кровью последние строки… Инфернальная Зинаида Райх, затеявшая роман с почти мальчиком… Молодой композитор, связавший жизнь с немолодой вдовой… Словом, житейские трагедии, драмы, невзгоды, чувства… И все это на фоне подмосковной природы, вкусной еды, воды в хрустальных графинах и крахмальных салфеток у каждого прибора…
И никакой политики: успехов на трудовом фронте, соцсоревнования, промфинплана, съездов, врагов народа, бдительности…
Ничего подобного в последующие семьдесят – восемьдесят лет моей жизни я не видела. Не видела не только красивых графинов и крахмальных салфеток у каждого прибора, но и частных пансионов как таковых.
В последующие семьдесят – восемьдесят лет граждане-товарищи, как правило, отдыхали в государственных здравницах, то есть в домах отдыха и санаториях, где не могли рассчитывать даже на то, что им предоставят отдельную комнату.
И все или почти все, как тогда говорили, представители высшего и среднего классов фактически отреклись (не писали в анкетах) не только от своих мужей – эмигрантов и белогвардейцев, но и от своих отцов и дедов.
В рождественские дни 2011 года я услышала в передаче по ТВ, что любимец Сталина, знаменитый кинорежиссер Александров, выдававший себя за сына горнорабочего, в действительности был сыном хозяина ресторана…
Исходя из всего вышеизложенного, я и позволила себе вспомнить пансион в Болшеве.
6. Родители
Обо всех персонажах детства написала. Даже о Ленине, которого – свят-свят! – видела только на портретах. Всех вспомнила, даже бабушку Анну в далекой и недоступной Либаве. Только о маме с папой не рассказала. Наверное, потому, что писать о родителях невероятно трудно. Ведь они всю жизнь с тобой. И не только с тобой, они в тебе. В твоей душе, характере – словом, в твоих генах. И обязательно во внешнем облике. Ты смеешься как мама, и у тебя папины глаза.
И притом ты с родителями в вечном споре. Они видят в тебе свое воплощение, свое второе «я», а ты все время доказываешь и им и себе, что ты другая, совсем другая, из другого теста.
Самое удивительное, что в тебе одновременно уживаются и отец и мать, два не похожих друг на друга человека.
…Вот я случайно познакомилась с милой молодой девушкой. Она – в беде. И мне показалось, что ей легко помочь. Наобещала девушке с три короба. Обнадежила. Потом подумала и поняла, что ничего не смогу сделать… Типичный папа.
А вот сценка, где я выступаю точь-в-точь как мама.
Видимо, уже 90-е. Центральный дом литераторов. Я пришла туда на собрание. В вестибюле, как всегда, полно народа. Но люди на этот раз особенно возбуждены. На повышенных тонах что-то обсуждают. Спрашиваю у незнакомых женщин, что, собственно, произошло? Мне отвечают: дескать, в этом самом вестибюле некий Осташвили позволил себе антисемитский выпад… Его пытались остановить… Началась драка. Негодяй вцепился кому-то в волосы… Вызвали милицию…
Интересуюсь, когда это случилось. Мне отвечают: «Позавчера вечером». И тут я непроизвольно восклицаю, причем очень громко, на весь вестибюль:
– О боже! Позавчера! Какое счастье, что я здесь не была. А ведь могла бы прийти!
Слышу несколько возмущенных голосов: «Ничего себе – позиция. Вы должны огорчаться, что не были здесь позавчера. Не дали отпор хулигану и антисемиту…» Женщины вокруг негодуют.
Ну а теперь о маме с папой. Все, что мне известно. Но знаю я о них, увы, не так уж много. Еще раз напоминаю: при советской власти, особенно до войны, люди не говорили о своем прошлом. Это было смертельно опасно, если человек не числил себя «выходцем» из семьи «беднейших крестьян» или из семьи рабочего «от станка». В анкетах в 20—30-х люди писали: отец – служащий, мать – домохозяйка. А народ постарше – «из мещан». Дети священнослужителей и офицеров, домовладельцев, фабрикантов и заводчиков, купцов и мелких хозяйчиков (чувствуете, сколько презрения заключено в этих двух словах!), дети крупных чиновников и дворян, помещиков и банкиров за редкими исключениями (исключениями стали уж очень одиозные фамилии) исчезли с лица земли. Остались только дети «из мещан» (позднее писали «дети служащих»).
Мой отец Борис Ефимович Черный был младшим сыном в многодетной еврейской семье, по-моему, из Литвы. Когда старший сын Овсей женился, папа только-только появился на свет, и произошло это в 1879 году. В год свадьбы родителей моих деда с бабушкой уже не было в живых.
Кажется, дед торговал лесом и ко времени рождения «младшенького» стал купцом второй гильдии. А может, и раньше.
Про бабушку я знаю еще меньше. Кто-то из папиной родни сказал мне, что она была очень красивая и что ее однажды похитил помещик-поляк, после чего она и родила моего голубоглазого отца. Когда я спросила папу, правда ли это, он страшно возмутился и долго не мог прийти в себя от гнева. Кто мог так оклеветать бабушку?
И отец, и почти все дети братьев отца получили высшее образование. Папа закончил реальное училище в Вильно (мама раздраженно поправляла: «в Вильнюсе»), а потом получил диплом инженера в Политехникуме в Берлине. Подтвердил этот диплом в Харьковском технологическом институте. Работать по специальности в царской России можно было только с русским дипломом. А более или менее состоятельные евреи тогда, видимо, часто учились за границей, считая унизительным преодолевать процентную норму в России.
Сколько себя помню, у нас в доме висел портрет (фотография) дедушки в деревянной раме. Бородатый седовласый дед был в черной шапочке, которую тогда называли ермолкой, а потом переименовали в кипу.
Тогдашние фотографии, впрочем, не имели ничего общего с нынешними – их обязательно ретушировали. Исправляли. Помню, в перенаселенной коммуналке в Большом Власьевском жила ретушер Нина Николаевна. На свой заработок она содержала себя, мать в седых буклях и вечно дрожавшую у нее на руках собачонку Мики, карликового пинчера.
Благодаря ретушерам даже глубокие старики выглядели на дагерротипах – портретах – благообразно и, я сказала бы, вальяжно. Морщины пропадали, лица становились гладкими…
Черная шапочка на голове у деда – единственный признак его принадлежности к иудаизму. Его сын, мой папа, родившийся в XIX веке, – ни в какой хедер (религиозную школу) не ходил, Талмуд не изучал, на идише не говорил.
Конечно, папу записали в XIX веке в России не Борисом, а Борухом, а он переделал себя в Бориса. Но в годы моей молодости все Пелагеи стали Полинами. И младенцев перестали называть Феклами, Анфисами, Акакиями. Даже Иваны почти перевелись. Помню, ходил такой анекдот: мол, Иван Говно поменял имя Иван на Альфред. Только в конце XX века что русские, что евреи в СССР стали проявлять интерес к именам «суконно-посконным», «кондовым». Особого патриотизма я в этом не замечаю. Многие Иваны, Харитоны и Ермолаи обзавелись американскими паспортами…
Итак, мой папа Борух Черный получил диплом Политехникума, учебного заведения в Берлине, и стал инженером-технологом. Позднее ему был выдан второй диплом в Харьковском технологическом институте императора Александра III. Причем диплом с отличием, что, как сказано в том же документе, давало реальные привилегии… при поступлении на государственную службу… Окончившие курс с отличием получали чин X класса, а окончившие курс без отличия чин XII класса. Более того, «инженеры-технологи, не имеющие по происхождению прав высшего состояния, причисляются к сословию личных почетных граждан…». А если они «успешно занимались не менее десяти лет управлением фабрик или заводов или же исполняли обязанности технических инженеров», то «министру народного просвещения предоставляется (право. – Л.Ч.) ходатайствовать о причислении их к потомственному почетному гражданству».
Но самое интересное в папином харьковском дипломе, что он был выдан в 1909 году, можно сказать, в самое золотое время для молодых инженеров в России. Именно тогда Россия из отсталой страны стремительно превращалась в индустриальную державу.
Молодой красивый папа (многочисленные папины племянницы с упоением вспоминали, как лестно было пройтись с папой и посидеть с ним в кафе!) – видимо, способный человек, вполне светский – мог без труда сделать прекрасную карьеру! Но, как я понимаю, не сделал.
Пять лет спустя, перед войной 1914 года, он снимает довольно скромную квартирку в Хохловском переулке. А ему уже 35 лет, да и золотое время прошло – мировая война царскую Россию не пощадила, как, впрочем, и всю Европу!
Из очень нечастых разговоров родителей на тему прошлого я уловила, что у папы до 1917 года было какое-то свое «дело», видимо, небольшая фирма. С компаньоном или с компаньонами. На этом основании папа считал себя тогда самостоятельным. И говорил, что быть самостоятельным приятно. Но, с другой стороны, собственность лучше не иметь, поскольку это налагает ответственность. Гораздо проще, если у тебя нет ни собственности, ни денег.
Вот такая милая философия. Мне она никогда не импонировала…
Считается, что евреи очень деловые, практичные люди. (О практичности скажу позже.) Умеют устраиваться. Но более неделового человека, чем папа, я в жизни не встречала. Пожалуй, более неделовым был только дед по материнской линии, либавский дед. Но про таких людей говорят, что они «не от мира сего». Про папу этого нельзя было сказать. Он был вполне земной.
Чем занимался папа в годы моего детства – толком не знаю. По-моему, что-то строил, состоя при этом на службе. Строил, кажется, за городом. В 20-х и 30-х бурно росли подмосковные дачные поселки: «по Казанке» (по Казанской железной дороге), «по Северной»… и т. д. По Северной была «вода», река Клязьма, по Казанке «было сухо», сосновый лес.
Средний класс жаждал получить хоть какой-то свой клочок земли.
Поселки назывались в угоду тогдашним хозяевам жизни: «Старый большевик», «Политкаторжанин» или со словами «красный»: «Красный бор», «Красная поляна».
Дачные дома были без удобств, бревенчатые, с маленькими окошками. И ставили их на небольших участках, огороженных деревянными заборами.
Исключением в этом дачном строительстве стала Рублевка.
Не знаю, где именно возводил мой папа деревянных уродцев, – уверена, не на Рублевке. Но все же возводил. И, безусловно, мог бы обзавестись какой-никакой дачкой. Однако не обзавелся. Якобы, когда папа дома построил, ему сказали, что он должен отдать свою жилплощадь в Москве, иначе, мол, ничего не получит. Выходило, что в отсутствии дачи виновата мама, поскольку она не захотела переселяться в Подмосковье без удобств… И слава богу… Мы бы там все перемерли.
Нетрудно догадаться, что папе не дали дачу не из-за нежелания мамы жить на ней постоянно. То была лишь отговорка. Неделовой папа не понял правил игры. Уже в конце 20-х, когда деньги потеряли свою ценность, важнее всего стали связи. Каждый старался помочь другу-приятелю, надеясь на его помощь в будущем. Люди устраивались на работу по знакомству, получали по знакомству квартиры, вступали в дачные кооперативы. Иначе говоря, ты – мне, я – тебе.
Папа так не умел.
Судьба дала папе и второй шанс – сделать большую карьеру уже в 30-х годах, когда Сталину понадобились инженеры для первых пятилеток. И как раз инженеры-технологи (машиностроители), как значилось в папином берлинском дипломе.
Тут папа с его двумя высшими образованиями и со знанием немецкого очень пригодился бы. Дружба с Германией была, как никогда, крепка. Тухачевский и другие генералы, вопреки Версальскому договору, вооружали немцев, а немецкие инженеры помогали нам строить военную промышленность.
Но и тут, как тогда говорили, фортуна папе не улыбнулась. Он оказался совершенно не приспособлен к тому, чтобы делать карьеру.
От отцовской инженерной деятельности в моих воспоминаниях осталось очень немного – высокие сапоги, которые он надевал, ибо рядом с возводимыми постройками тянулось болото. И еще десятник Шнуровский, часто приходивший к нам домой. Десятник Шнуровский был страшный донжуан. Он губил мамину прислугу.
Первой жертвой Шнуровского стала Поля, которая много лет вела наше хозяйство. После Поли пострадала временная домработница, молоденькая девушка. В отсутствие родителей она гадала на Шнуровского по «гадальной книге», бросала шарик из хлебного мякиша на пожелтевшие страницы… И лила слезы. А я ее утешала.
Кстати, о домработницах. Поля была из деревни, однако вполне грамотная и, я сказала бы, цивилизованная особа. Никакого дремучего невежества, никакой власти тьмы в ней не замечалось. Чего не скажешь о всех моих деревенских домработницах, в том числе о долголетней подруге дней моих суровых, Шуре, «афоризмы» которой повторяли наши с Д.Е. друзья и знакомые. Умная Шура не умела ни читать, ни писать…
Но вернусь к отцу.
Не век папа строил дачные поселки. Помню, что он служил в каком-то тресте[В 20-х все производство в СССР разбили на сотни трестов. Были трест Главрезина и трест Главтабак, трест Главмолоко и трест Главуголь. В 1929 году часть трестов (по отраслям) объединили, получились Зернотрест, Свиновод, Скотовод…].
И, как всегда, вначале у папы все было замечательно – он очень любил людей, был человек общительный и увлекающийся… Вспоминаю одного из начальников папы – Николая Гавриловича, простецкого парня, вероятно, выдвиженца. Помню и его жену, видимо, из дворян, Ольгу Всеволодовну – они приходили к нам в гости в Хохловский переулок. И мама их принимала, как она умела, очень красиво. А потом эта пара уехала в Германию – кажется, Николая Гавриловича сделали дипработником.
Но все папины службы и «нужные знакомства» быстро обрывались. И папа опять подавал заявление об уходе «по собственному желанию» и поступал на новую работу…
Ну а как он сам относился к превратностям судьбы?
Переживал? Был безразличен?
Наверное, в глубине души все же переживал. Но вслух говорил, что не намерен всю жизнь просиживать штаны в одном и том же учреждении. Говорил, что ему лично ничего не надо. Есть деньги или нет денег – все равно. Такая философия безразличия к мирским благам, философия опрощения, насколько я понимаю, в 20-х годах была очень распространена.
На самом деле папа был человек жовиальный, любил вкусно поесть («закусить», как он говорил), любил перед обедом в воскресенье выпить рюмочку-другую настоянной на лимоне водки, любил застолья. Правда, курил всякую гадость: иногда набивал гильзы плохим табаком, иногда курил даже махорку, но чаще всего дешевые папиросы. В одежде, в отличие от мамы, ничего не понимал. Носил уродливые толстовки – холщовые блузы с карманами, в которых только гениальный Толстой не выглядел шутом.
Единственное, в чем нельзя было упрекнуть доброго, наивного, не приспособленного к жизни папу, – это в распущенности.
Я уже говорила, что папа был человек непрактичный. Теперь скажу, что у нас в семье слово «практичный» употребляли только в отрицательном смысле. Разве мог порядочный, как говорили тогда, «приличный человек» быть практичным? Ни в коем случае. Тем более приличный человек не мог быть деловым. Ведь деловой человек – это человек успеха. Он энергичен, предприимчив, инициативен, смекалист. И он обязательно должен добиваться победы и всяких житейских благ, добиваться наград. Даже денег, если в обществе ценят деньги. Поэтому хороший делец был в глазах интеллигенции той поры если и не тождествен ловкому жулику, то явно подозрителен. Работящий человек, конечно, приветствовался. Но он должен был вкалывать не за презренные жизненные блага и удобства, а ради идеи. При советской власти долго существовала унизительная кличка «потребитель» – в противовес человеку идейному. Все коммунисты априори были идейными.
Характерно, что во времена моего детства самым распространенным анекдотом-притчей была притча о Диогене и Александре Македонском. Кредо древнегреческого философа Диогена заключалось в словах: «Человек счастлив, если ему ничего не надо».
По преданию, сам Диоген, кроме сумы для хлеба и посоха, ничего не имел. И жил в… бочке. И вот однажды к той бочке подошел Александр Македонский и, восхищенный философом, возвестил: «Проси чего хочешь. Я исполню любую твою просьбу». На что Диоген ответил: «Отойди от бочки. Ты загораживаешь мне солнце». После этого потрясенный Македонский воскликнул: «Не будь я Александром Македонским, я хотел бы быть Диогеном».
Такая вот апология нетребовательности.
Просто невероятно, как эта апология мешала нам жить все 74 года советской власти.
Ну а как же папин папа, мой дед? Он ведь был купцом. Стало быть, деловым человеком.
Своего отца мой папа обожал. Однако всегда подчеркивал в нем не деловую хватку, а совсем другую черту – честность. По словам папы, дед никогда не давал расписок, не заключал письменных договоров. Ему верили на слово. Раз сказал, значит, сделает. Честное слово в дореволюционной России, видимо, дорогого стоило. Вспомним хотя бы «Бесприданницу» Островского: даже ради желанной женщины молодой купец не нарушил честное купеческое слово.








