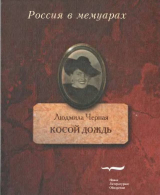
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 47 страниц)
«Стр. 595. Папен Франц фон (1879–1969) – германский политический деятель, представитель крайне правого крыла католической партии “Центр”. (люсобствовал приходу нацистов к власти. В июле – ноябре 1932 г. – глава правительства. С 1933–1934 гг. – германский вице-канцлер. Военный преступник».
«Бломберг Вернер фон (1878–1946) – немецкий генерал. С 1933 г. министр рейхсвера. В 1935–1938 гг. военный министр в гитлеровском правительстве и главнокомандующий вооруженными силами Германии. Первый с момента создания вермахта получил звание генерал-фельдмаршала».
«Кейтель Вильгельм (1882–1946) – немецкий генерал-фельдмаршал, военный преступник. В 1918–1945 гг. начальник штаба верховного главнокомандования вермахта».
Заметим, Бломберг тоже военный преступник и, в отличие от Папена, которого в Нюрнберге оправдали, приговорен к повешению.
Вильгельма II и Гинденбурга комментатор не поясняет. А почему, собственно? Почему не сообщает нам дат их рождения и смерти?
Идем дальше. Стр. 596 и 597 остались без примечаний. Зато на стр. 598 их два. И какие…
На стр. 598 рассказчик и его попутчик, юнец, проезжая мимо маленьких городишек вблизи Рейна, обмениваются репликами – вспоминают, что именно связано с тем или иным географическим названием. Вот как это выглядит:
«– Вееце… Тебе что-нибудь приходит на ум?
– Конечно, – сказал я. – Вееце расположен севернее Кевелара и восточнее Ксантена.
– Ах, – воскликнул он, – Кевелар – Генрих Гейне.
– Ксантен – Зигфрид, если ты это забыл».
По-моему, все понятно – ассоциативное мышление: Мелехово – Чехов, Таруса – Марина Цветаева.
Разумеется, и в обмене репликами у Бёлля есть свой контекст. Юнец говорит «Генрих Гейне», желая продемонстрировать свою интеллигентность и прогрессивность. Ведь Гейне был проклят немецкими фашистами, правившими Германией двенадцать с половиной лет, полжизни юнца. А рассказчик гнет свою линию. Дескать, все в этой стране связано с проклятыми нацистами. И в ответ бросает «Зигфрид», для нацистов образ воина-арийца, борющегося за власть и могущество («Золото нибелунгов»).
Ну а какие комментарии делает к этому ученый муж? Цитирую:
«Стр. 598. Кевелар (Кевлар) – городок севернее Дюссельдорфа (места, где родился Г. Гейне), часто встречающийся в стихах поэта (см., например, стихотворение «На богомолье в Кевлар» из цикла «Возвращение на родину»). Ксантен… Зигфрид. – См. «Песнь о Нибелунгах» (авентюра II):
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рожден на свет он был
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На Нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Перевод Ю.Б. Корнеева
Тут, мне кажется, у читателя могут возникнуть два вопроса: первый – зачем это примечание? И второй – что такое авентюра II? Я – не знаю.
Но комментатор безжалостен – он даже сделал примечание к шоколаду «фирмы Новезия». Оказывается, Новезий, или Новезия, «в I веке – лагерь римского легиона; во II–IV вв. – укрепленная стоянка вспомогательных римских войск (нынешний Нейсе на Нижнем Рейне)».
Очень мне захотелось прокомментировать нашу овсянку, она же геркулес. А то ешь ее, родимую, каждый день и не вспоминаешь о Геркулесе (Геракле).
По-моему, с пятитомником Бёлля – все ясно. А о моих тогдашних переживаниях с редактором И. Солодуниной я решила было не писать. Нет, все-таки о Солодуниной сказать надо. Эта последняя на моем веку худлитовская редакторша меня просто сразила. А я ведь много таких встречала. Но эта Солодунина – уникум, не человек, а голая функция. Пришла в дом к переводчику, к очень пожилой женщине, половина работ которой была безжалостно выкинута и заменена вновь сделанными переводами. И ни слова не сказала в оправдание этого факта. Ну, пусть бы сообщила, что это не ее инициатива, а инициатива редколлегии. Пусть бы если не извинилась, то, по крайней мере, выразила бы соболезнование, мол, так вот получилось. Пусть бы, даже покривив душой, сказала, что не одобряет такой вивисекции…
Ничего этого не было. Солодунина несколько раз приходила ко мне и много часов просидела, «снимая вопросы», то есть меняя шило на мыло – запятые на
точки, а точки на запятые, и не сказала ни единого слова о методе составления этого собрания сочинений. А много часов она просидела потому, что все же осталось три моих больших перевода. Не считая рассказов и радиопьес.
Но и я хороша! Почему я не сняла свои переводы, не послала это собрание сочинений, эту редколлегию и эту Солодунину к черту. Ведь был уже набор, был назначен срок выхода первых томов. А переводы пришлось бы заказывать заново…
Честное слово, дело не в деньгах. Деньги тогда платили очень маленькие. И я спокойно прожила бы без них. И отношения портить я уже ни с кем не боялась. С этим видом творчества, то есть с переводами, я завязала.
Так в чем же дело? Сама не знаю. Наверное, сработал совковый комплекс: буянить можно только ради пользы дела, нельзя ради собственного самолюбия. Ради чувства собственного достоинства.
Глава XI. ГЛАВНАЯ КНИГА
1. Верность профессии
Мы с Д.Е. начали писать нашу Главную книгу, естественно, в «оттепельное» время, когда, по нашему разумению, настала пора думать о том, чтобы сделать что-то стоящее, интересное для себя и для других. «Стоящее» – словечко тех лет.
Мой муж к тому времени уже написал и защитил кандидатскую и докторскую на тему «Заговор 20 июля 1944 г.»; речь шла о заговоре немецкой генеральской верхушки против Гитлера за девять месяцев до капитуляции Германии.
Кучка героев, пытавшихся спасти свою страну от национал-социализма и закончить проигранную войну, была повсюду предана анафеме – в Германии понятно за что: в национал-социалистической тоталитарной стране покушение на «вождя» могло восприниматься народом только как «удар в спину ножом» как величайшее предательство.
В Советском Союзе героев тоже заклеймили: они, видите ли, хотели спасти страну, вступив в преступный сговор с Западом, и вырвать у нас, у СССР, тотальную победу.
Но и пресловутый «Запад», к сожалению, мало что соображал: дав выиграть и войну и мир Сталину, он на долгие десятилетия потерял половину Германии всю Восточную Европу, Балканы и еще много чего.
И вот муж вступился за честь смельчаков, погибших ужасной смертью И вступился не где-нибудь в демократической стране, а в сталинской России! Сколько умных ходов надо было придумать в трактовке заговора, чтобы работа стала «проходимой».
Тэк эти ходы придумал. Книга вышла в свет, ее перевели на немецкий и издали в обеих Германиях. В ГДР сделали на ее основе фильм. Муж завоевал сердца многих замечательных немцев. Десятилетия спустя и я сблизилась с друзьями друзей заговорщиков, с их вдовами и почитателями.
Естественно, что в годы «оттепели» мужу тем более хотелось сделать что-нибудь, чтобы заявить о себе, и он повторял в разговорах с сослуживцами друзьями, с русскими и немцами: «Я напишу…» Или намного чаще: «Я пишу in к» рию немецкого фашизма». Не ударяя при этом палец о палец.
Желание писать о германском фашизме было и у меня. Эдакая чисто маниловская идея. Как хорошо было бы…
11о вот судьба подкинула нам замечательный подарок, не столько судьба, с колько Генрих Бёлль. Он еще не приезжал в Советский Союз, а Д. Мельников и I Москвы уже посетил его в Кёльне и рассказал, что намерен писать историю фашизма и что его жена Люся Мельникова, вернее, Lusja Melnikow (для немцев в обеих Германиях я всегда была «фрау Люся Мельников», такого баловства, как разные фамилии в одной семье, они не признавали!) перевела две его повести них успешно издали в СССР.
И вот однажды я получила почтовое извещение на это странное имя. Официально я именовалась Людмила Борисовна Черная – такого персонажа, как Люси Мельникова, у нас в стране не существовало.
В сталинские времена даже одна перевранная буква в имени, отчестве или фамилии привела бы к непредсказуемым последствиям, вплоть до ареста. «Почему вы дали неверные сведения о себе? Хотите обмануть, скрыть свои темные (шпионские) дела?»
Итак, пришло извещение…
Но прежде я должна описать антураж, декорацию, интерьер, в котором все их» разыгрывалось, – без декорации не будет понятно, что жизнь наша была полна контрастов. С одной стороны, Генрих Бёлль, знаменитый писатель, в будущем лауреат Нобелевской премии, с другой – наша коммуналка.
Тысяча извинений перед предполагаемым читателем. Но о чем бы я ни пи-I ала, всегда буду вспоминать коммуналки. Без коммуналок нельзя понять жизнь моего поколения. Оно мечено коммуналками.
Находилась та наша коммуналка не в самом престижном районе, но в центре. Окраины Москвы еще не были застроены. Называлось это место Цветной бульвар. Чахлый бульвар и впрямь разделял довольно широкую улицу. Перед бульваром впритык шли две рельсовые колеи – трамвай ходил в обе стороны. 11алево – к Трубной, направо – к Самотеке. Трамвай звонил, машины гудели. 11апротив нашего дома через бульвар был цирк, столь любимый москвичами, и центральный рынок. Рядом с цирком и рынком дома выглядели и поновее, и покрасивее. А на нашей стороне бульвара стоял ряд одноэтажных и двухэтажных похилившихся лачуг. Дом наш уже тогда выглядел отвратительно: обшарпанный, с рядами маленьких окошек, часть из которых выходила в переулок (названия не помню), а часть – во двор, где не росло ни травинки, ни деревца.
В переулке находилась… лесопилка, и сельский визг пил вливался в городскую какофонию.
Но внешний вид дома был куда прекраснее, нежели его внутренность – огромная квартира, где мы обитали. Позвонив со двора, вы поднимались по довольно широкой, но месяцами не мытой лестнице на площадку, по обе стороны которой тянулась наша коммуналка. Налево был большой холл, а может, зал или просто передняя с паркетным полом, от которой отходило пять дверей – за четырьмя дверями жило по семье. Одна семья имела две двери, как ни странно, не рядом, а через переднюю-холл. По другую сторону лестничной площадки было огромное, полукруглое, как мне сейчас кажется, помещение. Очень высокий зал, грязный, с закопченным потолком. Зал служил кухней, в нем стояли восемь или девять столиков-тумбочек и несколько газовых плит. В конце этой кухни была маленькая раковина с медным краном – там умывались все жители квартиры. Налево в стене была еще одна дверь. За ней тоже жила семья – муж с женой. А рядом находилась небольшая выгородка, нечто вроде объемного шкафа. Теперь такие шкафы в моде и именуются шкафами-купе. В этом шкафу-купе помещалась уборная. И сосед, проживавший вплотную к выгородке, писал в заявлениях, что их «заливает фекальная жидкость». Исходя из этого, он просил дать им с женой более приспособленные для жилья «квадратные метры», «жилплощадь».
На лестничной площадке была еще одна комната, где обитали согбенная старуха-мать и дочь, здоровенная бабища. Всего в коммуналке на Цветном бульваре проживало, видимо, шесть семей. Нас, к примеру, было пятеро: Д.Е., я, Алик, Ася и домработница Шура. Но даже если считать, что в среднем семья на Цветном не превышала трех человек, получается, что одной раковиной и крохотной уборной пользовались 18 персон.
Телефон был один на всех. Висел он в холле сразу за нашей дверью.
Мы перегородили на три части большую комнату, предварительно сбив с потолка лепнину, – перегородили, благо окон было навалом. Сперва шла «столовая», из которой одна дверь выходила в Алькину комнату, где спала еще домработница Шура и где висел дачный рукомойник со шкафчиком под ним и стояло внутри ведро. Посылать Алика умываться на кухню мы не рисковали. Вторая комната, выходившая из столовой, предназначалась для нас с Д.Е. Там помещались две кровати – железные каркасы, сделанные, видимо, на военном заводе. На каркасах лежали матрасы, а на матрасах красивое покрывало, присланное моей сослуживице по Радиокомитету из США. Кроме кроватей в комнате еще был массивный письменный стол. Но через год нашего проживания на Цветном из костнотуберкулезного санатория выписали тринадцатилетнюю Асю, дочь Д.Е., и мы отдали ей свою спальню-кабинет. А сами стали спать в проходной столовой! На раскладывающемся диване.
Напротив нашего перегороженного зала, в своих апартаментах, как сказано выше, жила супружеская пара с девочкой лет двенадцати-тринадцати. И вот муж, средних лет господин, перед сном любил попарить ноги. Именно попарить, а не помыть. Парка ног была долгой. И эту ежедневную оздоровительно-лечебную процедуру отец семейства желал проводить не у себя в комнате, а в холле напротив нашей двери. Супруг выходил на люди с большим тазом и табуреткой. Мадам водружала на полу рядом с табуреткой кипящий чайник и кувшин с холодной водой. Супруг засучивал брюки и опускал ноги в таз, предварительно закурив папиросу «Беломор». Для полного кайфа!
Несколько причудливая конфигурация нашей коммуналки – обычно комнаты в дореволюционных квартирах были как бы нанизаны на длинный коридор – объяснялась тем, что когда-то в доме помещался… публичный дом. Вообще весь район был районом «красных фонарей». Недалеко от нас был публичный дом, описанный А. Куприным в «Яме». А наш «дом», согласно молве, принадлежал греку…
Таков был быт коммунальной квартиры на Цветном бульваре в середине 50-х прошлого века… Утром очередь в шаткий сортирчик, вечером – чужие ноги в тазу напротив двери.
Зачем я так подробно описываю все это, прервав рассказ о нашей Главной книге? Я ведь уже сказала. Хочу оттенить необычность подарка судьбы.
Итак, в один воистину прекрасный день на несуществующее имя Люся Мельников на адрес коммуналки пришло извещение о почтовой посылке из капстраны. Напоминаю, в ту далекую пору все страны делились на «кап» и на «соц», то есть на капиталистические и социалистические.
Ошеломленная, я сначала стала обдумывать варианты отказа от неведомого подарка из-за бугра. Конечно, Сталин уже умер, а Берию казнили. Извещение пришло не с Лубянки, а из нашего почтового отделения. Все же лучше отказаться. Но как отказаться? Под каким предлогом? Я не Люся Мельникова… Но начнется дознание – и так далее и тому подобное…
В общем, проклиная все на свете, мы с мужем пошли в соответствующее почтовое отделение. К нашему изумлению, нас встретили очень радостно, не потребовали ни паспорта, ни другого документа. Попросили только поскорее забрать посылку. А посылка оказалась двумя тяжеленными ящиками, набитыми немецкими книгами. По-видимому, почта не чаяла, как от них избавиться.
Все значение бесценного дара мы тогда не поняли. А ведь Бёлль прислал нам все или почти все труды по немецкому фашизму, изданные в Западной Европе и в США. И на немецком, то есть американские, английские и французские исследования были в переводах на немецкий. Эта библиотека стала на долгие десятилетия нашей гордостью. Лишь в 90-х наиболее серьезные книги по фашизму вышли в России на русском языке. Но мы-то получили и смогли прочесть эти труды в конце 50-х!
Боже мой! Каких историков там только не было: Буллок, Шайрер, Фест, Хойне, Каллов… Словом, целая библиотека по национал-социализму.
Тогда меня особенно потрясли два обстоятельства: во-первых, элегантность, нарядность присланных книг. Белые суперобложки, красивые переплеты, отличная бумага, отличный шрифт. Даже на ощупь они отличались от наших, напечатанных обычно на газетной бумаге, плохо сброшюрованных книжиц со слепыми фотографиями и с рисунками на обложках, мутными или выцветшими. Во-вторых, и это поразило больше всего, мы с мужем не могли понять, как книги дошли до нас, до почтового отделения на Цветном бульваре. Ведь вся без исключения печатная продукция, посланная в СССР из зарубежья, подвергалась жесточайшей цензуре. Разумеется, политическая литература считалась особо крамольной – на нее неминуемо поставили бы «шестигранник», своего рода каинову печать. Даже если адресатом были бы издательство, журнал или газета, имевшие свой спецхран. Кроме того, на тему фашизма в 1950-х было наложено табу, не существовало такой темы в Советском государстве.
Что же случилось тогда с нашей дорогой державой, с нашим дорогим тоталитарным строем, с нашей тотальной цензурой?
Причина в том, что после смерти вождя-людоеда произошел серьезный сбой в системе.
Напоминаю, в марте Сталин умер, а уже в начале апреля освободили врачей-«убийц» – евреев и примкнувших к ним академика Виноградова, личного врача Сталина, и Егорова с Василенко. Дальше – больше. Убрали Лаврентия Берию. Втихую. Немного позже задвинули в небытие самых-пресамых верных соратников вождя: Молотова, Маленкова, Кагановича плюс Шепилов. А потом XX съезд – это и впрямь потрясение основ. Главное же – архипелаг ГУЛАГ, еще не названный так Солженицыным, уже предстал во всей красе. Правда, Сталин еще лежал в Мавзолее. Но, во-первых, лежать там ему оставалось недолго – всего до XXII съезда, то есть до 1961 года. А во-вторых, все же большая разница между тем, стоит ли вождь на Мавзолее или в виде мумии лежит внутри Мавзолея…
Словом, сплошная фантасмагория. Вроде бы после XX съезда пошли на попятную и стопроцентные сталинисты опять подняли голову, но все-таки кое-кого сомнения одолели, и закачало страну – туда-сюда, вправо-влево, вперед-назад.
В нашем случае два ящика прекрасных книг из ФРГ дошли целехонькие до коммуналки на Цветном бульваре. И самое интересное, что уже два месяца или юд спустя их могли бы завернуть и отправить в спецхран, куда мне доступа не Оыло. Тоталитарный строй не знает ни непрерывно-поступательного, ни явно попятного движения. Он передвигается наподобие кенгуру, скачками. Недаром целый период в жизни коммунистического Китая вошел в историю под названием «большой скачок»!
Итак, мы с мужем получили бесценный дар, библиотеку по фашизму, и тем (лмым основу для Главной книги. Подаренная Бёллем, она стала в нашей жизни чеховским ружьем. До поры до времени «висела на стене», готовясь «выстрелить» в последнем акте.
И все же кроме библиотеки была еще одна предпосылка, без которой мы не смогли бы написать свою Главную книгу. Назову ее «верностью профессии». Гермин придумала не я, а поэт Межиров. Как-то в столовой Дома творчества н 11еределкине я выразила удивление, до чего хорошо стала писать одна молодая и ту пору поэтесса. А он сказал: «Удивляться нечего. Она пишет все время. Сохраняет верность профессии».
Вот и мы с мужем при любых обстоятельствах сохраняли верность профессии. Писали, писали, писали.
Попробую рассказать, как это было. Придется дать задний ход. Вернуться назад из второй половины 1950-х, уже после смерти Сталина, в первые послевоенные сталинские годы. Из какой-никакой «оттепели» в жуткие морозы.
Война дала нам, молодым, очень много. Муж сумел проявить свои недюжинные способности, делал нужное, ответственное дело. В 25 лет стал начальником ведущей редакции – мозговым центром огромного коллектива ТАССа. Да и я несколько лет работала плодотворно.
Кроме того, наше поколение многое поняло – мы мечтали не только о мире, об освещенных городах, мы еще мечтали о новой жизни.
А нас отбросили назад в тоталитарную тьму. И как больно отбросили…
Но об этих восьми годах разочарований я уже как могла рассказала. Почему о восьми? Да потому, что в мае 1945-го кончилась война. А Сталин умер только в марте 1953-го. Стало быть, целых восемь лет он возвращал нас в исходную позицию, в рабство, в недомыслие.
Каждый выживал как мог в эти роковые восемь лет!
Мы, как сказано выше, писали… Муж – книги, я – статьи, очерки. И вместе издали две книги под своими именами и одну под чужим. Эту, под чужим, заказал нам… КГБ. История ее такова.
Какой-то англичанин, видимо служивший в оккупационной администрации в Германии, перебежал в СССР. Возможно, он был наш агент и его спешно привезли в Москву. Англичанин-перебежчик должен был разоблачать происки империализма в Западной Германии. А муж был известным специалистом по Германии. По его просьбе привлекли к этому делу и меня. Книгу мы довольно быстро сочинили – скомпилировали, скомпоновали, сварганили, не знаю, как сказать.
Замечу в скобках – то была уже не первая подобная книга. О первой, Аннабеллы Бюкар, я уже писала выше.
Наша книга, написанная под именем англичанина из Германии, успеха не имела. Самого этого произведения мы так и не увидели, хотя знаю точно, что книга вышла, и нам даже выплатили за нее очень маленький гонорар.
И все же этот невыносимо скучный труд дал нам очень много: я получила «допуск» к «белому ТАССу», которого КГБ лишил меня еще в Радиокомитете. Лишил персонально, еще до того, как я была уволена в один день вместе с еще несколькими сотнями людей по «пятому пункту». Такой знак недоверия (лишение «секретности») во времена Сталина мог означать скорее всего арест.
Немудрено, что мы так радовались обещанию вернуть мне «секретность». И действительно, некто с Лубянки, видимо, позвонил в «Новое время», и мне разрешили читать в их спецхране «белый ТАСС».
И на том спасибо. Никаких угрызений совести по поводу того, что мы писали книгу за неизвестного англичанина, у нас не было. Писание книг за кого-то считалось при советской власти самым обычным занятием. Еще в 1930-х годах писали книги за стахановцев, летчиков, подводников. В годы «борьбы с космополитизмом» «разоблаченные» «космополиты» писали пьесы за драматургов и романы за прозаиков – своих гонителей, которые сами писать не умели. Писание за кого-то для литераторов, отлученных от работы, было единственным способом заработать на жизнь. Гуманитарии создавали под чужими фамилиями «высокохудожественную»… макулатуру, технари сочиняли диссертации и научные труды. Знаю это не только понаслышке. Крупный мидовский чиновник предложил мне написать за него диссертацию. Но мы не «сторговались» – он не то застеснялся, не то счел меня слишком несолидной. Зато мне довелось писать очерки за двух писателей, которые их потом без конца включали и в разные сборники, и даже в свои собрания сочинений…
Кончив сочинять книгу от имени англичанина, мы заключили договор с Воениздатом. Договор, конечно, заключал муж. Я в ту пору панически боялась всяких официальных инстанций.
Кто пережил это время в Москве, помнит, в какой истерической обстановке мы существовали. Каждый день приносил что-то новое. «Дело врачей». Безудержная антисемитская кампания сверху.
Перепуганы насмерть были все – не только евреи, но и русские… Участковых врачей-евреек, которых знали лет по двадцать, не пускали в дом. Боялись.
Мне кажется, в Москве в 1951–1952 годах могло произойти нечто вроде «хрустальной ночи», то есть еврейского погрома, как в нацистской Германии. Непонятно было только, каким образом организовывать погром – еврейских магазинов не было, еврейских банков тоже. Какие витрины разбивать? Какие ценности грабить? Советские евреи были такие же нищие, как и советские русские…
Во всяком случае, товарищ Сталин, который был и Великим Вождем, и Великим Политиком, и Великим Архитектором, и Великим Историком-Лингвистом, с тал еще и Великим Антисемитом-Ксенофобом.
И вот в этой обстановке мы задумали писать книгу «Гитлеровские генералы I отовятся к реваншу»223. Речь в ней шла о попытках «вечно вчерашних» (так звали неонацистов в Германии) пересмотреть итоги Второй мировой войны, повернуть страну вспять и возродить кое-какие идеологические бредни гитлеровцев.
«Вечно вчерашние» и впрямь водились в Западной Германии. И в немалом количестве. Правда, их действия на фоне экономического и морального подъема в стране не стоило рассматривать всерьез как угрозу миру. Но ни муж, ни тем более я не думали об этом.
Я не верила и в то, что «вечно вчерашние» и впрямь готовятся к реваншу, io есть к новой мировой (атомной) войне. Но писала об этом до этого в «Известиях» с превеликим удовольствием! Каюсь!
В результате и книга о немецких генералах была написана. И в самые «космополитические» времена я каждый божий день радостно ходила в Воениздат и доводила ее до кондиции.
Редакция, которую я регулярно посещала, была небольшая. И, по-моему, юстояла сплошь из симпатичных людей. Мысленно я сравнивала этих воениз-датовцев с моими начальниками в годы войны из газеты Южно-Уральского военного округа в Чкалове и удивлялась их добродушию и терпимости. Ко мне эти политработники в погонах относились просто хорошо, даже с сочувствием. Что я в полной мере сумела оценить чуть позже…
Наш редактор – его фамилии не помню – был, кажется, в чине капитана. Работали мы дружно. Единственное, что меня в нем удивляло, – это его странное восприятие вполне очевидных фактов.
Вот он молча читает рукопись, вдруг поднимает голову, смотрит на меня и изрекает:
– Рейнланд-Пфальц? Не может быть.
Или:
– Северное море? Не может быть.
И мы долго взираем друг на друга.
– Почему не может быть? – спрашиваю я.
– Не может быть, – повторяет редактор. – Не может быть.
В Пфальце его, видимо, поразило само сочетание букв «Пф», непривычное для русского языка и распространенное в немецком. А Северное море было, по его мнению, не характерно для Германии… Север – это мы, Советский Союз, Северный Ледовитый океан. Ледовое побоище. Северный полюс.
Так и вспоминаю себя – тощую, плохо одетую молодую женщину, сидящую напротив толстенького, добродушного человечка, вспоминаю, как отчаянно пытаюсь внушить своему визави, что Рейнланд-Пфальц и Северное море – немецкая реальность, а не морок, не обман, не призрак…
Книга уже ушла в типографию, была набрана, как вдруг меня вызвали на Кировскую (Мясницкую) в дом Ле Корбюзье, где помещался тогда Воениздат, и сообщили, что набор рассыпан. Книга запрещена… И никто не сказал: «Не может быть…» Все понимали, что это – «может быть». Может быть. При этом ни один человек из издательства не злорадствовал… Все казались огорченными.
Но история с этой книгой имела хеппи-энд. Сталин скоро умер. И муж обратился уж не знаю куда… Книгу опять набрали, и она вышла в свет.
Теперь, задним числом, вижу, что у нас с Тэком существовало четкое разделение труда: я работала с редактором, а до этого сводила его и мои писания в один текст, а он общался с внешним миром, вплоть до ЦК КПСС.
Следующая наша с мужем книга называется «Двуликий адмирал» с подзаголовком «Глава фашистской разведки Канарис и его хозяева». Она вышла в 1965 году в Политиздате. Редактор И. Динерштейн (о нем речь еще пойдет). Сдана в набор 19 марта, а подписана в печать 5 мая 1965 года. А ее тираж – 160 тысяч экземпляров. Сейчас трудно себе представить такой тираж для ничем не примечательной научно-популярной книги…
Задумана она была мужем. Его привлекала та аура, которая окружала разведчиков и шпионов международного класса. «Бондиада» в СССР родилась задолго до того, как на экранах появился фильм Лиозновой о Штирлице и тем более супергерой Джеймс Бонд, агент 007.
У меня, однако, супершпионы вызывали стойкую неприязнь. Не знаю почему. И я яростно спорила с мужем, доказывая, что агентурные сведения не играют особой роли даже во время войны. В пример приводила знойную красотку Мату Хари и начальника немецкой разведки в годы Первой мировой войны Николай, считавшегося гением шпионажа. Немецкие разведчики всегда были на голову выше разведчиков других воюющих стран, тем не менее Германия проиграла две мировых войны.
Таковы были мои аргументы. Муж помалкивал. И пока наш спор длился, заключил договор с Политиздатом… Что мне оставалось?
Я покорно стала читать книгу Абсхагена «Канарис», которую мне принес Д.Е.
Биография Канариса – законченный сюжет для авантюрного романа. В ней есть все – и экзотика, и удивительные побеги, и перевоплощения, и морские приключения, и политические интриги. Есть и страшный финал – смерть героя…
…Юный моряк Вильгельм Канарис бороздит океан у берегов Южной Америки. Тысячи приключений. И это при том, что Германия не славилась своим флотом. Но вот началась война. И Канарис плавает на крейсере «Бремен», а потом на крейсере «Дрезден». После проигранного морского сражения «Дрезден» оказался в эскадре адмирала Шпее. Но англичане потопили и эту эскадру, только «Дрездену» удалось ускользнуть – он спрятался у берегов Огненной Земли. Однако и его англичане настигли в чилийских водах, куда он зашел, чтобы пополнить запасы топлива. Команда интернирована на маленьком островке в Тихом океане. Только одному моряку чудом удалось бежать, и, естественно, этот один… Вильгельм Канарис. С чилийским паспортом он перебрался в Англию (немец в воюющую против Германии страну!), а оттуда на Европейский континент. Путь на родину шел через многие страны, и удача не всегда улыбалась Канарису. В Марселе он чуть было не угодил на виселицу. И все же благополучно прибыл в Германию.
Испанский язык Канарис знал как родной, но каким даром перевоплощения надо было обладать молодому моряку, чтобы проделать подобное путешествие в разгар войны, когда шпиономания доходила повсюду до геркулесовых столпов.
Недолгий отпуск. И уже в 1916 году Канариса послали в Испанию, так сказать в международный центр шпионажа. Через год ему пришлось бежать и оттуда. Ну а далее засветившийся резидент становится командиром подводной лодки в Адриатике.
Конец Первой мировой войны и капитуляция Германии – отнюдь не конец карьеры Канариса. Теперь он сражается не на морях и океанах, а на суше! Плетет политические интриги.
Германии грозит революция, а будущий адмирал – воин контрреволюции. Он со всеми, кто борется против левых. От генерала Эрхарда, одного из организаторов «фрейкоров» – контрреволюционных отрядов, душителя демократии, до Носке, правого социал-демократа, военного министра в социал-демократическом правительстве Шейдемана.
Подозревают Канариса и в причастности к убийству Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Нет, он не киллер. Он действует за кулисами, и у него всегда хорошее алиби. Более или менее реальное обвинение – организация побега из тюрьмы наемного убийцы Либкнехта и Люксембург.
Но разве контрреволюционную деятельность в наши дни многие считают предосудительной? И разве почитаемые ныне белые генералы, воевавшие за «Русь Святую», не предстали миру в белых одеждах?
Все было бы хорошо, если бы в возрасте 48 лет Канарис не стал бы начальником абвера у Гитлера. Именно тогда переломилась судьба не только Канариса, но и всей Германии.
Абвер – военная разведка. Но Канарис не был бы Канарисом, если бы не превратил свою «контору» на Тирпицштрассе в Берлине (именовавшуюся коллегами «Лисьей норой») в мощную шпионскую и карательную организацию.
Под началом абвера были созданы боевая дивизия «Бранденбург» и печально известные карательные батальоны «Нахтигаль» и «Бергман», которые бесчинствовали на оккупированных территориях.
Канарис – автор провокации на германо-польской границе, формально послужившей поводом для начала Второй мировой войны. Он же «изобрел» так называемую акцию «Ночь и туман» («Nacht und Nebel»): в оккупированных странах люди бесследно исчезали в ночи, и никто не знал ни об их местонахождении, ни о времени и месте их гибели… Наконец, под началом Канариса фактически действовали пятые колонны в Западной Европе… И много чего еще на совести «Маленького адмирала».








