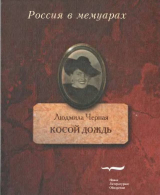
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 47 страниц)
Кроме того, существовали и сугубо индивидуальные причины для запрета книги. Например, Долорес Ибаррури не желала, чтобы издавали роман обожаемого в СССР Хемингуэя «По ком звонит колокол». И этот роман, отлично переведенный на русский язык Е. Калашниковой, восемнадцать лет пролежал без движения в издательстве «Художественная литература».
В этом романе была «неправильно» освещена фигура французского коммуниста Андре Марти. Зачем выносить сор из избы? Не лучше ли запретить роман знаменитого писателя?
Кафку не переводили, так как он считался чересчур пессимистичным, Фолкнера долго не печатали из-за того, что он якобы втайне сочувствовал рабовладельцам-южанам… Тот факт, что это были великие писатели, никого не смущал. Романы Ремарка запрещались из-за пристрастия его героев к спиртному. Особо раздражал рецензентов-критиков и редакторов любимый напиток некоторых ремарковских персонажей – кальвадос. Почему-то считалось, что советский человек, прочтя «Триумфальную арку», ринется в ближайшую забегаловку с возгласом: «Рюмку кальвадоса». Кроме того, если читать фамилию Ремарк справа налево, получается – Крамер: еврейская фамилия. Зачем же переводить Ремарка на русский? (Антисемитизм ни при Хрущеве, ни после него не отступил.) Своих евреев хватает… Ах, Ремарк стопроцентный немец? Возможно, но лучше все же подстраховаться. Про евреев не всегда говорили вслух, чаще это «проносилось в мозгу».
Словом, причин для запрета любой книги, любого самого знаменитого автора было более чем достаточно. При том, что все рецензенты и редакторы боялись недобдеть (недобдеть – от слова «бдительность», ключевого в сталинском и послесталинском Советском Союзе).
Но вот куцый план все же составлен, согласован, подписан… Стало быть, нужно искать подходящих переводчиков. Искать? Как бы не так. В СССР не только плановое хозяйство, но и своя система распределения. Распределяется все – от ордеров на квартиру и ковров до подписки на «Пионерскую правду» и золотых колец.
И, естественно, каждое распределение неисповедимо, как пути господни. И неразглашаемо, как государственная тайна. Ведь в СССР все секретно. Однако это только на словах. На деле в издательствах все происходило по-простому, можно сказать, по-домашнему. Редактор из издательства NN звонил переводчику N (из переводческого клана) и «давал ему работу» (так это называлось). Не за взятку. С меня взяток не брали. Но вот Надежду Мандельштам призывали поделиться гонораром. Жену опального гения не боялись, а меня опасались. Я ведь выскочила как чертик из табакерки. И может, за моей спиной кто-то стоит? «Работу» в Худлите, где требовали взятку у Надежды Мандельштам, я получила дважды, но получила, претерпев ряд унизительных процедур. Со скрипом.
Все зависело от издательских редакторов. Издательские редакторы встречались разные, но у каждого была власть – дать или не дать «работу». Дать большую «работу» или маленькую. Денежную или не очень денежную. И, конечно, у редакторов были свои вкусы, пристрастия, любимчики. Но любимчики и нелюбимчики принадлежали ко все той же лучшей в мире «советской школе перевода».
Итак, переводчик-ас получал книгу для перевода. Книгу, уже согласованную со всеми инстанциями, на что иногда уходило несколько лет. А далее все шло привычной линией… Переводчик заключал договор с издательством и начинал переводить. Переводил долго-долго, поскольку от автора, умершего обычно лет пятьдесят назад, никаких претензий не ожидалось. Читатель также помалкивал, ведь у него никто ничего не спрашивал, было ясно, что он будет «хавать» любую иностранную книгу, поскольку она – дефицит.
Далее уже сделанный перевод опять же долго-долго проходил через руки старших редакторов, младших редакторов, корректоров, несколько раз поступал на визу к начальству. После чего его отправляли в цензуру, а потом в типографию, где он лежал уже совсем долго… месяцы, годы. Деньги за перевод выдавались частями: 40 % после предоставления рукописи в издательство, остальные 60 % плюс потиражные – после выхода книги в свет. Главные поступления были эти самые потиражные, поскольку тиражи назначались огромные.
Зарабатывали переводчики с европейских языков вполне прилично, больше, чем инженеры и врачи, но куда меньше, чем драматурги и переводчики стихов, условно говоря, с адыгейского.
Как видим, существовала весьма стройная, годами отработанная система, на основе которой и расцвела «советская школа перевода».
Никакой конкуренции. Никакой соревновательности. Никакой инициативы. А главное, никаких новичков-выскочек.
С детства и до старости я жила не только в стране, отгороженной от всего мира «железным занавесом», но и в стране с бесчисленным числом оград.
Корпорация переводчиков была такой же закрытой территорией, своего рода зоной, как и все остальные территории-зоны в Советском Союзе.
Лет десять назад, уже в XXI веке, прожив неделю на хуторе в Финляндии, я поразилась: разбросанные кое-где домики (хутора) не были ограждены… А я-то привыкла, что у нас каждый дом на лоне природы стоит за забором. Чем богаче дом, тем выше забор. Сетка-забор, как у нашего старого писательского поселка «Красновидово», – это нонсенс, признак бедности. Нужна стена, высокие ворота и проходная будка с дежурным охранником. Я всю жизнь прожила в эпоху заборов и закрытых территорий. Даже мое любимое Черное море в любимом Крыму было перегорожено, то есть не само море, а подходы к нему – пляжи. Лучший пляж Гурзуфа принадлежал военному санаторию, расположенному в лучшем гурзуфском парке с Домиком Пушкина. Ни в парк, ни в Домик Пушкина, ни на пляж нельзя было пройти без пропуска.
С перестройкой число оград не изменилось. А ныне я и вовсе оказалась среди сплошных оград, стен и заборов. Куда ни кинь взгляд – повсюду заборы. Заборы, одни заборы. А какие они стали разнообразные: от заборов наподобие Кремлевской стены из красного кирпича, от каменных, железных и железобетонных стен свинцово-серого цвета до легкомысленно ярких сплошных оград, покрашенных во все цвета радуги.
Если бы я была фотографом, то обязательно поездила бы по стране с фотоаппаратом и сфотографировала бы самые разные заборы, чтобы сделать выставку под названием «Забор» у Марата Гельмана.
Воистину Кафке надо было написать еще один (четвертый) роман – «Забор»…
Однако продолжу свой рассказ. Молоденькой девушкой я стремительно ворвалась в одну из охраняемых зон – в зону журналистов-международников. Но это было в годы войны – невидимые ограды если не пали тогда, то, во всяком случае, зашатались, потеряли свою неприступность. Кроме того, 1937 год опустошил эту зону, как никакую другую.
Потом меня из журналистики выгнали. И долго-долго я пыталась проникнуть на другую закрытую территорию. Отнюдь не в Эдем, а всего лишь на территорию советской школы перевода.
Думаю, я туда никогда не попала бы… Помогла все та же «оттепель».
Ведь с войны до середины 50-х в СССР вообще не издавали современных зарубежных писателей. А следовательно, и не переводили. Для советских читателей они как бы сгинули навеки. О публикации повести «Старик и море» Хемингуэя Эренбург говорил после смерти Сталина с самим Молотовым. И Молотов показал свою осведомленность, он знал о существовании повести, только изволил называть ее не «Старик и море», а «Старик и рыба».
Фактически под запретом был у нас даже Бертольт Брехт, самый левый из крупных художников зарубежья. Его пьесы не решались ставить. Когда я предложила перевод, как мне казалось, совсем безобидной брехтовской комедии «Господин Пунтила и его слуга Матти» Валентину Плучеку, худруку Театра сатиры, он, прочтя пьесу, огорошил меня ответом: «Наше советское ухо его (Брехта) не воспримет». Долго у нас в доме развлекались разговорами о «нашем советском ухе»… Лет через десять я и муж с Плучеком почти подружились, во всяком случае, как теперь говорят, приятельствовали, но я ни разу не напомнила ему о Брехте и о «нашем советском ухе»… Мы оба притворились, что того разговора не было.
Вместо большой литературы XX века читателю у нас предлагали при Сталине второстепенных писателей, например американцев Альберта Мальца и Говарда Фаста (потом и его запретили) и англичанина Олдриджа.
Трудно во все это поверить молодым, но так было. Сдвиг в 50-х после смерти (/галина был огромный.
Начался переводческий бум. Люди стали ездить за границу. Привозить книги современных писателей. Эти же книги появились и в библиотеках, их выписывали за валюту, не боясь или, скорее, почти не боясь обвинений в «низкопоклонстве».
А раз появились современные книги на иностранных языках, то появилось и желание их прочесть. А главное, исчез страх признаться в этом. Стало быть, возникла потребность в переводчиках. Думаю, эту потребность удовлетворяли переводчики среднего возраста, ранее не востребованные.
К переводчикам среднего возраста я отношу и себя.
Их отличительная особенность – не им предлагали работу в издательствах, а они сами предлагали издательствам книги, которые хотели перевести. Словом, они перевернули все с ног на голову. Или, вернее, с головы на ноги. Порушив тем самым пресловутую советскую систему распределения.
Но этого было недостаточно.
3. На Ново-Алексеевской…
Нужны были издательства с новым подходом к делу. И издательские работники – редакторы и начальники этих редакторов, – тоже по-новому мыслящие и работающие.
Так оно и получилось. Уже в 1955-м, спустя два года после смерти Сталина, вышло постановление об издании «Иностранной литературыа». В отличие от довоенной «Интернациональной литературы» новый журнал публиковал зарубежные романы не фрагментарно, а полностью. И не для ознакомления, а для чтения. И журнал сразу же завоевал широкую аудиторию.
Как ни перестраховывались главные редакторы «Иностранки» и некоторые члены редколлегии, как ни призывали к бдительности, все равно хорошие книги просачивались на журнальные страницы. Своя логика существует в любом деле. Если ты работаешь в журнале, тебе хочется, чтобы журнал читали, хвалили, рвали из рук.
…А на тогдашней московской окраине, на Ново-Алексеевской, в большом парке, где друг против друга возвышались два солидных темно-красных кирпичных здания – кажется, церковь без куполов и не то странноприимный дом (богадельня), не то больница для бедняков, – стало набирать силу Издательство иностранной литературы.
Но и другие журналы и издательства постепенно заинтересовались произведениями иностранных авторов.
Чем интеллигентнее было издательство, чем интеллигентнее был журнал, тем больше его притягивали такие звучные, такие знаменитые имена, как Хемингуэй и Фолкнер, Камю и Фицджеральд, Ионеско и Томас Манн. И, как всегда, впереди оказался «Новый мир» Твардовского.
Но вернусь к Издательству иностранной литературы. Историю издательства я не знаю. Знаю только, что одним из его директоров был Борис Сучков160, красивый человек, с которым я была знакома еще до войны, когда он защищал кандидатскую диссертацию. Мы часто вместе с ним сидели в крошечном (научном) читальном зале Иностранной библиотеки. Звали друг друга по имени и утоляли голод в закутке, где приветливая буфетчица готовила одно (!) блюдо – очень вкусные тушеные овощи. Вот какие патриархальные нравы тогда царили в Москве… Но потом Сучкова репрессировали, реабилитировали, и он в итоге стал директором ИМЛИ.
Куда более колоритной фигурой был другой глава издательства – Павел Андреевич Чувиков. Чувиков, видимо, пришел в издательство из армии161. Вроде бы никакого отношения к зарубежной литературе не имел. По рассказам, чувствовал себя эдакой военной косточкой. И на первых порах, стоя в своем кабинете у окна с часами в руках, следил за тем, как сотрудники быстрым аллюром мчались к проходной, чтобы не опоздать. Директор боролся за дисциплину! Велел ежедневно приносить ему списки опоздавших. Ходили и вовсе смешные анекдоты о бравом Павле Андреевиче. Например, когда издавали «Гойю» Фейхтвангера, он якобы пришел в редакцию и потребовал, чтобы ему показали портрет «голой махи». Имелась в виду картина Гойи «Маха обнаженная» – портрет герцогини Альбы!
Это, конечно, смешно. Но я почему-то не смеялась. Не смеялась, ибо знала множество интеллектуалов, которые безжалостно гробили замечательные книги, делая на этом свою карьеру. Знала и другую категорию московских интеллигентов-снобов, которые презрительно кривили рот, узнав, что выходят книги таких ранее популярных, а потом запрещенных писателей, как Фейхтвангер, – дескать, чему радоваться? Фейхтвангер – не гений, не Джойс. И читатель у него не элитарный!
А Чувиков издавал всех подряд, всех, кто были нужны людям, изголодавшимся по хорошей литературе, в том числе Фейхтвангера… А потом и Ремарка, а потом и Дрюона. А потом и Бёлля, и Альберто Моравиа, и еще многих других западных писателей.
И он открывал в своем издательстве все новые и новые редакции. На вырученные от несусветных тиражей того же Фейхтвангера деньги стали публиковаться переводы научной литературы из технических журналов, где россиянам рассказывали о новейших открытиях и изобретениях на Западе.
И Чувиков совершил уж совсем небывалый для того времени поступок – начал строить для своих сотрудников жилье. Возвел четыре кирпичных дома. Конечно, не роскошные хоромы, а нечто вроде «хрущевок», пятиэтажки без мусоропроводов и лифтов. Но трудно себе представить, что они значили для людей в ту пору. Из грязных, годами не ремонтированных клоповников-коммуналок народ переселялся в чистые, отдельные квартирки… Да еще рядом с работой.
Жаль, что Чувиков слишком рано родился. В 90-х он был бы в самую пору… А тогда казался чудаком.
Не знаю почему, но недолго музыка играла, недолго царствовал Павел Андреевич. Издательство реорганизовали, разделили на два – «Радугу» и «Прогресс». Словом, разорили, покалечили.
Еще более замечательным человеком был в Издательстве иностранной литературы завредакцией художественной литературы Евгений Владимирович Блинов162. Блинов, который, как и Чувиков, выглядел мужичком-простачком, на самом деле был вполне интеллигентен. Небольшого роста, хромой (последствие инсульта?), с красным лицом пьющего человека – на Руси такие лица встречаются даже у непьющих людей, – Блинов не отличался красноречием и не походил на гордо реющих Буревестников тех далеких лет! Он тихо, без лишних слов делал свое дело: издавал хорошие книги. У нас с ним сложились доверительные отношения, и я догадывалась, чего ему эти книги стоили. Он буквально ходил по лезвию ножа.
Вспоминаю несколько разговоров с Блиновым. Они проходили по стандартному сценарию. Попытаюсь воспроизвести один из них.
Блинов: Договора с вами я заключать не стану!
Я (с притворным удивлением): Но почему же?
Блинов: Во-первых, Бёлля мы недавно издавали. И договор сейчас не пропустят. Но пока вы переведете… время пройдет… А там, кто знает. Во-вторых, у вас уже есть другой договор.
Я: Но ведь ту книгу я давно сдала в издательство. Не моя вина, что она лежит у вас так долго.
(Высокое начальство следило за тем, чтобы переводчики зарабатывали не слишком много. С этой целью в издательских бухгалтериях часто проходили проверки – не дай бог у переводчика два договора, два гонорара за один год.) Блинов: Все равно… Не стану.
Я: Но без договора, без каких-либо гарантий страшно переводить. Роман сложный. Может быть, заключим соглашение?..
Блинов: И соглашение не подпишу. А что вам важнее – издательский договор или мое честное слово?
Я (искренне): Вы же знаете. Ваше честное слово. А вы даете слово?
Блинов: Даю. Только заранее оговариваюсь. Если меня завтра снимут и назначат заведовать пивным ларьком, от моего слова будет мало проку.
Я (со вздохом): Да, конечно… А шансы на пивной ларек велики?
Блинов: Как всегда. Вы же сами их увеличиваете. Принесли мне роман Бёлля из капстраны, а не книгу председателя Союза писателей ГДР…
Я: Простите, Евгений Владимирович.
Блинов: Да ладно уж. Идите. И переводите своего Бёлля. И не очень задерживайте. А то «Иностранка» (журнал «Иностранная литература». – Л.Ч.) нам дорогу перебежит…
Такие речи мы вели, что называется, в мирное время. Но вот грянул гром. Блинова чуть было не исключили из партии. Поводом послужил роман Ремарка «Черный обелиск»163, вернее, сцена в публичном доме, где обыгрывалось слово «задница».
С Блиновым я на тему «Черного обелиска» говорить не осмеливалась. Но в редакции мне сказали, что Евгению Владимировичу предложили сжечь тираж романа. На это он ответил, что только немецкие фашисты жгли книги. Он устраивать костры из книг не собирается.
Блинова за Ремарка из партии не исключили. Не выгнали из издательства. 11е послали заведовать пивным ларьком. Всего-навсего влепили выговор по партийной линии.
Недавно я узнала, что выговор заработал не только он, но и Чувиков. И притом и за «Черный обелиск», и за «Жизнь взаймы». А «Жизнь взаймы» шла в моем переводе164. Благородный Блинов меня ни разу не попрекнул этим.
За «Черный обелиск» Евгения Владимировича вызвали в райком, приказали положить партбилет на стол, а потом, после невыносимо долгой паузы, все же разрешили взять его обратно. Это была не публичная казнь, а всего лишь имитация казни. Хотели напугать.
Прошло какое-то время, и Блинов умер. На поминках его жена, венгерская» мигрантка, профессор языкознания, оставшаяся в России после войны, сказала мне, что врач в районной больнице, где муж умер, удивлялся, как он вообще мог жить с такими сосудами.
А умер Евгений Владимирович в шестьдесят с небольшим. Инвалид и уже давно белый как лунь. Его так и не приняли в Союз писателей, хотя он переводил стихи с испанского.
Мир праху порядочного человека Блинова. Я рада, что написала о нем.
Но вернусь назад и добавлю, что во время скандала с «Обелиском» должны были полететь еще несколько уже набранных книг, в том числе и «Бильярд в половине десятого» Бёлля165.
Их Блинов тоже отбил. Ценою собственных сосудов.
Людям молодым теперь трудно представить себе, какая крамола таилась в романах Ремарка, в романах Бёлля. Еще труднее представить себе, что, издавая их, человек рисковал своей головой. Подумаешь, герой! На баррикадах не сражался. На Красную площадь не выходил. Даже писем протестных не сочинял. Цеплялся за свой партбилет…
Но вот недавно мне попалась публикация 2005 года в газете «Известия». Даже две публикации. В них рассказывалось о небывалом читательском ажиотаже, связанном с Ремарком. Одна называлась «Время Ремарка», другая «Ремарк – как откровение». Эта последняя была посвящена очередной похвале Аджубею в его бытность главным редактором «Известий».
Аджубей знал, конечно, о невероятной популярности Ремарка у советских граждан и заказал Кирпотину, одному из самых одиозных советских критиков, статью о ремарковских романах. Заказал и опубликовал.
Признав, что Эрих Мария Ремарк «талантливый писатель» и один из лучших выразителей дум «потерянного поколения», Кирпотин сообщил, что «Ремарк слеп к заре человечества, взошедшей на Востоке, глух к движению народных масс». «Его герои стараются забыться». Отсюда в романах Ремарка «культ алкоголя», отсюда превращение любви, «блуждающего огонька в сплошном мраке», в род наркотика… «Чтобы книги Ремарка сыграли свою положительную роль, их противоречивый смысл должен быть раскрыт критикой: не только их достоинства, но и их безволящие, одурманивающие слабости должны быть правильно оценены общественным мнением». Каков слог!
Итак, несмотря на «безволящие одурманивающие слабости», Кирпотин не призвал изгонять книги Ремарка поганой метлой. Заметим, признал даже, что у них есть и «достоинства» и что они могут сыграть свою «положительную роль». Это надо же!
Кирпотинская статья объективно принесла пользу. Брань на вороту не виснет. И мы вправе похвалить Аджубея: он, хоть и робко, вступился за Ремарка. Но Аджубей был не только главным редактором супервлиятельной газеты «Известия», он был еще зятем Хрущева. И не только зятем. Он входил в «ближний круг» генсека, тогда еще всемогущего.
А кто был Блинов? Никто. Кто была Инна Каринцева166? Переводчик «Черного обелиска» Ремарка и одновременно штатный редактор Издательства иностранной литературы, сотрудница Блинова. Уж вовсе никто. А ведь вся ответственность ложилась именно на них. И какая корысть была у этих людей издавать таких «опасных» авторов? Никакой решительно! Деньги лишние за хорошие книги издателям не платили. Благодарностей не давали. Давали одни лишь взыскания. Так почему бы не публиковать еще больше немцев из ГДР, венгров, чехов и поляков, прошедших соответствующий отбор у себя в соцстранах?
Иногда я думаю, именно такие редакторы и такие маленькие начальники, всегда жившие под угрозой «строгача», спасли нашу страну от полного падения, от полной деградации и подготовили крах всей социалистической системы. И притом остались невостребованными, неоцененными, неоплаканными. Неохота больше говорить на эту тему. Такая злость нападает, такая тоска, что жить не хочется.
Напишу-ка я лучше об Инне Каринцевой, она вполне этого заслуживает.
Как сказано, Инна Николаевна работала штатным редактором. Эта миниатюрная женщина была полна энергии. Пожалуй, даже чересчур полна. Чересчур шустра и суетлива. Каринцева была членом партии и, вступив в 60-х в Союз писателей, постоянно избиралась в разные бюро, комитеты, правления, комиссии, президиумы и т. п. При этом Инна успешно сочетала общественную работу с работой для заработка. Переводила много.
Мы с ней обе учились в ИФЛИ, только она была года на два моложе. И я ее не запомнила. Встретились мы с Инной в очень драматическое для нее время. Она только-только разошлась с первым мужем и вышла замуж за человека гораздо моложе ее.
Каринцева (в качестве редактора) пригласила меня к себе домой, чтобы показать замечания к написанному мной послесловию к «Испанской балладе» Фейхтвангера. Инна уже была в декретном отпуске и в издательство больше не ходила.
Ее «домом» был выгороженный шкафами закуток, кажется без света. Разумеется, в коммуналке. Инна была на сносях с огромным животом. И где-то там же крутились и ее сын, оканчивавший школу, и ее молодой муж. Я, сильно близорукая, никак не могла разобраться: кто сын Юра, а кто – муж Слава.
Помню, я робко спросила Инну, зачем ей второй ребенок в таких трудных условиях? Она ответила, что ее муж ушел из семьи, оставив ребенка. И ему будет обидно, что он лишен детей. А она, Инна, уже не так молода, чтобы откладывать рождение ребенка на потом. Не скрою, мне ее рассуждения показались верхом самонадеянности. Удивили. Но Инна сумела и впрямь построить свою жизнь, как задумала. Родила второго сына. Сохранила новую семью. Осталась хорошей матерью и для старшего. Дважды получила квартиру, один раз очень скромную от издательства, второй раз – хорошую, от Союза писателей. Ее она обставила с помощью дизайнера, что было в ту пору весьма необычно. Потом построила дачу… Инна Николаевна ушла из издательства. И мы с ней встречались редко. Только однажды переводили вместе толстый роман Ульриха Бехера «Охота на сурков»167.
Умерла Каринцева в 1994 году. От рака. К ней я еще вернусь, рассказывая о моих переводах Г. Бёлля.
А теперь перехожу к ключевой фигуре в «школе переводов» – Татьяне Алексеевне Кудрявцевой168 – завотделом прозы в журнале «Иностранная литература».
Подчиненные уважительно-иронически называли Кудрявцеву «Хозяйкой». Очевидно, по аналогии с почившим в бозе Хозяином (Сталиным). В ту пору она была дама средних лет. Известная переводчица с английского. Довольно долгое время переводила вместе с Татьяной Алексеевной Озерской, женой Арсения Тарковского169.
Кудрявцева несколько лет прожила во Франции, очевидно, как тогда говорили, «по линии КГБ». Свою связь с органами она не скрывала. Пожалуй, даже бравировала ею. А некоторый, модный тогда в верхних эшелонах советского общества легкий антисемитизм, наоборот, не слишком афишировала.
Глядя из настоящего на тогдашнюю ее деятельность, я понимаю, что она была типичной business woman: напористая, деловая, организованная, честолюбивая.
Я присутствовала на собрании в Худлите в 60-х, когда Кудрявцева призывала наконец-то издать в России культовое в США произведение – роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»170.
Оппонентом Кудрявцевой на том собрании выступал известный критик-американист Старцев. Старцев требовал, чтобы советского читателя оградили от книги, автор которой сочувствует рабовладельцам, расистам. Пикантность ситуации заключалась в том, что Старцев незадолго до описываемого собрания был заключенным ГУЛАГа171. Не ему, бывшему зэку, а Кудрявцевой следовало бы ограждать советского читателя от «тлетворного влияния Запада»…
Впрочем, что там Старцев, упертый большевик-ленинец. Мы знаем, что таких как он даже советская пенитенциарная система не сломила. Гораздо удивительней, что на идеологическом фронте в ту пору свирепствовала дама Серебряного века – Евгения Федоровна Книпович172. Если надо было зарезать книгу иностранного автора, ее посылали на рецензию Книпович. Благо она и языки знала, и писать умела. А ведь Книпович была не просто дамой, она была из «Дам Блока», да простит меня мой бог, Александр Блок. Про Евгению Книпович присяжный остроумец Зяма Паперный сочинил такие строки: «Касался рук ее и ног / Сам Александр Блок…» Существовала, впрочем, и более язвительная эпиграмма насчет Книпович: «О как судьба твоя жестока. / Какой восход, какой $акат, / Вначале губы Блока, / Потом анисимовский зад»173.
Вот так все смешалось в нашей тогдашней жизни. Кудрявцева, Книпович, (/гарцев…
Кстати, до Кудрявцевой заведующим отделом прозы в «Иностранной литературе» был образованный и умный Борис Розенцвейг174. Он-то хорошо знал, кого нужно и должно издавать. Но Розенцвейг принадлежал к категории на всю жизнь запуганных интеллектуалов. Его напугали еще в 1937-м, а добавили в 1949-м… И получилось так, что при Кудрявцевой дело пошло живее…
Побеседовав с Розенцвейгом о Бёлле и Грассе, я уходила с тяжелым чувством. ()н явно не решался переводить самых известных писателей ФРГ.
Выше я нарисовала вполне привлекательный портрет Татьяны Алексеевны. 11о к этому портрету, увы, надо добавить немного темной краски. Кудрявцева становилась опасной, если ее интересы кто-то затрагивал. Тогда она была безжалостна. И, увы, неразборчива в средствах.
К сожалению, на ее пути оказался Н. Наумов – большой друг Лили Лунгиной. Наумов кончил ИФЛИ и работал в журнале «Иностранная литература» заведующим справочной. К нему стекались и зарубежная печать, и новые книги, выписываемые на Западе. Он сам переводил с французского.
Кудрявцева и Наумов были полные антиподы. Нема – так все звали Наумова – неисправимый романтик, Кудрявцева – жесткий прагматик. За спиной 11емы стояла сложная семья, трагедия с одним из сыновей – сын погиб, упав в пролет лестницы. Сам Нема был слабого здоровья и к тому времени только недавно попал в престижный журнал. У Кудрявцевой же все было в ажуре. Так, по крайней мере, казалось со стороны.
Воевал ли Нема с Хозяйкой?
Воевал. И, наверное, небеспричинно. Темные пятна на белых одеждах Кудрявцевой были ему видны. Кудрявцева, не стесняясь, привечала «нужных людей». Давала им работу. И не давала работу тому, кому дал бы ее Наумов.
Про таких, как Нема и Татьяна Алексеевна, говорили тогда, что они люди I «разной группой крови». И лучше бы Нема не наскакивал на Кудрявцеву.
Результат для него оказался плачевным. Довольно долго Кудрявцева выжидала и вдруг нанесла удар.
Дело в том, что Нема подписал одно из многочисленных писем в защиту уж не знаю кого. Понимал, видимо, что подписывать не стоит. Поэтому поставил на письме не псевдоним Наумов, под которым его все знали, а свою настоящую фамилию Кацман. (Его я упоминала, рассказывая об ИФЛИ.)
Говорили, что Кудрявцева обнаружила в райкоме то письмо и идентифицировала автора. Завели партийное дело: Нема был членом КПСС.
Поначалу думали, что все обойдется. Наумову объявят строгий выговор, потом выговор снимут. Но все обернулось иначе – небольшая партгруппа журнала исключила Нему из партии. Это показалось странным – к Неме в редакции хорошо относились. К нему благоволил и главный редактор. С одним из членов редколлегии Павлом Топером175 он дружил… Но в последнюю минуту за исключение Наумова проголосовали и главный редактор, и Топер. Говорили, что на них надавила Кудрявцева…
…Летом 2006 года я встретила Кудрявцеву у речки в писательском дачном поселке Красновидово. Несмотря на возраст, а возраст у нее близкий к моему (в 2006 году – около девяноста), она ходила на высоких каблуках, отлично выглядела. Была веселая. Рассказывала, что полгода живет в России, а полгода в США у дочки Нины, которая вышла замуж за американского профессора!
Нема уже давно умер. Его карьера в «Иностранной литературе» закончилась из-за Кудрявцевой. Но, на мой взгляд, вина за это лежит не только на ней, но и на людях, которые дали Наумову письмо для подписи.
Наверное, нынешней молодежи будет непонятно, зачем Нема вообще стал «подписантом». Сидя в журнале, он делал полезное дело. А подпись его под письмом ничего не стоила.
Пусть поверят мне на слово: чтобы отказаться от протестной акции, требовалось гражданское мужество. Да-да, именно гражданское мужество. Способность плыть против течения.
Ведь народ вокруг протестных писем собрался пестрый. Ни о какой этике не могло быть и речи. К примеру, если бы Нема отказался подписать письмо, приведя самые серьезные доводы, об отказе тут же узнало бы большое число людей. И соответствующие комментарии не заставили бы себя ждать. Нема был бы ославлен как трус и карьерист.
Жаль порядочного парня Нему… Справедливости ради надо сказать, что и после ухода Немы из журнала Кудрявцева продолжала публиковать «опасных» авторов.
4. Золотая пора
Ивее же в 60-х годах настала золотая пора переводов. Такого, конечно, не было и больше не будет.
Почему не было – ясно. Современных авторов с 30-х до конца 50-х по «идеологическим» причинам не разрешали издавать, прятали в спецхранах. Почему не будет, как говорит мой сын, и ежу понятно. Книги в ту пору часто заменяли жизнь, а ныне у людей появилось много других интересных дел и забот. Плюс Интернет. И так, надеюсь, будет и впредь…
Впрочем, что я такое говорю?.. Совсем недавно один за другим выходили у нас переводы книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. И вся детвора России буквально встала на уши – ждала своего Гарри Поттера. Ничто ей не мешало наслаждаться приключениями и волшебным миром этих сказок – ни айфоны, ни айпеды.
Но я говорю о своем «золотом времени». А у нас была тогда своя – навязчивая идея, мы, переводчики с европейских языков, считали, что хорошая книга – это хоть и небольшой, но подкоп под зловещее здание советской системы.








