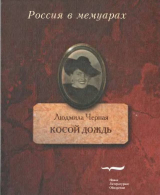
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 47 страниц)
Мамины переводы для меня – чудо. Маме давали гору сообщений – коротких и длинных, она их просматривала и шла к иностранным машинисткам, где и диктовала весь материал на немецком с листа. И так каждый день. Вернее, не каждый день, а каждую ночь. Первое время она, как и весь ИноТАСС, работала по ночам. А позже, когда ИноТАСС и РОСТА соединились в здании на Тверском бульваре под именем ТАСС, мама перешла на дневную работу. Однако и тогда очень часто засиживалась до ночи.
При этом у мамы не было ни приличных словарей, ни хороших справочников – эту литературу в СССР практически не издавали. Был только совсем небольшой немецко-русский словарь, весь исписанный маминой рукой, и старый энциклопедический словарь, «Маленький Брокгауз» на немецком, выпущенный еще в Веймарской республике.
Этот «Брокгауз» перешел ко мне по наследству, хоть и в сильно потрепанном виде, без первых и последних страниц. Долгие годы он был и для меня источником истины в последней инстанции. На советские энциклопедии нельзя было положиться. Еще хуже обстояло дело с энциклопедиями из ГДР, ставшими в СССР после войны доступными.
Только в конце 70-х, благодаря мужу, который за свое звание доктора наук имел ряд привилегий, в том числе возможность ежегодно выписывать за валюту из капстран книги по специальности, нам удалось получить современный энциклопедический словарь.
Разумеется, валюты давали Д.Е. очень немного. И чтобы добыть нужные книги, надо было просидеть не один час за каталогами на «чердаке» Дома ученых, где проходила процедура выписки.
Конечно, выпиской занималась я. И вот в один прекрасный день я увидела, что за малые деньги можно получить из Западной Германии «Энциклопедию Майера», пусть в дешевом «карманном» издании.
И, о чудо! Энциклопедия Майера пришла к нам в дом. С тех пор все 24 тома майеровской энциклопедии в специальной коробке стоят у меня на письменном столе. И я нахожу в них все, что мне надо.
24 тома «Майера» – мой компьютер!!!
Ну а как же мама? Насколько я знаю, ни до войны, ни после 1945 года в ТАССе не позаботились о необходимых справочных изданиях.
Маму спасал ее безупречный языковой инстинкт. И ее образованность. И добросовестность. И талант!
Притом маме давали самые разные тексты, не обязательно политические. Иногда это были статьи на специальные темы, например по машиностроению, или по химии, или по астрономии, или по минералогии. Она бегло просматривала их и диктовала машинистке с листа по-немецки. Так же она позже переводила на немецкий и неудобочитаемые романы таких авторов, как Панферов или Шухов. Романы советских писателей были маминым приработком. К нам домой приезжала вечером Варвара Михайловна Кабанова, тассовская машинистка, и привозила с собой громоздкую пишущую машинку с латинским шрифтом. Кстати, Варвара Михайловна и другие ее коллеги из ТАССа писали без ошибок на трех языках – немецком, французском, английском. Тоже неплохо! И мама, глядя в книгу, диктовала немецкий перевод. Классику ей не заказывали. А жаль!
Между делом мама перевела и все номера журнала «СССР на стройке», детища Горького, которое сейчас ценится на вес золота. Единственный мамин внук, создатель соц-арта Алик Меламид, еще успел полюбоваться иллюстрациями в этом журнале.
Конечно, в маминой работе в ТАССе была и обратная сторона. Боже мой, какую ложь переводила мама изо дня в день: речи Сталина, Молотова, Микояна, Ворошилова плюс стенограммы процессов 1936–1937 годов. Эту ложь, которую наша страна источала десятки лет, читали в Германии, Швейцарии и Австрии на безупречном мамином немецком.
Зато маме повезло с окружением и с начальством. В ИноТАССе в конце 20-х еще веял живой дух. Да и после работали интеллигентные люди. Глава ИноТАССа в 20-х Уманский был, очевидно, человеком незаурядным – он принадлежал к первой плеяде интеллигентов, пошедших на службу к Революции, и нисколько не походил на угрюмых чиновников сталинско-молотовского образца. Галина Вишневская назвала их «самодовольными, отупевшими от еды и питья». Уманский же, по рассказам людей, знавших его, – а я таких еще застала, – был остроумным, находчивым и обаятельным человеком.
Еще более яркой фигурой, чем Уманский, был хозяин Наркоминдела и одновременно шеф ИноТАССа Георгий Чичерин. Вот уж кто не походил на спесивых молчальников, будущих министров иностранных дел – Молотова и Громыко…
Чичерин был холост и жил в здании наркомата, так же, впрочем, как и его ближайшие сотрудники. Нарком до поздней ночи играл на рояле и часто спускался среди ночи в халате и шлепанцах к своим заработавшимся допоздна сотрудникам. Таким его и запомнила мама.
Чичерин, наверное, самая загадочная фигура в истории советской власти. Дипломатические успехи Чичерина при большевиках огромны. Именно Чичерин вывел советскую дипломатию на международную арену, сделал большевиков участниками мирового дипломатического процесса.
В моей памяти остался рассказ о Генуэзской конференции 1922 года, первой международной конференции, куда пригласили Советы. Дипломаты из всех стран уже собрались – ждут посланцев Красной России. Вот-вот явятся эти неотесанные мужланы, расхристанные комиссары в кожанках с маузером на боку… И тут дверь распахивается – на пороге рафинированный интеллигент Чичерин и его команда; все, как один, в безукоризненных фраках. Переговоры ведут на безукоризненном французском.
Мне эта легенда-быль в юности чрезвычайно импонировала…
Тем больше удивляло, что уже в 1930 году, в 60 лет, даже по нашим меркам только-только достигшего пенсионного возраста, Чичерина отправили в отставку. Объяснили это «затяжной болезнью». Какой? Ни Луначарский, ни тем более Дзержинский, болевшие «затяжной болезнью» – чахоткой, должностей не лишались. Умер Чичерин лишь через шесть лет после ухода из Наркоминдела. Самое странное, что на процессах 1936–1939 годов о нем не было сказано ни слова. А ведь какая подходящая фигура: помещик, дворянин, меньшевик, много лет прожил за границей.
Написав о Чичерине, конечно, вспомнила фон Нейрата, первого министра иностранных дел в кабинете Гитлера, кадрового дипломата, барона. Нейрата заменили на посту министра иностранных дел недоучкой Риббентропом, Чичерина – верным ленинцем Литвиновым.
На этом сходство двух министров кончается. Фон Нейрат не удержался на высоте – стал «протектором Богемии и Моравии», иными словами, палачом народов Чехии и Словакии. А потом сел на скамью подсудимых в Нюрнберге. Чичерин же себя ничем не запятнал.
Литвинова люди моего поколения, по-моему, сильно идеализируют. Мне он явно несимпатичен. Не люблю я Литвинова за его речи в Лиге Наций о мире… Вот уж кто врал!
Я внимательно прочла биографию Литвинова: в те годы, когда Чичерин – отпрыск известной академической семьи – изучал науки, Литвинов распространял листовки. Однако к началу войны в Европе у него оказался большой недостаток, как говорится, на генетическом уровне – он был еврей. И в 1939 году, накануне пакта Молотова – Риббентропа, Литвинова срочно заменили Молотовым.
Но о Литвинове я зря заговорила: он к маме никакого отношения не имел. Впрочем, может, и не зря. Литвинов как раз был ярким образцом Streber’a – выскочки, удачливого человека, может быть, даже авантюриста, сделавшего блестящую карьеру. Одна из дочерей Сурица, другого видного советского дипломата 20-х годов, рассказывала мне, что в жизни Литвинов был очень веселый, жизнерадостный человек, большой шутник, в отличие от его мрачноватой супруги – англичанки Айни.
Нашла упоминание о Чичерине у Троцкого в книге «Портреты революционеров»14. Пожалуй, Чичерин – единственный деятель крупного масштаба, которого Троцкий рисует с уважением. Упомянул Чичерина и Авторханов, который первым сумел объяснить феномен большевизма. В своей книге «Технология власти» Авторханов15 рассказал, что после того, как уголовная полиция в Европе стала арестовывать большевиков-эмигрантов, в том числе будущих наркомов Литвинова (!) и Семашко, за «экспроприацию» (вооруженные ограбления), меньшевики потребовали разбирательства (они тогда еще состояли в одной партии с большевиками). «Создается комиссия во главе с будущим наркомом иностранных дел Чичериным (тогда меньшевиком), – пишет Авторханов, – которая очень скоро установила, что ученики Ленина не только организовали кровопролитное ограбление в Тифлисе, но что Камо подготавливает взрыв известного банка Мендельсона в Берлине, чтобы экспроприировать на этот раз иностранную валюту. Ленин, пользуясь своим большинством в ЦК, сумел положить конец этим разоблачениям».
Поразительное совпадение: среди преступников-«эксов» Литвинов, который сменил на посту наркома иностранных дел разоблачителя его преступлений Чичерина. Я давно поняла, что жизнь сюжетна, почище любого телесериала. Но в жизни моей мамы Чичерин прошел всего лишь тенью в халате и шлепанцах!
Двух маминых непосредственных начальников я знала. С Карлом Гофманом16 мы с мужем встречались после войны. Побывали с Д.Е. у него дома. Гофман, известный международник, был высокий, толстый, очень добродушный дядя. Мама, по-моему, была слегка влюблена в него. Возможно, и он в маму. Все они были образованные и порядочные люди. Все знали языки. Последним начальником мамы – его уж я точно помню – был Чернов17. Трудоголик. С ним одно время работал Д.Е.
В отличие от папы и, пожалуй, от меня мама, как сказано, не заводила дружбу с первым встречным. Не сближалась даже с теми людьми, с кем много лет жила или работала бок о бок. Наталья Казимировна Шапошникова, тассовская машинистка, – исключение. Они хоть и не перешли на «ты», но звали друг друга по имени, что было для мамы верхом фамильярности. Шапошникову мама уважала, слушала ее советы, даже идеализировала немного. Наталья Казимировна переехала из Ленинграда. Была замужняя дама, но мужа с ней почему-то не было. Ютилась Наташа в комнате для прислуги. Однако была всегда элегантно, хоть и подчеркнуто скромно одета. Шили ей дорогие портнихи.
К моему величайшему изумлению, много лет спустя я случайно обнаружила Наталью Казимировну на групповом снимке артистов МХАТа с Булгаковым. Там же оказался и муж Шапошниковой18.
Теперь понимаю, что мама знала о дружбе Шапошниковой с мхатовцами и с Булгаковым. Более того, знала, что муж Натальи Казимировны, ленинградский искусствовед, был не то арестован, не то ждал ареста. Знала и молчала. И не в первый уже раз я подумала, в какое страшное время все мы жили, если надо было скрывать дружбу со знаменитыми артистами и с самым крупным писателем того времени Булгаковым. Люди боялись и своего прошлого, и собственного мужа, и знакомства с известными людьми…
«Отдельный» мамин страх был связан со Сталиным. Мама с конца 20-х и до самой смерти вождя переводила все его доклады, речи, выступления. Это было для нее и предметом гордости, и причиной для особого, испепеляющего ужаса. Переводчиков, машинисток и телетайписток каждый раз, когда выступал Сталин, передислоцировали из здания ТАССа на Тверском бульваре в Дом Союзов, где проводились тогда и съезды, и показательные процессы. Переводить надо было в совершенно незнакомом помещении, где, конечно, повсюду были понатыканы энкавэдэшники.
Но страшнее всего было то, что Сталин, будучи грузином, постоянно старался уснастить свою речь специфически русскими оборотами и поговорками. Помню, как всегда сдержанная мама пришла с работы донельзя взбудораженная и напуганная. И рассказала, что Сталин употребил такую поговорку: «Молодец среди овец, а как встретит молодца – сам овца…» «Ну как это перевести? – вопрошала мама. – Если дословно, то получится просто чушь. И потом надо в рифму. Это, впрочем, нетрудно. А если воспользоваться аналогичной немецкой поговоркой, – и тут мама произнесла с ходу поговорку, которую я, конечно, не запомнила, – то не будет ни овцы, ни молодца».
Мне, как никому, понятен безумный пробег героини фильма «Зеркало» Тарковского по типографии. Героиня представила, что в слово «Сталин» вкралась опечатка. Все русские машинистки и наборщики тряслись при мысли, что вместо Ст они напишут Ср… Мне кажется, этот страх был не просто страхом за свою жизнь, но неким сакральным ужасом, как если бы священник ошибся на богослужении во время чтения молитв. Страх, наводимый Сталиным, лежал уже где-то на грани подсознательного. Казалось, это эманация тех пирамид трупов, которые вождь воздвиг на своем пути.
Я так подробно рассказываю о «раннем» ТАССе (о «позднем» ТАССе речь пойдет ниже), вернее, об ИноТАССе, о его, так сказать, отцах-основателях по одной причине – с ИноТАССом связано не только мамино и всей семьи материальное благополучие. ИноТАСС давал маме чувство устойчивости и уверенности в себе. А также вполне интеллигентную среду обитания.
Насчет устойчивости – поясню. Мама ненавидела всякие перемены, боялась их. А ТАСС по своей сути был устойчивым, постоянным и неизменным учреждением. Отнюдь не однодневкой и не выдумкой большевиков. Такие агентства, как ТАСС, существовали и существуют во всех цивилизованных странах мира.
Распрощалась с ТАССом мама только после того, как физически не могла больше приходить (приезжать на такси) в здание на Тверском бульваре. Да и просто передвигаться по длинным тассовским коридорам и вносить рукой после машинки правку в свои переводы. Ноги уже не ходили, рука сильно дрожала.
Не знаю, был ли это старческий тремор или болезнь Паркинсона. Как ни странно, мама, всю жизнь лечившая отца у прекрасных врачей (в последние месяцы жизни папы Щуров посещал его чуть ли не каждый день), не лечилась сама. Испытывала просто-таки первобытный страх перед обследованиями, больницами и т. д.
Постарела мама как-то очень быстро. Мгновенно превратилась из подтянутой, хорошо одетой полной дамы в белую как лунь, худенькую старушку.
Уход из ТАССа был для нее большим ударом. Приспособиться к жизни неработающей пенсионерки мама не могла. Свободное время, которое вдруг появилось у нее, ей было ни к чему. Даже телевизор она не смотрела. Единственной ее заботой стало здоровье отца. А когда отец умер, она фактически потеряла интерес к жизни.
С января 1965 года, сразу после смерти отца, мама поселилась у меня. И это было для нее ужасно. В новую жизнь в чужой семье – а моя семья была для нее чужой – она не хотела вписаться. Все вызывало у нее отторжение – даже наша большая стометровая квартира с максимальными для той поры удобствами. Даже наша мебель, которую я с любовью собирала и реставрировала, думая о маме. О ее вкусе, о ее любви к красивым вещам.
– Разве можно жить в таком районе?.. – вопрошала мама. – Это уже не Москва!
Удивительно, что маму раздражал даже внук, которого она обожала, когда он был маленький. Правда, здесь она винила меня. Я плохо воспитываю Алика. Если я покупала Алику с рук джемпер, то, следовательно, делала из него «пижона». Если искала ему педагогов для занятия живописью, то превращала его в «иждивенца». А главное, зачем я освободила сына от армии? Воинская служба – священный долг каждого советского человека.
И это говорила моя умная мама.
И еще: моя умная, интеллигентная мама, что самое удивительное, не захотела понять: на дворе «оттепель», время надежд. Не хотела понять, что Сталин мертв и никогда больше не возродится…
Выше я писала, что мама ненавидела перемены. Она уже пережила несколько перемен. Переехала из родной уютной Либавы в огромную непонятную Москву. Пережила Революцию, когда все стало оцениваться с точностью до наоборот, богатство назвали пороком, бедность – достоинством, голубую кровь – позором, нищую братию – солью земли. Пережила и Гражданскую войну с ее голодом и тифом.
Перемен маме за глаза хватало. А про все нанесенные ей советской властью обиды – житье в коммуналке, разлуку с родными, оторванность от Европы – она забыла. Помнила только хорошее, например то, что никогда не была безработной.
На старости лет мама хотела стабильности, твердых устоев. Да, устоев, пусть самых нелепых, вроде того, что каждый мужчина должен маршировать и стрелять…
Уверена, если бы мама могла и впредь держать домработницу, а в выходные дни этой домработницы нанимать другую, она ни за что не уехала бы из Большого Власьевского.
Правда, мама панически боялась и одинокой старости. Но одиночество она чувствовала и у нас. В этом виноваты мы все, а больше всех, конечно, я.
Бедная мама!
В заключение хочу сказать, что маме повезло с мужем. В молодости я считала брак родителей неудачным. Они были очень разные, часто ругались, обижались друг на друга. В действительности брак был удачный: однолюбка мама любила отца всю жизнь. А папа ей никогда не изменял, был предан всей душой. Однако никаких показушных нежностей они не признавали. Никаких ласковых слов на людях друг другу не говорили. Он звал ее Тилия, она его Борис. У меня до сих пор звучит в ушах мамин голос: «Что ты хочешь, Борис. Мы ведь живем в варварской стране…»
Глава II. ВСПОМИНАЯ ШКОЛУ
Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.
Песня тех давних лет
1. Дальтон-план
Когда я была маленькая, папа несколько раз в год измерял мой рост.
Церемония была такая: я подходила вплотную к двери, снимала туфли и в одних чулочках, выпрямившись, прислонялась спиной к дверному косяку. Папа сначала прикладывал к моей макушке кусок картона, а потом, дождавшись, пока я вылезу из-под него, делал зарубку перочинным ножиком на коричневом косяке. Зарубки образовывали «лесенку», и по этой «лесенке» было видно, как я расту. Мы с папой любовались зарубками, призывали маму, и все вместе радовались тому, что я быстро вытягиваюсь.
Та же самая церемония разыгрывалась и с моим сыном Аликом. Когда он был маленький, муж измерял рост Алика каждые несколько месяцев. Проводил аккуратные черточки ручкой с лиловыми чернилами по белому дверному косяку – двери у нас были белые. И писал этой же ручкой дату. И они с Аликом, разглядывая чернильную «лесенку», призывали меня, и мы все трое радовались.
Это была, пожалуй, даже не церемония, а некий торжественный обряд. Ребенку давали понять, что он полноправный член семьи. И его рост важен всем. Ведь иначе папа не стал бы делать на самом видном месте зарубки или писать чернилами черточки и цифры. Двери никому не разрешалось портить. Таким образом, ребенок проникался сознанием того, что он в доме – важная персона.
Но вот эту важную персону в семь лет отдают в школу. И оказывается, чтс таких, как он, персон – тьма-тьмущая, по тридцать – сорок в одном толькс классе.
Какой контраст, какая ломка для ребячьего сознания!
Меня отправили в школу в конце четвертого класса. Фактически я поступила сразу в пятый класс. И было мне десять-одиннадцать лет. Мама решила, что домашнее воспитание в раннем возрасте предпочтительнее школьного. Думаю, она просто боялась, что я подхвачу инфекцию и заболею детскими болезнями – такими, как корь, ветрянка, коклюш, скарлатина. Особенно ее пугала скарлатина. От осложнений после скарлатины всю жизнь страдал ее любимый либавский брат Владимир. Вот она и тянула время. До второй ступени я, как сказано, училась дома с учительницей, Ларисой Митрофановной, которая жила этажом ниже нас.
Таким образом, окончив десятилетку, я провела в школе не десять лет, как положено, а всего шесть.
Но это так, к слову.
Главное, что, начав вспоминать свою жизнь, я поняла: мои школьные шесть лет – три года в одной школе, три года в другой – совпали в первой школе с революцией в системе среднего образования и с созданием новой системы, а во второй – с коренной ломкой этой самой новой системы.
Вот как это выглядело по моим воспоминаниям.
В прежнее время, то есть в царской России, мальчики и девочки учились раздельно, в мое время – вместе.
В старое время были классы, у нас – группы.
В старое время ученики носили форму – у нас форму отменили.
В старое время ученики сидели за партами, у нас – за столиками.
В старое время была пятибалльная система – у нас остались две отметки: «уд» и «неуд», в виде исключения ставили «вуд» – весьма удовлетворительно.
Отменили прописи и уроки каллиграфии.
Отменили уроки Закона Божьего.
Отменили уроки древних языков – латыни и греческого.
Грамоте учили по новой орфографии – без букв «твердый знак» и «ять». Твердого знака прямо-таки боялись. Я очень долго писала слово «подъем» так: «под’ем». Кроме «ять» и твердого знака много поменяли и в грамматике, и в правописании.
Перестали изучать русскую историю и всеобщую историю. И продолжалось это не то до середины 30-х, не то до самой войны 1941 года.
Писали мы металлическими перьями, которые вставляли в деревянные ручки. Но только перьями «86» или «Рондо»; считалось, что другие перья портят почерк, а красивый, удобочитаемый почерк тогда ценился.
В портфелях (ранцы были не в моде) лежали пеналы с ручками, циркулями, ластиками и красивыми желтыми карандашами заграничной фирмы «Фабер», которая по концессии построила в России карандашную фабрику. Карандаши были твердые и мягкие.
Стандартными учебниками советская власть еще не обзавелась. Часть учебников по точным наукам просто перепечатали с дореволюционных изданий. Надо было только поменять старую орфографию на новую и слегка отредактировать текст. Так, в задачниках вместо «лавочник» писали «кооператор», а вместо «приказчик» – «продавец»…
Тетради тонкие для малышей были в косую линейку, а для ребят постарше либо в линейку – по русскому языку, либо в клеточку – по арифметике. На задней стороне обложки тонких тетрадей в клеточку красовалась таблица умножения, а на обложке тетрадей в линейку – наш тогдашний гимн «Интернационал».
Надо признать, что, в отличие от таблицы умножения, «Интернационал» испытания временем не выдержал. Первая же строфа: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов. / Кипит наш разум возмущенный / И в смертный бой вести готов», равно как и призыв во второй строфе: «Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, / Отвоевать свое добро, / Вздувайте горн и куйте смело, / Пока железо горячо…» – уже в 30-х годах XX века звучали несколько странно. А строчки: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, / А затем…», а также слова: «А паразиты никогда» мы, студенты ИФЛИ, повторяли как удачную хохму.
Настораживало и то, что наш гимн был переведен с французского каким-то Коцем.
И все же я, дитя Революции или, скорее, «ровесник Октября», как меня именовали в первую половину жизни (теперь я «ветеран Великой Отечественной войны»), свидетельствую: «Интернационал» был духоподъемный гимн. Величественный и торжественный. А главное – масштабный. Его героем была вся Земля, весь «род людской». Все страны, все континенты. «Трудящиеся всех стран, соединяйтесь» – главный лозунг эпохи.
И мы свято верили, что с пением «Интернационала» шли в бой героические части Красной армии. Верили, что с «Интернационалом» на устах умирали коммунисты, попавшие в руки белогвардейцев, и что с ним же умирали немецкие коммунисты в застенках гестапо…
В годы войны 1941–1945 годов, правда, умирали с именем Сталина… Но согласитесь, умирать во славу всего человечества все же почетней, чем во славу одного Тирана с усами…
Сталин отменил «Интернационал» только в 1943 году. Однако уже в 30-х годах пели не столько «Интернационал», сколько песню из кинокомедии Александрова «Цирк»:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек…
Жидковато звучит, особенно по сравнению с «Интернационалом», с его всемирностью.
Да, именно идеология «всемирности» определяла жизнь в ту пору. Молодежь мыслила глобальными категориями, категориями земного шара. Не иначе. И не только в нашей стране.
Сейчас это кажется смешным, но тогда многие люди мечтали о едином языке для человечества. И такой искусственный язык был уже в конце XIX века придуман в Польше интеллектуалом по фамилии Заменгоф. Сконструировал Заменгоф этот язык на основе романских и германских языков и назвал «эсперанто», что в переводе с латинского означает «надеяться».
Смутно помню, что взрослые всерьез обсуждали, стоит ли учить эсперанто, имеет ли будущее этот искусственный язык. И рассказывали, что их знакомые переписываются на эсперанто с гражданами разных стран.
Академик В.Л. Гинзбург вспоминал, что его, юного аспиранта, в шутку называли «эсперантом». Видимо, эсперантистов в России было тогда больше, нежели аспирантов.
Но вот прошло каких-нибудь лет 20 – всего, – и Ахматова, столь почитаемая нашей интеллигенцией, написала:
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова.
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
На мой взгляд, стих Ахматовой, увы, проявление псевдопатриотизма, насаждавшегося Сталиным в 40-х годах. Уже в 1937 году, в разгар Большого террора, русский язык был провозглашен «великим языком», ибо он есть язык Пушкина.
Смешно! Итальянский язык с тем же основанием можно назвать языком Данте, английский – языком Шекспира, немецкий – языком Гёте… И так далее…
И какого черта надо выстраивать иерархию языков? Какой лучше, какой хуже…
Наивные попытки создать один мировой язык мне, старухе, милее, нежели стихи Ахматовой и речи Лидии Чуковской во славу «чистоты» русского языка. Обернулись эти речи «русскими маршами», в лучшем случае «здоровым национализмом», который меня, лет 40 изучавшую германский фашизм, пугает не на шутку…
Но вернемся в школу у Покровских ворот, где, как я теперь понимаю, многое было созвучно «Интернационалу». И, в частности, то, что школа была имени Парижской коммуны.
Я уже говорила, что у нас тогда отменили историю. Частично отменили и литературу. «Сбросили с корабля современности» русскую классику. «Проходили» Демьяна Бедного, Горького и «пролетарских писателей», уже забытых или полузабытых.
Группа, в которую я пошла учиться в 1928 году, была набрана в 1924-м, то есть в ту пору, когда на обломках старой гимназии и старого реального училища строилась новая «единая трудовая школа-семилетка». И, соответственно, я стала ученицей 23-й школы БОНО (Бауманского отдела народного образования).
Судя по великой русской литературе XIX века, особо плакать по старой царской гимназии не стоило. Вспомним хотя бы чеховского «Человека в футляре», гимназического учителя с его слоганами «Волга впадает в Каспийское море» и «Лошади кушают овес» или скучного Кулыгина из «Трех сестер». Не говоря уж о страшном Передонове, персонаже «Мелкого беса» Сологуба.
А вот новая школа и новые педагоги в 20-х годах описывались с неизменной симпатией. Тому пример «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева и «Республика ШКИД» (школа имени Достоевского) Г. Белых и Л. Пантелеева. И в «Дневнике Кости Рябцева», и в «Республике ШКИД» педагоги – друзья учеников. А сами подростки занимаются не из-под палки, не ради отметок. Они сознательно и весело грызут гранит науки своими молодыми, здоровыми зубами.
Утопия? Фантазия? Не знаю. Но знаю, что моя первая школа на Покровском бульваре при всех серьезных изъянах и недостатках была во сто крат лучше четырех школ, в которых учился сын.
По иронии судьбы новая школа помещалась в здании старой гимназии Виноградовой. Там было много света, воздуха, простора; широкие коридоры, большие классы, огромный и торжественный актовый зал. После войны власти решили, что для детей это здание напротив Покровских казарм чересчур роскошно, и отдали его издательству «Советская энциклопедия», которое понастроило в нем массу тесных клетушек.
Как сказано, моя первая школа была имени Парижской коммуны. До сих пор помню дату дня Парижской коммуны, нашего «престольного праздника» – 18 марта 1871 года. Проверила по энциклопедии, все правильно. Несколько лет я и впрямь считала, что история начинается с Парижской коммуны и что это второе по важности событие со дня сотворения мира. Первое событие, конечно, Октябрьская революция. Папа, правда, пытался меня переубедить, но мудрая мама сочла, что, раз новым хозяевам жизни так важна Парижская коммуна, спорить не стоит.
День Парижской коммуны у нас в школе отмечался пышно: на стены в актовом зале вешали огромные портреты коммунаров (их рисовали сами ребята), устраивали вечера, декламировали стихи, пели. Наверное, читали и доклады. Была у нас и знаменитая на всю Москву «Синяя блуза» – ее сочиняли старшеклассники, как позже сочиняли капустники. Заводилой в «Синей блузе» в 23-й школе был Виктор Драгунский, но я его не знала. Он оканчивал семилетку, когда я только начинала свою школьную жизнь.
Интересно, однако, что «мадам» (так мы звали учительницу французского языка, французский в нашей школе был обязательный) никогда не рассказывала нам о каких-то там Делеклюзах, Пиа, Варленах и прочих героях Коммуны, а вешала на классную доску большие полотнища, предварительно развернув их (они стояли скатанные в трубочку, сохранились еще с дореволюционных времен). На одном из них была весьма натуралистически, но в черно-белом варианте изображена комната с разнообразной мебелью. Посреди комнаты сидела старушка, вязала чулок, а под столом белая кошка играла клубком пряжи. Тыча указкой в изображение комода или стула, «мадам» вопрошала: «Quest-ce que cest?» И мы отвечали по-французски.
В качестве же внеклассного дополнительного чтения «мадам» рекомендовала нам незабвенную «Розовую библиотеку», томики, сочиненные графиней Софьей де Сегюр, урожденной Ростопчиной, – эту «библиотеку» читали и моя мама, и, вероятно, мама мамы, либавская бабушка. Я, по-моему, одолела по-французски лишь одну книгу из этой серии – «Сонины проказы».
А когда в России стали доступны книги гениального Набокова, с умилением узнала из «Чужих берегов», что и в набоковском доме дети читали нарядные томики с золотым тиснением, книги «для детей и юношества». Попутно узнала, что и во времена Набокова это было весьма старомодное чтение, ибо в томиках описывалась жизнь мальчиков и девочек, родившихся в начале XIX века.
Книги де Сегюр читала и Татьяна Толстая, которая принадлежит не к моему поколению, а к поколению моего сына. Т. Толстая меня удивила: из ее книги я узнала, что в детстве мы с ней поглощали одни и те же сочинения, начиная с «Маленького лорда Фаунтлероя», «Серебряных коньков» и «Маленького оборвыша»19, кончая «Маугли» и восхитительными, несравненными книгами с изложением мифов Древней Греции.
Ну а как обстоит дело с Парижской коммуной? Про нее кто-нибудь еще вспоминает? И что привлекало к ней большевиков? За неимением дома новых источников раскрыла Малую советскую энциклопедию – хотела узнать, что полезного могла бы поведать наша школьная француженка, если бы отказалась от де Сегюр и вплотную занялась Парижской коммуной. В энциклопедии прочла статью о Коммуне, написанную в конце 20-х А.И. Молоком, весьма известным тогдашним историком, и узнала, что коммунары совершили ужасные ошибки… Увлеклись «формальной демократией» и, вместо того чтобы захватить и уничтожить Версаль, занялись «всеобщими выборами». А вместо того чтобы быстренько организовать «красный террор» и уничтожать «классовых врагов», проявили «непростительное прекраснодушие». В довершение всего не ограбили французский банк, «конфисковав у него миллиарды».








