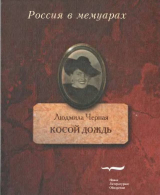
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 47 страниц)
Вишневский еще в 30—40-х принадлежал к группе талантливых искусствоведов и литературоведов, которые отрицали современное искусство, искусство авангарда как таковое. И не только Татлина и Кандинского, Эля Лисицкого или, скажем, Хлебникова, но и французских экспрессионистов, и кубистов, и конструктивистов etc. Для них искусство кончалось XIX веком. Другого не было и нет. Вот так! Я об этой группе (Лифшиц, Гриб, Пинский, Верцман) уже написала в главе об ИФЛИ. То были люди, умом и образованностью которых я всю жизнь восхищалась. Вишневский к ним примыкал. И возможно, итальянский неореализм ему не нравился, а авангардисты были отвратительны. Зато бездарный Шилов милее, нежели художники русского андеграунда. Как я уже писала, глава группы Михаил Александрович Лифшиц Шилову покровительствовал. Чего же боле…
Одно могу утверждать: Вишневский так же, как и моя приятельница Наталья Сергеевна Сергеева (тоже из номенклатуры), с полным правом мог сказать о себе словами Маяковского: «Мне и рубля не накопили строчки…» Сан Саныч, как его звала жена, всю жизнь прожил в отцовской квартире с отцовской мебелью, не имел ни дачи, ни собственной машины… Не жулил, не хапал, не хитрил… И, в отличие от Сергеевой, достойно принял перемены, совершившиеся в нашей стране: не оплакивал коммунистов и Советский Союз, не жаловался на потерю престижа и денег на сберкнижке. Свою трудную старость прожил поистине с патрицианским мужеством. Вишневский умер, кажется, в возрасте 92 лет.
Второму «вольному стрелку» – Э – ну – чудовищно не повезло. После войны или в конце войны его репрессировали. А реабилитирован он был только после смерти Сталина. Выйдя из тюрьмы, Э – н назвал имя человека, по доносу которого его посадили. Набил этому человеку морду. И решил подать на него в суд. Но не тут-то было. В СССР не желали обижать стукачей. Тем более в данном случае это могло ударить рикошетом по репутации всей Лубянской конторы, или «магазина», как мы с моей подругой Мухой называли это милое учреждение на площади Дзержинского. Дело в том, что в деле Э – на фигурировало довольно странное обвинение. Дежуря ночью в ТАССе, этот еврей как-то сказал: «Кому я завидую, так это папе римскому. Вот у кого не жизнь, а малина. Поменялся бы я с ним».
И вот советского еврея посадили за то, что он мечтал поменяться местами с понтификом!
И еще не могу не рассказать, хотя бы коротко, об ответственных руководителях ТАССа – в мою бытность их было два, один сменил другого. В годы войны ТАСС еще не был полностью забюрократизирован. Даже самый маленький редактор, такой как я, знал своего главу. Главой был тогда Яков Семенович Хавинсон, или Хав, как его называл весь ТАСС.
Хав в 1937 году сменил С.Я. Долецкого, назначенного ответственным руководителем в 1925 году. Долецкий принадлежал к группе подпольщиков-большевиков родом из Польши и Литвы.
В середине 30-х Сталин всю эту группу прихлопнул. И на место Долецкого сел Хавинсон. О Долецком в первом издании Большой советской энциклопедии сохранилось хотя бы тридцать строчек. Преемники Долецкого и этого не заслужили…
Но в первые годы войны ничто не предвещало отставки Хава. Роста он был непомерного, кажется, страдал какой-то малоизученной болезнью: рос и во взрослом состоянии. Большая часть сотрудников ТАССа была Хаву по грудь. В его отношениях с этими малявками присутствовало нечто патриархальное, очень многих он знал и привечал, спрашивал о здоровье жен (мужей), детей, был доступен и доброжелателен.
Нашего завредакцией Меламида Яков Семенович искренне любил. Гордился им. Уважал за ум, за талант, за чутье прирожденного политолога. И еще за то, что Меламид и весь наш отдел был как бы его, Хавинсона, детищем. Ведь это он ходатайствовал о создании в ТАССе редакции дезинформации и контрпропаганды…
Такая любовь ответственного руководителя к нашему отделу приводила к забавным казусам.
Хав с удовольствием собирал нас у себя в кабинете и держал перед нами речи. Нетрудно догадаться, что это происходило в ночные часы, когда мы с ног валились от усталости. Однако с начальством не поспоришь. И все мы, контрпропагандисты и дезинформаторы, покорно плелись в кабинет Хава, где всегда было тепло, отчего всех нас клонило в сон. Помню, что однажды Лерт попросила меня сесть в самый конец комнаты и толкать ее в бок, как только она начнет засыпать. Это оказалось бесполезным занятием. Я толкала, Лерт с храпом пробуждалась и тут же снова засыпала. Потом Раиса Борисовна стала садиться на стул в первом ряду. Эффект тот же. Она засыпала сразу, но просыпалась уже от собственного всхрапывания. Но и мы все тоже дремали.
Не могу не сказать, что много лет спустя Хав дважды очень помог нашей семье. Вернее, помог не он, а его жена, которая оказалась замечательным врачом-невропатологом и добрейшей женщиной.
В первый раз жена Хава – Марья Борисовна – буквально спасла Андрюшу, пасынка Алика, от дурдома, куда его собирались засадить врачи. Андрюшу по рекомендации жены Хава показали ассистенту всемогущей Сухаревой, специалиста по детским психическим болезням, и милейшего мальчика, слава богу, оставили в покое.
Во второй раз Марья Борисовна по моей просьбе приехала в «Ляпунов-ку», больницу Академии наук, где лежал Тэк с микроинсультом. Оформлено это было как официальная консультация. Марья Борисовна одобрила лечение, кое-что посоветовала. Но главное, уже само ее появление у постели больного Д.Е. произвело сильное впечатление на врачебный персонал «Ляпуновки».
Ну а теперь о самом Хаве.
Хавинсона сняли с должности гендиректора ТАССа в 1943 году – он стал одной из первых жертв антисемитской политики Сталина. Формальным предлогом для его снятия стало, кажется, недостаточное знание иностранных языков. Блажен, кто верует. Все-таки Хав удостоился почетной отставки – его назначили обозревателем в «Правду». На двери служебного кабинета Хавинсона висела табличка «Маринин»: этой фамилией он подписывал свои статьи на международные темы. В газете «Правда», центральном органе коммунистической партии СССР, еврейским фамилиям тогда не было места.
В «Правде» Хаву жилось нелегко – коренные правдисты встретили его недружелюбно. Наталья Сергеевна Сергеева в годы войны работала в «Правде» и говорила о Хаве с нескрываемым пренебрежением.
В XXI веке, когда стали активно переосмысливать наше прошлое, Хавинсона поминают недобрым словом уже не правдисты, а интеллектуалы. Он якобы вел себя недостойно.
У меня на этот счет другое мнение. Недостойно вела себя советская власть.
Даже в Германии, где были еврейские организации, где людей сплачивала синагога, не было серьезного сопротивления геноциду. Что же можно сказать об СССР? Увы, спустя полвека очень многие умники точно знают, как надо было поступать в экстремальных условиях сталинского режима. Разработана даже целая система поведения для Кролика, который оказался в непосредственной близости с голодным Тигром. Жаль только, что никто систему эту не опробовал.
Особенно меня возмущает, что под огнем критики еврейских «ребе»-псевдомудрецов типа Сарнова оказался и Эренбург. А между тем, видимо, он единственный, кто попытался как-то помешать «окончательному решению» еврейского вопроса в СССР. Слова «окончательное решение» я употребляю намеренно – так Гейдрих назвал нацистскую программу поголовного истребления евреев в Европе, то есть Холокост.
И если даже умнейший человек и великий публицист Илья Эренбург, враг Гитлера номер 1 – такой резонанс имели ежедневные антифашистские статьи Эренбурга в годы войны, – если даже он не угодил многочисленным псевдомудрецам, то что уж тут говорить о Хаве. Мне жаль Хава.
Вспомним: уже первое поколение коммунистов-ленинцев не стало себя защищать и бесславно погибло в сталинских лагерях. Так чего же ждать от поколения Хавинсона? Поколения, безусловно, менее интеллигентного (Хав и впрямь не знал языков) и менее искушенного? Кто заступится за него? А ведь и это поколение, наверное, заслуживает снисхождения, ведь и оно не ведало, что творило.
Но вернусь в ТАСС…
На моей памяти был и второй гендиректор – Н.Г. Пальгунов94. До ТАССа – заведующий отделом печати Наркомата иностранных дел. А до этого корреспондент ТАСС во Франции. В ТАССе его тут же окрестили Карениным и рассказывали о нем такой анекдот: якобы, будучи в Париже, он писал в официальных депешах: «По сообщению Франс Пресс, в Париже стоит хорошая погода».
Наверное, Пальгунов и впрямь был советским чиновником, но отнюдь не Шелепиным. Он был чиновником, сменившим предыдущее поколение партийных начальников «своих-в-доску»… Пальгунов закрыл редакцию дезинформации и контрпропаганды. Тэк его в этом обвинял. Но когда в Союзе бушевала антисемитская вакханалия, в ТАССе, я знаю, никто или почти никто не пострадал.
Разумеется, нашу редакцию Пальгунов к себе в кабинет не приглашал. Но, как ни странно, у меня с новым гендиректором состоялся однажды длинный разговор. Я попросила его принять меня, и он тут же согласился. Я уже писала, что в 1943 году решила поехать к мужу Борису на 2-й Украинский фронт. И разрешение на отпуск – отпусков во время войны не давали, особенно если речь шла о нашей редакции, – должна была получить через голову непосредственного начальника – Меламида, из-за которого я и хотела сбежать из Москвы.
От Пальгунова я могла ожидать чего угодно – он только недавно пришел в ТАСС, вроде бы никого не знал, к нашей редакции никакого интереса не проявлял. Словом, если бы Пальгунов сказал: «Девушка, идите к своему заву и с ним разбирайтесь…», я бы нисколечко не удивилась.
Но вышло совсем иначе. Пальгунов меня сразу принял и говорил со мной не как сухарь и бездушный чинуша, а заинтересованно, даже дружески. Он, видимо, знал о моем романе с Меламидом, женатым человеком. И как мне показалось, намекнул, что лучше бы мне уехать от греха подальше, и не на две недели, как я прошу, а насовсем. Потому что… Потому что… Больше я ничего не услышала.
Но, прокручивая в памяти этот разговор много позже, я подумала, что Пальгунов дал мне тогда понять: и Меламида, и меня ждут трудные времена. И мне лучше встретить их на фронте.
Напомню, я пошла к Пальгунову, кажется, осенью 1943 года, когда Сталин уже начал свою позорную антисемитскую кампанию… Неужели гендиректор ТАССа хотел меня предупредить?
Но тогда я обо всем этом не задумывалась. Торжествуя, выскочила из пальгу-новского кабинета и со злорадством прошипела по адресу Д.Е., будущего мужа: «Обошла тебя. Уеду из Москвы на две недели. Накось, выкуси…»
Вспоминая Пальгунова много лет спустя, понимаю, что с ним произошло то же самое, что и с Карениным в спектакле «Анна Каренина» во МХАТе. Задуманный Толстым как отрицательный тип, сухой чиновник-вельможа Каренин в глазах зрителей Художественного театра стал в 30-х годах скорее положительным персонажем. Ведь толстовский Каренин, безусловно, интеллигентен и честен, предан делу и порядочен до мозга костей. И если в XIX веке всего этого было мало, то в XX веке хватало с лихвой. Прибавим к этому обаяние гениального Хмелева, который играл Каренина, и получим результат – публика сочувствовала не Анне, не Вронскому, а обманутому благородному Каренину…
Но пора вернуться к моей текущей работе. Итак, я писала «ответы» нацистским деятелям. Иногда просто короткие статьи по темам, которые давал Меламид. К примеру, размышления о ситуации на советско-германском фронте, взгляд из Москвы. Или по какому-то конкретному поводу, например о перспективах открытия второго фронта. В один из переломных моментов я здорово опростоволосилась – сообщила, что командующий окруженной сталинградской группировкой Паулюс удрал на самолете в Германию. К счастью, моя статья так и не ушла из редакции, ибо на следующий день все радиостанции и телетайпы мира передали, что фельдмаршал Паулюс сдался в плен русским. Тему я на этот раз придумала сама. Это был для меня хороший урок – не заниматься самодеятельностью.
Печально, что я не написала об информационной войне 25 лет назад, когда был жив муж. Он бы сразу вспомнил десятки тем, которые давал разрабатывать мне и другим контрпропагандистам. А главное – дезинформаторам. Кстати, муж меня все время уговаривал рассказать о нашей редакции.
Ежедневно я, Лерт, Кара-Мурза, позже и Ландау писали две статьи по четыре страницы. Это была обязательная норма. Пишущий человек знает, что у любой статьи должны быть начало, середина и конец. Знает он и то, что написать восемь страниц на одну тему легче, нежели четыре страницы на одну тему и четыре страницы – на другую…
Я с гордостью рассказала в начале этой главы о том, что мне удалось с первого раза «ответить» Герингу, попасть, что называется, в яблочко. Целый месяц потом я писала вполне пристойные материалы. Но вот меня зачислили в штат, дали постоянный тассовский пропуск, ночной пропуск, дали соответствующие карточки, и тут что-то во мне сломалось. Я разучилась писать, потеряла ориентацию, сноровку, чутье, верный тон. Так продолжалось опять же месяц. Что делать, никто не знал. Потом я выправилась и дальше работала как машина – каждый день по две статьи.
Не надо забывать также, что я была самая молодая в редакции и что в случае авралов меня охотнее, чем других, оставляли делать внеочередной материал. Не говоря уже о том, что, когда начался наш роман с Тэком, он, злоупотребляя своим положением начальника, охотно оставлял меня сидеть дополнительные часы. Ему куда спокойнее было знать, что я корплю за своим письменным столом на шестом этаже, а не шляюсь неизвестно где…
И работали мы все не только без субботних выходных (их дал уже Хрущев), но и без воскресных. Мне кажется, отняли воскресенья в войну у всего ТАССа. А может, я ошибаюсь? Но спросить не у кого.
Знаю только одно: навыки быстрого писания я получила на всю жизнь. Меня можно разбудить среди ночи, дать тему и посадить за письменный стол… И статья будет. Может, плохая, но будет.
Однако в тогдашней контрпропагандистской работе был один существенный изъян. В особенности в работе на фашистскую Германию. У нас не существовало «обратной связи». Дело в том, что в Германии Гитлера, как и при любом другом тоталитарном строе, слушание «вражеской пропаганды» в военное время строго каралось.
Советские граждане в самые первые дни войны сдали свои коротковолновые приемники. После войны, да и после смерти Сталина, долгие годы в СССР работали мощнейшие «глушилки». Слушать «вражеские голоса» было мучительно трудно. Их ловили ночью, лучше всего за пределами города.
В гитлеровской Германии радиоприемники не забирали. До такого безобразия там не додумались. Кроме того, немцы жили не в коммуналках. Они имели отдельные квартиры и даже дома. Но слушать иностранное радио все равно боялись. Боялись доноса соседей, случайных свидетелей, даже родственников. А если уж шли под конец войны на немалый риск, то ловили Би-би-си: как-никак, Британские острова были им ближе Москвы и территориально, и идеологически.
Так что всем нам порой казалось, что мы пишем в никуда, в «молоко». В лучшем случае для Министерства пропаганды Геббельса. Нам клали на стол очередной радиоперехват, а им, нацистским пропагандистам, видимо, вручали радиоперехват с нашими статьями. Но они, сволочи, даже не почесались ни разу, не вступили с нами в спор, в полемику, в словесную баталию…
И вдруг нам ответили. И не кто-нибудь, а Йозеф Геббельс. И ответил не Раисе Лерт, нашей партийной контрпропагандистке, а мне… Мне.
Теперь, конечно, не помню, по каким приметам в редакции это сразу поняли (мы свои статьи не подписывали). Но я прямо лопалась от гордости.
Естественно, Геббельс облаял меня по полной программе. Обозвал как-то очень обидно. Но с эпитетом «кремлевская» или, скорее, «кремлевский»: не то шавка, не то выродок. Почему «кремлевский» – ясно. Фашистский министр был тщеславен, как павиан. Ему и в голову не приходило, что полемизировать с ним может совершенно никому не известная девица, а не сам Сталин прямиком из Кремля, на худой конец сам Эренбург, который, по его разумению, тоже сидел в Кремле.
Почему меня так обрадовал отклик Геббельса на мое сочинение?
Да потому, что ТАСС не без основания считали «могилой неизвестного журналиста». Имена журналистов, писавших для газет, были у всех на слуху. Особенно в военные годы. А мы, тассовские сотрудники, оставались безымянными.
Хорошо было говорить Маяковскому: «Умри мой стих, / Умри как рядовой, / Как безымянные на штурмах / Мерли наши…» Стих Маяковского всегда имел имя – Маяковский…
А на моей журналистской судьбе, видимо, было написано оставаться безымянной… За два года я написала в ТАССе, наверное, семьсот статей… Несколько, быть может, удачных. Но кто их прочел?
И до этого в Чкалове главный редактор военной газеты велел мне подписываться мужским именем. Бабы-авторы ему не подходили.
После войны, работая в Иновещании Радиокомитета, я, как и в ТАССе, не подписывала своих статей.
Только когда я начала публиковаться в «Известиях» в конце 40-х, мне разрешили писать под своей фамилией. Но продолжалось это очень недолго.
И тут надо бы перестать сетовать на судьбу. Как умела, так и поведала о тех годах. Но хочется еще вывести хоть какую-то мораль. Со времен Герцена «былое» и «думы» стали у нас в сознании чем-то вроде сиамских близнецов. Без «дум» мы просто не можем вспомнить «былое». Поэтому хочется написать нечто вроде краткого эпилога к этой главе.
После окончания войны прошло почти семьдесят лет. И нам, выжившим и дожившим до XXI столетия, стало многое понятнее о нашей прежней жизни.
Вот выступает писатель Даниил Гранин, умный человек, и высказывает, казалось бы, совершенно несообразные мысли, даже кощунственные. Будто бы ленинградцам в блокаду под обстрелами, без еды, без света и тепла было морально легче, нежели до блокады и после прорыва оной. Ленинградцы, умирая, чувствовали себя людьми, а не «винтиками». И притом хорошими людьми. Почему-то громадное большинство захотело стать не мародерами, а «мать-Терезами». Страдающий ленинградский ареал на три года откололся от тоталитарного государства Сталина. И тут же произошли такие перемены.
Мы быстро забыли стихи Ольги Берггольц, женщины с трагической судьбой. А ведь в годы блокады Берггольц, потерявшая во времена Большого террора мужа, поэта Бориса Корнилова, в сталинских застенках, лишившаяся возможности иметь детей (ее искалечили в НКВД), писала:
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали 6 нам.
Те же мысли можно вычитать и из книги Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», написанной вскоре после войны.
И в окопах Сталинграда, на краю гибели, каждый рядовой, каждый младший командир вышел из-под гнета «верха» и стал человеком. Перед лицом смерти низы перестали бояться верхов. Люди сражались в окопах, освободившись от унизительного чувства ужаса перед террористическим аппаратом сталинского государства. На передовой они надеялись только на свой ум, сноровку, смелость, удачу… И этими мерками мерили и себя, и своих товарищей. И опять-таки они стали лучше. А как радостно чувствовать себя храбрецами, героями или «мать-Терезами»…
Нечто похожее происходило и в тылу.
Люди начали думать сами, работать не по приказу, а сами. Оценивать события не по чужим лекалам, а сами. Жить сами.
То же произошло и с сотрудниками нашей редакции.
Мы писали по собственному разумению. И решающей визой была виза заведующего редакцией, который придумал эту редакцию, эти дезы, эти темы для статей. Сам, сам, сам. Никто не лез к нам с проповедями, поучениями, пожеланиями, указаниями, инструкциями. Было голодно, холодно, мы уставали, спали на ходу. Но работали с упоением.
Необычными были условия работы. И совершенно необычным был наш зав, наш начальник. Он тоже совершенно неожиданно получил самостоятельность. Историю эту я точно не знаю, но есть две версии. Вроде бы Меламид перевел с листа речь Гитлера после нападения на Советский Союз Сталину – он переводил фразу за фразой, а Хавинсон, тогдашний глава ТАССа, повторял его слова в телефонную трубку. И вторая версия: Меламид написал записку о бегстве Гесса в Англию, и записку эту передали Сталину.
Да, необычный начальник. Наш зав даже не успел стать членом партии. Числился всего-навсего кандидатом. Был молод, наивен, оригинален, имел на все свою точку зрения.
…Прошло много лет… Меламид уже давно был моим мужем. И обида на то, что редакцию контрпропаганды и дезинформации закрыли, а сотрудников разбросали кого куда, постепенно забылась. Он уже мог вспоминать те времена без особой горечи. И, видимо, в одной из поездок в Западную Германию – а муж в конце 50-х ездил туда часто – рассказал о моей «полемике» с Геббельсом. И как раз в то время из ФРГ (Федеративная Республика Германия, в отличие от ГДР, Германской Демократической Республики) приехала первая писательская делегация. Ее главой был Хагельштанге95, а ее членом – Генрих Бёлль, известный у нас в стране и любимый интеллигенцией. Первая книжка Бёлля в моем переводе уже вышла в Москве и имела грандиозный успех96.
Писателей встретили пышно и радушно.
И вот на одном из сборищ, где был Паустовский и еще несколько человек, в том числе и Копелев, зашла речь о войне в эфире и о давнем эпизоде, о моей, такой давней полемике с Геббельсом. Муж пытался вспомнить, как меня назвал гитлеровский министр пропаганды. Я тоже вспоминала, но только на русском. «Кремлевский, кремлевская…» И тут встрял Копелев: «Ну конечно, “Kremlhexe”, – как же еще тебя назвать? “Кремлевская ведьма”. Ведьма ты и есть».
Все присутствующие весело рассмеялись. Но на том дело не кончилось.
Хагельштанге, несколько удивленный и задетый популярностью Бёлля в СССР и обиженный тем, что остался в тени, написал толстую книгу под названием97 «Кукла в кукле» – иными словами, «Матрешка». В книге он рассказал, между прочим, и о том, что познакомился с «кремлевской ведьмой», которая оказалась вполне безобидной дамой.
Запал в душу разговор о «кремлевской ведьме» и Борису Слуцкому. На приемной комиссии, где меня принимали в Союз писателей, Слуцкий это обнародовал: дескать, Черная не только переводчица, но и с самим Геббельсом была в полемике. Принимали меня в Союз в начале 60-х, когда военные годы были для писателей как для нынешних людей «лихие 90-е»… И Геббельс казался им отнюдь не абстрактной фигурой. Даже зрительно они его себе представляли по… карикатурам Бориса Ефимова.
Так что званием «кремлевская ведьма» я могла тогда гордиться.
Глава VI. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
К 70 годам мой муж как-то сразу постарел, превратился в маленького старичка – он и был совсем небольшого роста, а к старости и вовсе усох. Его блестящие глаза потускнели, черные как смоль волосы поредели и побелели. Быстрые движения замедлились. Иногда ночью в спальне, когда я смотрела на соседнюю кровать, мне казалось в темноте, что там лежит одно только скомканное одеяло, а его нет. Так тихо он дышал. Только в присутствии гостей, особенно коллег-немцев из ФРГ, говоря о политике, он оживлялся, и сквозь усталые черты я видела его таким, каким он был когда-то: ярким, талантливым, темпераментным, без конца развивающим свои оригинальные идеи.
В отличие от мужа я расплылась: из тонюсенькой девчонки превратилась в грузную мамашу; в дореволюционных романах таких мамаш называли «сырыми». Когда я была хорошо одета, причесана, в меру намазана, во мне еще проступали черты «былой красоты», хотя особой красоты никогда не было. Но что-то величественное а 1а Екатерина II, наверное, появлялось. Стоит, однако, дать себе хотя бы маленькую поблажку, и вот уж по квартире бродит ворчливая, всегда чем-то озабоченная тетка.
Люди, которые знали нас только в 80-х, а таких было большинство, – школьных и институтских друзей к тому времени почти не осталось, – эти люди просто не могли представить себе, какие страсти бушевали в наших душах. Для них сама мысль об этом смешна. Видя нас всегда вместе – в последние десять лет жизни муж боялся выходить без меня, – они думали: вот образцовая благополучная пара, современные Филемон и Бавкида. А между тем это далеко не так, ни благополучными, ни образцовыми мы, увы, никогда не были.
Теперь начало нашей совместной жизни хранится только в моей памяти… наша любовь в годы войны в холодной и голодной Москве, бесконечные объяснения, ссоры, ревность, полная бездомность, мои слезы, мои и мужа разводы…
Только я помню двухэтажную комнату с кое-как сляпанными антресолями в ужасной коммуналке, куда Д.Е. переехал из трехкомнатной отдельной квартиры первой жены (господи, большего богатства, чем трехкомнатная квартира в номенклатурном доме на Сивцевом Вражке, вообще не существовало в ту пору!).
Только я помню крохотный комочек в жутко уродливом байковом одеяле в коляске – Алика, ненаглядного Алика, и тысячу терзаний и страхов за него – все это уже никому не интересно… Даже Алику. У него уже сорок лет своя семья, заботы, страхи за собственного сына!
Первые несколько лет были, безусловно, самыми трудными, а может быть, и самыми счастливыми для нас двоих.
И дело не только в нашей любви. Как-никак, война на исходе. Победа не за горами. И нам казалось, что наконец-то для нас настанут светлые времена. Правда, мой умный муж предупреждал, что в будущем все отнюдь не так лучезарно.
Но кто мог знать, что за восемь лет, которые еще останутся у Сталина, он превратит жизнь людей в ад. Ленинградское дело, гонения на интеллигенцию – постановление об Ахматовой и Зощенко. Новая волна репрессий, арестов людей, которые по вине бездарных командиров и самого Сталина оказались в окружении. Еще большее закрепощение крестьян в нищих колхозах – ведь миллионы из них были некоторое время на территориях, оккупированных нацистским вермахтом…
Наконец, государственный антисемитизм, повсеместные увольнения евреев, «дело врачей»…
Но кто это мог предвидеть тогда, в первые два-три года нашей совместной жизни?
Впрочем, вернемся к истокам.
Все началось с тривиального служебного романа. Муж был начальником, я – подчиненной. Я сочиняла статьи, он их визировал. Он был женат, я была замужем. Я приехала с фронта, он имел бронь и жил в Москве с молодой женой, вернувшейся из эвакуации в Куйбышеве с грудным ребенком.
В тот 1942 военный год, прибыв в Москву из 7-го отдела Северо-Западного фронта, я чувствовала себя не то чтобы старой, но совершенно бесполой. Сочла, что у меня все давно позади… Мол, я уже начудила достаточно. Свой лимит исчерпала. Пусть другие любят, ревнуют, плачут, радуются. Я свободна и счастлива своей свободой.
Такое мое умонастроение продолжалось довольно долго.
Вся наша редакция давно сообразила, что Меламид, или Тэк, – этой гимназической кличкой его звали не только друзья, но и многие тассовцы, ведь ему было лет 25–26, – неравнодушен ко мне. Одна я этого не замечала, «не видела в упор» (сленг того времени).
Но вот неизбежное свершилось. Начался наш роман, и я внезапно осознала: все, что было раньше, – чепуха, дань молодости. Я полюбила в первый раз в жизни по-настоящему. И притом полюбила чужого мужа. Да еще мужа бывшей сокурсницы по ИФЛИ и хорошей знакомой.
Сказать, что я пассивно принимала его любовь, его ухаживания, – чистая неправда. Я хотела, чтобы он ушел от жены, принадлежал мне, и только мне. Не слышала никаких резонов. Не желала понять, почему он медлит, почему не в силах сразу разрубить все узлы. Не останавливало меня даже то, что на кону была не только его жена, но и их дочь, малышка Ася, которая, как оказалось, с младенчества больна тяжелой, неизлечимой болезнью – костным туберкулезом.
Единственное, что я сделала, чтобы не быть в ложном положении, – сразу же дала понять Ганне, что у нас с ее мужем любовь. Я знала, что она шарит по мужниным карманам, и сунула в верхний кармашек его пиджака свою фотокарточку.
Роман с Д.Е., то есть с начальником, был для меня мучителен. Мне все время казалось, что я – страдающая сторона. Еще бы! Я либо сидела в ТАССе до глубокой ночи и отвечала Геббельсу, Дитмару, Фриче или еще какому-нибудь нацистскому гаду, либо плелась к подруге, стараясь казаться веселой и веселить других, либо шла к себе домой в пустое, нетопленое логово. А он отправлялся в уютную квартиру (как сказано, дом на Сивцевом Вражке, где жила Ганна, был домом для номенклатуры, там было относительно тепло, светло и горел газ!). И в этой квартире его ждали и ужин, и чистая постель, и любящая жена…
Адская ревность мучила и его. Он ревновал меня к мужу на фронте, к бывшему любовнику тоже на фронте, ко всем друзьям, которые приезжали с фронта и хотели повидаться со мной…
Каждая минута, которую мы были не вместе, оборачивалась пыткой для нас обоих.
А где мы могли быть вместе?
У него в кабинете, в который ломились люди день и ночь?
В коммуналках моих подруг, от которых нам давали ключи, но где мы боялись каждого шороха? А вдруг мать, отец, сестра придут раньше, чем предполагалось? А вдруг зайдет бабушка?
В комнате у Раи Лерт на Бронной близко от ТАССа? Но это было неприятно мне, а главное – ему. Ведь Лерт была его подчиненной.
Однажды мы влезли на второй этаж особняка в коммуналку к отцу Тэка Ефиму Александровичу, который дома заведомо не ночевал. Влезли на старинные каменные ворота со львами. Потом прошли поодиночке по довольно длинному узкому карнизу (держаться было не за что), Тэк чудом протиснулся в открытую форточку и распахнул окно. Тогда и я тоже оказалась в квартире. А потом мы бросили веревку на землю, и к веревке случайные прохожие – было уже часов семь утра – привязали наши портфели и зааплодировали нам! Почему-то чужие люди всё поняли. Но в доме была такая пыль, грязь – Ефим Александрович давно жил у любовницы, а его жена, больная мать Тэка, была в эвакуации.
Теперь даже страшно представить себе, как мы взбирались на высокий второй этаж, как шли по узкому карнизу. Видно, правда, бог хранит влюбленных…
Но вот то, что казалось невозможным, произошло. Тэк ушел из семьи ко мне.
И стали мы жить не только «невенчанные» (никто, даже родные, нас на брак не благословили), но и, естественно, нерасписанные: ведь у обоих стоял штамп в паспорте, то есть, как уже было отмечено, у Тэка имелись в Москве жена и дочь, а я числилась замужней дамой. К тому же мой муж был в действующей армии, то есть доблестный воин, хотя уже, видимо, на пути к веселому городу Вене.
Когда я написала «невенчанные», то внезапно вспомнила церковный обряд и его примету – молодые в церкви всходят на ковер, и кто ступит первым, тому и верховодить в доме.








