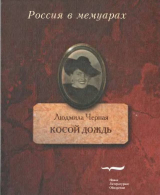
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 47 страниц)
Он появлялся то у нас, то у Беспалова, то у других общих знакомых. Писал и в «Новом времени», и в «Литгазете», и в редакциях Радиокомитета.
Только в 1988 году в латвийском журнале «Даугава», который в Москве воспринимался чуть ли не как «тамиздат», известный международник Виталий Кобыш141 и сам Семен Николаевич попытались рассказать о прошлом Эрнста Генри.
Естественно, ни о какой полной биографии речи не шло. Где родился? Прочерк. Кто были отец с матерью? Прочерк. Где учился? Опять прочерк. Из биографических данных Кобыш приводит только одну: год рождения 1904-й. И тут же рассказывает, что в 1923 году, побывав в Турции, Ростовский написал книгу «Анкара». Иными словами, уже был послан в Турцию, уже успел разобраться с кемалийской революцией 1918 года и с политикой ее главы Ататюрка. И издал в Германии свою книгу. И все это в 19 лет. Вернее, в 18. Все-таки год ушел, наверное, на написание «Анкары».
Но еще невероятнее те биографические сведения, которые приводит в «Даугаве» сам Семен Николаевич. Оказывается, уже 1 февраля 1933 года, то есть на третий день после прихода к власти Гитлера, он «случайно» покидает Германию и «по семейным обстоятельствам» появляется… в Лондоне. А в Лондоне с места в карьер знакомится и с видными лейбористами, и с известными журналистами. После чего от этих «случайных» знакомых получает заказ написать книги «Гитлер над Европой» и «Гитлер над Россией». И книги эти «случайно» сразу же переводят с немецкого на английский, с английского на датский, французский и русский.
Единственное, что соответствует истине, – это то, что обе книги триумфально шествуют по миру. Книги и впрямь замечательные…
Ну а как же протекает жизнь самого Семена Николаевича, который прилетел в Англию по «семейным обстоятельствам»? Не так-то спокойно. За ним почему-то охотятся и английская разведка, и гестапо. «Обо мне в Англии, и в других странах тогда, – пишет Ростовский, – распускались разные слухи. Меня называли то немцем, то англичанином, то скрытым “коммунистическим агентом”, намекая, что я стремлюсь “отравить англо-германские отношения”. Приходилось кочевать по знакомым, менять платье и походку, прибегать ко всяким не очень приятным ухищрениям…»
Словом, понятно, что Ростовский был функционером невидимого, коминтерновского фронта. Но нам, простым смертным, обо всем этом знать не положено. Мы и не знали. Ничего не знали о прошлом С.Н. Ростовского. Я могу лишь описать наружность Семена Николаевича. По национальности он был еврей. Но еврейских черт в нем не замечалось. Он был не высокого и не маленького роста. Не толстый и не худой. Внешность у него была среднеевропейская, что ли. Раньше про таких людей говорили: «Типичный клерк». Но клерков в России не видели ни типичных, ни нетипичных. Ростовский был бы недурен, если бы не отчаянная лысина. Однако черные усики, живые глаза и улыбка делали его лицо вполне приятным. Он был крепыш, никогда не болел – плавал в ледяной воде с другими чудаками-моржами. Дожил до глубокой старости. Умер он на восемьдесят седьмом году жизни. Впрочем, и за это не ручаюсь. У меня долго хранилась газетная вырезка – его фотография с сыном, Ростовскому лет восемьдесят, сыну – 8 лет.
Про Семена Николаевича говорили, что он скуповат. Но скупость эта легко объяснима: во-первых, Ростовский прожил много лет за границей и привык считать деньги. Во-вторых, он долго жил один, а холостяки, по моим наблюдениям, всегда скуповаты.
Но главным отличием этого человека от многих из нас была его необыкновенная работоспособность и то, что он по-английски говорил, как англичанин, а по-немецки – как немец.
Кроме политики, Семена Николаевича ничего не интересовало, исключение он делал лишь для крашеных пергидролем блондинок, на которых время от времени женился. Однако по-настоящему он был предан не женщинам и не друзьям, не суетной жизни, а политике. Это объясняет, на мой взгляд, многое в его поведении. Например, я всегда удивлялась, почему Ростовский пользуется в России псевдонимом Генри. У нас в XX веке был необычайно знаменит американский писатель О’Генри. Думаю, Ростовский ничего не знал об американце О’Генри. И уж, во всяком случае, не читал его. Приверженностью к высокой, так сказать глобальной, политике объясняется, возможно, и необыкновенная наивность Семена Николаевича в обыденной жизни. В доказательство расскажу об одном случае…
Появился в России Семен Николаевич, видимо, во время войны или сразу после нее. Как-то его переправили в Москву из-за границы, кажется из Лондона. Однако о жилье надо было позаботиться самому. Пришлось снимать комнату. В послевоенной Москве с ее чудовищными коммуналками найти съемную комнату было почти так же трудно, как выиграть по трамвайному билету миллион. И вдруг выясняется, что наш Семен Николаевич после многих неудач и проживания у сестры снял даже не комнату, а отдельную двухкомнатную квартиру в переулке у Арбатской площади. Мило улыбаясь, он пригласил к себе нас с мужем, а также Н.С. Сергееву и ее сестру, с которыми, как и мы, был в дружбе. Случилось это, по-моему, в 1952 году, когда по всем параметрам Ростовский должен был бы уже давно сидеть в тюрьме. Еврей… Долго жил за границей… В штате не работает… В высшей степени подозрительная личность.
Квартира, которую снимал Семен Николаевич, эдакое уютное, по тем временам богато обставленное «гнездышко», буквально вопияла: я, «гнездышко», принадлежу МГБ, так тогда называлось это прекрасное учреждение. Вопияли и хозяйки – простые девахи, одетые «по-заграничному»… На журнальном столике – последний писк моды в ту пору – небрежно брошены несколько номеров журнала «Америка», который советские граждане читали разве что в спецхране… Видя, что мы косимся на эти журналы, девахи непринужденно спросили, посещаем ли мы в роли дорогих гостей американское посольство, где «Америку» охотно дарят? Посещать посольство США советским гражданам было тогда не менее опасно, нежели совершать подкоп под Кремль.
Такова была степень «конспирации» у прелестных дам. На их память сотрудники Лубянки тоже не очень надеялись, поэтому около своих приборов мы увидели записочки с нашими фамилиями… Все это повергло нас четверых в панику. Но ведь Ростовский был не глупее нас! Однако для того, чтобы он прозрел, понадобилась одиночка на Лубянке. Только там Семен Николаевич понял, что в «гнездышке» на Арбате стоял микрофон, – ему предъявили магнитофонные записи его разговоров…
Но ведь именно Сталин послал в свое время Хентова – Ростовского – Генри подрывать мировой империализм в его важнейших цитаделях – Германии и Англии. Почему же Ростовский стал врагом? Почему за ним стали охотиться крашеные девахи-гэбистки? Этого мне никогда не понять.
Сосредоточусь на личности Ростовского, он же Генри, он же Хентов. Рассказав о своем знакомстве с ним и сообщив кое-какие факты из его биографии, я вижу, что не рассказала ровным счетом ничего. Ни усики, ни любовь к крашеным блондинкам, ни скупость, ни даже доверчивость не затрагивают внутренней сущности этого человека.
Генри был коминтерновцем. Даже антисталинизм Генри был особый, коминтерновский. Генри ненавидел Сталина за то, что тот нанес удар рабочему движению, сперва заключив пакт с Гитлером, а потом распустив Коминтерн, вдобавок физически уничтожив многих его борцов. Однако сама политика «экспорта революции», в которой был повинен Коминтерн, его не смущала. Не смущала и имперская, захватническая политика Сталина. Ведь Сталин огнем и мечом насаждал… коммунизм. В одном из своих диссидентских писем Генри писал, что Сталин мог бы дойти до… Парижа, но не использовал этот «уникальный шанс»…
Коминтерн в конце XX века как-то забыли. Занятые борьбой со своей родной партией большевиков, граждане запамятовали, что она кроме всего прочего породила и десятилетиями лелеяла и холила свое любимое детище Коминтерн.
Помню, в детстве о Коминтерне ходил такой «еврейский» анекдот:
«Вопрос: А почему на последнем конгрессе Коминтерна не было ни одного делегата от Конго?
Ответ: Ни один еврей не захотел вставить себе в нос серьгу».
Разгон Коминтерна в 1943 году был показушным жестом. Когда после окончания войны Сталин наложил лапу на страны Восточной Европы и Балканы, то оказалось, что ему не надо искать кадры правителей для этих стран. Кадры со знанием соответствующих иностранных языков сидели у него под боком на Тверской (улице Горького) в гостинице «Люкс». Старых коминтерновцев импортировали из Москвы обратно в Европу – их везли поездами и самолетами, кое-кого, как моего друга болгарина Петрова, сбрасывали с парашютами. В надлежащее время они были на месте.
А в 50-х появился Коминформ, незаконнорожденный наследник Коминтерна, действовавший более аккуратно и тихо. И кадры Коминформа также выращивали в разных московских университетах и академиях, для которых строили шикарные дома наподобие Дворца пионеров. Кадры для Африки и Латинской Америки, для Кубы и Афганистана, для Юго-Восточной Азии и Арабского Востока…
Наивные иностранцы (см. повесть Бёлля «В долине грохочущих копыт») всегда рассматривали Коминтерн как некий идеологический центр коммунизма. Они ошибались! Коминтерн – это не идеология, это – организация. Спрут, щу-пальцы которого проникали во все страны мира, особенно в неблагополучные. И спрут этот кормился на нашей нищей земле, поглощая последние доллары.
Но это уже не мои наблюдения, а мои умозаключения. И здесь им не место. Семен Николаевич Ростовский был винтиком в этой всемирной организации. На Западе – агентом, у нас – публицистом. Притом он был честен и талантлив.
Мир праху твоему, старый коминтерновец Семен Николаевич…
5. Мишка из Коминтерна
Она называла себя Мишкой142. И уже в самом конце 50-х я ее не раз встречала во многих домах. Но близко мы познакомились с ней у соседей Жоры и Майи. Жора Федоров, иначе Георгий Борисович Федоров, и его жена Майя Рошаль, дочь двух видных сталинских кинорежиссеров Григория Рошаля и Веры Строевой, сами вполне достойны подробного описания143. Не менее достойна этого и их большая, сильно запущенная квартира, где всегда было полно народу, где с утра до ночи разговаривали и спорили, где двое хозяйских детей Вера и Миша жили каждый своей, совершенно отдельной жизнью. Так же как и мохнатый и грязновато-белый пудель. И где Жора и Майя являли собой образцовую, очень дружную и любящую семейную пару. Впрочем, об этой паре я уже вспоминала и еще буду вспоминать.
Среди разнообразных посетителей федоровской квартиры время от времени появлялся особо важный гость: то молодой, но уже известный художник-плакатист, то физик-атомщик, доктор наук. Однажды самым главным оказался несчастный Петя Якир, сын загубленного Сталиным полководца Ионы Якира, а однажды – молодой диссидент Делоне144. Потом многие из этих людей становились друзьями Жоры и Майи и постоянными гостями в их квартире. Так же как и Мишка, которая примерно полвека назад была с гордостью представлена мужу и мне Жорой Федоровым.
Протянув руку, она сказала: «Мишка», а ее муж – он всегда держался немного позади – произнес «Наум». У него, кстати, оказалась и фамилия: Славуцкий.
Здороваясь с Мишкой, я сказала, что мне, мол, неудобно называть даму Мишкой, нельзя ли узнать ее имя и отчество. Однако дама – а она была в летах – решительно отвергла мою просьбу. Все, мол, обращаются к ней как к Мишке. И Жора добавил, что Мишка очень знаменита, что она была узницей ГУЛАГа и что ее и в СССР, и в Германии знают и стар и млад.
Итак, Мишка. Про таких, как она, говорят: «Маленькая собачка до старости щенок». Мишка была очень маленького роста, худенькая, подвижная, с красным носиком, с живыми черными бусинками-глазами. Наверное, в молодости она походила на «мягкую игрушку». Отсюда и прозвище.
Однако в 60-х, повторяю, Мишка была уже старовата, хотя держалась молодцом. В отличие от большинства советских женщин, которые в пенсионном возрасте быстро опускались, ходили без зубов, седые и нечесаные, Мишка была по-западному ухоженна, с черными как смоль волосами, с хорошими вставными зубами и даже чересчур, на мой взгляд, модно одетая. Первое время меня раздражало Мишкино кокетство. Она беспрерывно кокетничала и с собственным мужем, и со всеми нами. Но потом я привыкла к ее ненатуральным улыбкам, ужимкам и капризному тону… А наши соседи по дому, Жора и Майя, в Мишке души не чаяли. Впрочем, я скоро убедилась, что в Мишке души не чаяло великое множество либеральных граждан. Круг ее общения все время расширялся. Бедный Наум, который день-деньской трудился, кажется, инженером на заводе, каждый вечер вел ее под ручку в очередные гости. Мишка распространялась по Москве со скоростью лесного пожара. И не только по Москве.
Как ни удивительно, но Мишкины фанаты не языком болтали, а активно помогали ей, работали на нее. Муж мой терпеть не мог исполнять чужие поручения. И я поразилась, когда он раза два приволок из ГДР тяжелые сумки с барахлом, собранным для Мишки ее немецкими друзьями.
С ГДР у Мишки была постоянная связь. Даже я как-то везла по ее просьбе шоколадные конфеты для неизвестной мне дамы из Восточного Берлина. А заграничными шмотками, которые муж и, видимо, не только муж таскали ей из Германии, Мишка распоряжалась вполне грамотно. Шмотки она передавала, к примеру, Ане, подруге Беспалова, приятеля мужа, а Аня распродавала их в издательстве, где числилась редактором. Аня была девушка простодушная и однажды стала отчитываться перед Мишкой в нашем присутствии, не обращая внимания на сердитые Мишкины жесты…
В середине 60-х Мишка наладила контакт и с ФРГ, то есть с капстраной. Кто-то из командировочных помог ей разыскать ее бывшего супруга Курта Мюллера, функционера германской компартии в 30-х годах.
Кроме всего прочего, это дало Мишке повод укорять Д.Е., моего мужа, за то, что не он связал ее с Мюллером. Мишка всех убедила, что, выполняя ее просьбы, люди делали одолжение не ей, а, напротив, она делала одолжение им…
Помню, как сокрушалась Катя Светлова, весьма достойная и милая женщина, в будущем теща Солженицына, отказавшаяся как-то раз подвезти Мишку на своей машине. Катя имела «Волгу» и сама ее водила, что было в ту пору не так распространено. И Мишка этой «Волгой» часто пользовалась, считая это само собой разумеющимся. Отказ Кати ее просто возмутил…
По-моему, большая часть там– и самиздатской литературы проходила через Мишку, и она распоряжалась ею по своему усмотрению. Это давало ей большую власть над нами. Ведь прочитать хорошую книгу «оттуда» и важные послания «отсюда» в те времена дорогого стоило.
В соответствии с этой властью Мишка и вела себя. Только-только я познакомила ее с западногерманским писателем Бёллем, которого усердно переводила, как Мишка стала чуть ли не главной фигурой в свите модного тогда Бёлля. Помню, что на встрече Бёлля в ресторане с известными молодыми поэтами было всего два тоста: один произнесла Белла Ахмадулина, второй – Мишка – Вильгельмина (так она представилась Бёллю).
Вообще-то говоря, интриги Мишка плела виртуозно. Коснулось это и меня.
Однажды Мишка специально направилась к нашему другу Дональду Маклэйну, чтобы сообщить ему какую-то гадость обо мне. Но Дональд, очень спокойный и вежливый, с виду даже флегматичный англичанин, разбушевался, прогнал Мишку и тут же позвонил Д.Е., чтобы предупредить его.
Однако про Мишкины интриги рассказывать довольно скучно. Тем более во многих случаях они были очень мелкие. К примеру, семья Мишкиных друзей оказалась на грани развода. Мишка тут же едет к обиженной жене и сообщает, что любовница ее супруга полный ноль и она, Мишка, удивлена тем, что супруг буквально «потерял голову». А потом бежит к потерявшему голову супругу и доводит до его сведения, что жена поносит неверного последними словами…
Намного интереснее продолжить рассказ о Мишкиных связях. Тем более что связи эти простирались очень далеко и были налажены не только с либерально мыслящими гражданами, но и с сильными мира сего. Обнаружила я это совершенно случайно.
На заре нашей дружбы я посетила заболевшую Мишку в кардиоцентре. 1 [опасть туда на лечение было сложно. Но я не удивилась, что Мишка лежит именно в кардиоцентре. Уже с первых минут встречи я поняла, что явилась некстати. Мишка с трудом цедила слова. Я было подумала, что это связано с ее болезнью. Но скоро Мишка призналась, что ждет посетительницу из ЦК КПСС и боится, не ляпну ли я что-нибудь крамольное в ее присутствии.
Я тут же ушла. А зря. Потом жалела. Надо было послушать, что «диссидентка» Мишка пела сотруднице Центрального Комитета КПСС. Конечно, Мишка не была диссиденткой, но в то время таких псевдодиссидентов развелось очень много. С диссидентами было тогда как с грибами: не поймешь, где съедобный гриб, где – ядовитый.
В 1974 году жестоко разогнали несанкционированную выставку художников на пустыре в Беляеве. Выставку, которая вошла в историю как «бульдозерная». Среди разгонявших выставку был, естественно, секретарь Черемушкинского райкома КПСС по фамилии Чаплин145. Впрочем, в данном случае не обошлось и без центрального аппарата КГБ. Все равно: секретарь райкома являлся хозяином своего района. В его ведении были и идеология, и бульдозеры.
Как же я удивилась, что этот самый секретарь райкома является Мишкиным другом-благодетелем. Предоставил ей и мужу Науму двухкомнатную квартиру.
Рассказывая о прошлом, всегда думаешь, что молодежь не поймет реалий той жизни. Но когда речь идет о квартирном вопросе – все ясно и старикам и молодежи. Как при советской власти, так и сейчас получение отдельной квартиры в Москве – абсолютное счастье.
С бывшими узниками ГУЛАГа дело обстояло несколько иначе. Думаю, для этих людей счастье обрести свободу было столь велико, что жилье их не так уж и волновало.
Насколько я знаю, бывшие сталинские зэки получали тогда от государства по комнате в новом доме где-нибудь на окраине, и притом в малонаселенной квартире. Квартиры в новых домах были либо однокомнатные, либо двух– или трехкомнатные.
Мишка и Наум получили одну комнату в двухкомнатной квартире на Профсоюзной улице рядом с метро. Во второй комнате жила тихая женщина, видимо тоже прошедшая через лагерный ад. Поначалу Мишка всячески подчеркивала свою к ней приязнь. Потом отношения испортились. Да это и немудрено. Телефон в квартире на Профсоюзной звонил, как на вокзале. К Мишке косяком шли посетители, она то и дело устраивала «рауты». Я побывала на двух таких раутах – на одном замечательная женщина Евгения Семеновна Гинзбург читала новые главы из «Крутого маршрута», на другом Мишка намеревалась «угостить» знакомых Натальей Светловой, которая вот-вот должна была стать Натальей Солженицыной. Но Наталья, увы, не пришла. Пришла всего-навсего ее мать, милейшая Катя Светлова.
Одним словом, Мишке в квартире стало тесно. Тут и пригодились связи с сильными мира сего. Тот самый секретарь райкома, что вскоре разгонит выставку в Беляеве, переселил Мишкину соседку, бывшую лагерницу, а Мишке отдал вторую комнату. У Мишки теперь была двухкомнатная квартира, которую она превратила в гнездышко-рай с нейлоновым (в розах) покрывалом из «Березки» на двуспальной кровати.
Однако даже отдельная квартира еще не была в ту пору высшей степенью благосостояния для советского обывателя. Недоставало дачи. Не «шести соток», а именно дачи с солидным участком.
Дача и участок возникли у Мишки, если не ошибаюсь, в 70-х годах. Но за несколько лет до этого у нее вдруг появилась «тетя», очень пожилая, молчаливая, скромно одетая женщина. Мы с моей подругой Мухой посмеивались, ибо только начисто лишенная чувства юмора Мишка могла называть старуху «своей тетей». Ведь самой расхожей хохмой в ту пору была реплика: «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Итак, появилась «тетя» Анна Романовна, по фамилии Мартынова. Представляя ее, Мишка, понизив голос, сообщала, что «тетя» – вдова того самого Мартынова. Я этого Александра Самойловича Мартынова (Пикера) разыскала в Малой советской энциклопедии. Он еще успел побывать народовольцем, потом стал «одним из вождей меньшевизма», а в 1923 году «эволюционировал в сторону большевизма» и был принят в члены ВКП(б). Умер он в 1935 году. Мишка была его племянницей, о чем я узнала в процессе редактирования этой книги.
И вот вдову Мартынова Мишка начала усиленно опекать – брала ее с собой в гости, ездила с ней на дачу, принадлежащую «тете». Так продолжалось, по-моему, несколько лет. А потом выяснилось, что собственницей дачи в поселке «Старый большевик» стала Мишка. По тем временам иметь «по Казанке», совсем недалеко от Москвы, добротный бревенчатый дом с террасой и вполне хороший кусок земли было неслыханной роскошью. А поскольку Наум был человек рукастый и хозяйственный, то дачка прямо-таки засияла. Помню, что, посетив Мишку и Наума в их поместье – Мишкина дача находилась недалеко от дачи наших друзей Сергеевых, – мы с мужем поразились, как умело эта пара распорядилась вновь приобретенной собственностью. Можно было только порадоваться за них. Особенно за Наума. Он, мне кажется, был не приспособлен к светской жизни, которую вела в Москве Мишка.
Одна беда – я обладаю совершенно дурацкой, чисто женской памятью: нужное забываю, ненужное – помню. В тот раз на даче у Мишки я вдруг вспомнила, что у «тети», то есть у старухи Мартыновой, была дочь (может, приемная). И огорошила Мишку вопросом: «Почему дача досталась вам, а не мартыновской дочери?»
Ответа на свой вопрос я не получила и настаивать не стала. Опять же по причине моей памяти вспомнила Мишкину фразу о том, что «тетина» дочь не очень хорошая женщина, ибо «не разделяет прогрессивных взглядов».
Ясно было, что недостойную дочь лишили наследства.
Возможно, именно на даче по Казанке и закончилась наша с Мишкой дружба. Во всяком случае, в долгие годы болезни мужа, а потом и в бурных 90-х Мишка никак не присутствовала в моей жизни. И слава богу. Из написанного видно, что она была мне противопоказана. Да и неинтересна. Я не услышала от нее ни одной оригинальной мысли, ни одной запоминающейся фразы. Даже смешного анекдота. Мне кажется, она ничего не читала, не читала даже книг и рукописей, которые проходили через ее руки. Все, что Мишка говорила и по-русски, и по-немецки, было до ужаса банально.
В 2005 году мне сказали, что Мишка умерла. Я проверила это, позвонив Мишкиному фанату Марлену Кораллову146. Он подтвердил, сказав, что Мишка скончалась в возрасте 100 лет. И посетовал, что последние годы жизни они с Наумом провели в доме для престарелых. Правда, в дорогом. В таких домах я бывала в Германии. И сказала Марлену: мол, можно только позавидовать той спокойной и комфортной жизни, какую предоставляют эти дома. А сама подумала, что пребывание в дорогом доме для престарелых на Западе стоит огромных денег. Стало быть, кто-то эти деньги за Мишку и Наума платил.
Тут пора бы и закончить рассказ о Мишке из Коминтерна. Но вот с некоторым опозданием я прочла посмертную книгу Василия Аксенова «Таинственная страсть», «роман о шестидесятниках», и… наткнулась на Мишку, изображенную писателем в кульминационный момент ее деятельности.
Речь идет, видимо, о 1990 годе, когда Аксенов закончил роман «Ожог». В книге роман назван «Вкус огня», самого себя Аксенов переименовал в Ваксо-на, мать Евгению Гинзбург в Женю Гринбург, Беллу Ахмадулину в Нэллу Аххо, Евтушенко – в Яна Тушинского. Однако Мишка фигурирует под именем Мишка и упомянута даже ее фамилия по последнему мужу – Славуцкая… И имя, которое она сообщала иностранцам, – Вильгельмина.
О себе, Аксенове – Ваксоне, писатель пишет в романе в третьем лице. Далее я просто цитирую:
«Собрав все экземпляры (“Ожога”. – Л.Ч.) и завернув каждый в непрозрачный пластик, он (Аксенов. – Л.Ч.) стал думать о том, как переправить один экземпляр в безопасное место за бугор.
…Смешно говорить о почте. Не смешно размышлять о диппочте. Однако нести все “нетленки” в посольство – это очень и очень онсапо (опасно. – Л.Ч.). Он думал, думал и наконец хлопнул себя по лбу: он отнесет этот вес к Мишке Славуцкой!
Названная особа, вообще-то, была Вильгельминой. Однако за время ее советских мытарств она превратилась в маленькую быстроногую Мишку. Вот уж кому можно было довериться без сомнений, так это ей. Она была сокамерницей, а потом и солагерницей матери Жени Гринбург: мрачный набор первых месяцев 1937-го. Происходила она из интеллигентской берлинской среды и в молодые годы вполне естественно примкнула к Коминтерну. Когда власть в Германии взяли наци, многие комми бросились спасаться на лучезарный Восток…»
Ну и ну! Как хорошо усвоил «Ваксон» школьные уроки обществоведения, на которых все на свете перевиралось. Какая такая интеллигенция в Веймарской республике примкнула к Коминтерну, да еще «вполне естественно»? Тогдашняя немецкая интеллигенция была левой, даже ультралевой. Но это вовсе не значило, что она вступила в компартию, стала «комми». И уж никакого отношения интеллигенция не имела к Коминтерну, ленинско-сталинскому детищу. Когда Гитлер пришел к власти, левая интеллигенция бросилась не на «лучезарный Восток», а на Запад, в США, в Южную Америку, только не в СССР. Пусть мне назовут хоть одного известного немецкого писателя, который эмигрировал в Россию! Художника! Актера! Музыканта! Даже Бертольт Брехт, даже Анна Зегерс не захотели спасать свою жизнь в стране «победившего социализма».
Что касается «маленькой быстроногой Мишки», – она все же называла себя не мышкой и не мошкой, а Мишкой, а Мишка, как известно, не быстроног, а вовсе косолап, – то эта Мишка – Вильгельмина по определению не могла быть «берлинской». И немцы, и евреи-коминтерновцы родом из Берлина, прожив десятки лет в Москве, говорили по-русски еле-еле, с чудовищным акцентом. Вильгельмина (сомневаюсь, что это было ее настоящее имя) была, видимо, уроженкой Латвии, маленькой страны, где одинаково свободно говорили и по-русски, и по-немецки.
И, наконец, последнее: ваксоновскую мать Евгению Семеновну Гинзбург я знала, это была умнейшая женщина (и талантливейшая), к Мишке она относилась чрезвычайно скептически. И я очень сомневаюсь, что Евгения Семеновна посоветовала бы тащить рукопись «Ожога» на Профсоюзную. Но «Ваксон» пошел к Мишке в 1990 году, а Евгения Семеновна умерла в 1987-м…
Однако на этих страницах речь не об Аксенове и не о его матери Евгении Гинзбург. Поэтому цитирую дальше рассказ Аксенова о Мишке.
Ей «удалось уцелеть (лагернице Мишке. – Л.Ч.). После Сталина Мишка и ее колымский муж Наум получили полный пакет реабилитации, включая партийные пенсии и квартиру в Москве на Профсоюзной улице.
Эта маленькая жилплощадь вскоре благодаря Мишкину легкому характеру и великолепному двуязычию превратилась в своего рода международный клуб. (лода в сопровождении Льва Копелиовича и Валли Орловой (Льва Копелева и Раисы Орловой. – Л.Ч.) приходил Нобелевский лауреат Генрих Бёлль. Однажды заехал с гитарой молодой бард из ГДР Вольф Бирман.
Вот именно к этой бывшей зэчке, а ныне хозяйке московского салона, приехал со своим бумажным багажом злокозненный Вакса. Там уже собирались гости. Разноязыкий говор доносился из гостиной. Вдвоем с хозяйкой они уединились на кухне, и он изложил ей свою проблему: готов новый суперроман, стопроцентно непечатная в СССР “нетленка”, опасно или, читая наоборот, онсапо, нужно переправить его за бугор, ты можешь это сделать, Мишка?
“Ваксик, на ловца и зверь бежит! Сиди здесь, я вас сейчас познакомлю”.
Она быстро процокала каблучками в гостиную и почти сразу вернулась со “зверем”. Им оказалась Шанталь Диттерних, молоденькая и такая же шустрая, как Мишка, – пресс-атташе одной нейтральной страны. На все его вопросы она отвечала односложно, но как-то духоподъемно и убедительно: “Ноу проблем!”».
В конце вечера «Ваксон и Диттерних вышли в темноватый двор многоквартирного дома…
Среди затрапезного советского автотранспорта выделялся свежестью ярко-желтый “фольксваген”. Она пригласила его в эту машину. Там он передал ей тяжелую папку с написанным на ней адресом калифорнийского адвоката. <…>
Ё, неужели он (роман. – Л.Ч.) доплывет, долетит, доползет по адресу? Неужели пробьется со всей ордой своих героев, с аритмией своих времен, с остранением своих пейзажей и замедлением стремительных сцен? Диттерних вела себя с такой уверенностью, как будто она ежедневно перетаскивала через границу постмодернистские романы отвержения. Во всяком случае, вполне очевидно, что она это делает не в первый раз. Как жительница “свободного мира”, да еще и дипломат нейтральной страны, она, должно быть, считает это своим вкладом в борьбу советских крепостных за свое освобождение. Для нас – это огромное, невероятно опасное дело, для нее – просто легкая авантюра в реалистическом шпионском фильме; самое большее, чем она рискует, – это аккредитация в Советском Союзе…»
Очень хочется задать вопрос: а чем рисковали шустрая Мишка и ее салон? Для нее это «легкая авантюра» или огромное, невероятно опасное дело?
Удивительно, как Мишкин дом не вызвал у Аксенова подозрений.
Чтобы это понять, как это могло случиться, нужно прочесть аксеновскую исповедальную книгу – «Таинственная страсть». Талантливый Аксенов и его талантливые друзья настолько заигрались в ту пору, настолько возомнили о себе и настолько оторвались от жизни простых людей в СССР, что потеряли всякий разум.
На этом закончу. Прибавлю только, что в мемуарах одной немецкой коммунистки, которая встречалась с Мишкой, кажется, в Бутырках в 1938 году, шла сноска. Цитирую ее по памяти: «Жена Мюллера оказалась агентом НКВД». Страничку с этой сноской мой муж хранил очень долго. Я ее куда-то засунула. И даже забыла фамилию немецкой коммунистки…
6. Дональд Маклэйн
К сожалению, советская власть много десятилетий не показывала мне фильмы о Джеймсе Бонде как идеологически вредные. Я увидела агента 007 впервые на телеэкране только в 70 с лишним лет. Согласитесь, в этом возрасте трудно оценить все его достоинства.
А наш «родной» супершпион Штирлиц вызывал во мне стойкое неприятие. Все-таки, когда смотришь, как Бонд в отличном костюме, с безупречной прической сражается с крокодилами, – это смешно. Вся бондиада пронизана юмором.:)попея же со Штирлицем сделана с убийственной, чисто совковой серьезностью. Бонд бегает, прыгает, падает, вскакивает, дерется, стреляет, целуется. Штирлиц же все время размышляет. Не разведчик, а мыслитель.
Но бог с ним, с нашим малоподвижным Штирлицем, зато с выраженьем на лице.
Очевидно, потребность в героях-шпионах так велика, что и «Семнадцать мгновений весны» (это надо же придумать такое название!) был, есть и будет у нас культовым фильмом. И все его смотрят с удовольствием…








