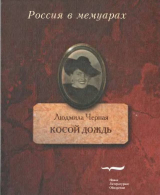
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 47 страниц)
Мне жизнь в 16-й школе облегчило одно обстоятельство: меня сочли чуть ли не двойником девочки по имени Мака. Эта Мака, проучившись в школе чуть ли не с первого класса, ушла не то в ФЗУ, не то в техникум по семейным обстоятельствам, то есть по бедности. Маку в школе любили и очень жалели о ее решении. И вдруг приходит девочка, как две капли воды похожая на их драгоценную Маку. Все спрашивали меня, в каком родстве я с Макой, даже преподаватели. Да и Маке ее приятельницы все уши прожужжали о моем с ней сходстве. Так продолжалось несколько месяцев. Но однажды Мака выбралась в школу посмотреть на меня. Мы стоим друг против друга, вылупив глаза, и ничего не понимаем. У меня волосы русые, а Мака темная шатенка, ее грива отливает рыжиной. Мака – смуглая, я – светлокожая, с веснушками. Ни одной своей черты я в лице Маки не нахожу. Мака тоже недоумевает. Хорошо, что мы друг другу в общем понравились.
Впоследствии мне часто говорили, что я на кого-то похожа. Много раз обознавались: подходили на улице, в трамвае с возгласом: «Наконец-то я тебя встретил (встретила)!» Потом извинялись.
Шура двойников не имела, она была очень броская, заметная: брюнетка с зелеными глазами, с острыми белыми зубками. Какая-то немножко чересчур. Чересчур бойкая, чересчур быстрая на язык, чересчур шумная. Ты еще рот не успела открыть, а Шура уже сама отвечает на свой же вопрос и громко хохочет.
Довольно скоро мы с ней подружились. И она стала моей самой главной подругой. Но ни в моем патриархальном церковном дворе в Хохловском переулке, ни в моей первой школе ее нельзя было себе представить – она была как бы «из другой оперы». Окончательно убедилась я в этом, познакомившись с Шуриными родителями: они приехали в Москву, чтобы устроить дочку. Устроили они ее в одной из комнат трехкомнатной квартиры в новом доме напротив 16-й школы. Папа Шуры, теперь я это понимаю, был, как тогда говорили, из «сталинской когорты». Этот папа запомнился мне: огромный, толстый мужчина, суровый на вид. Звали его Лазарь23. Шура была Александра Лазаревна Ривина. Мама Шуры показалась мне очень красивой, хотя и сильно расплывшейся. Красивой и печальной. По-моему, в тот день, когда они с мужем были у Шуры, она едва сдерживала слезы. Еще бы – оставить дочку в неполных 15 лет одну в огромной Москве, а самой ехать куда-то далеко, в глушь. Не позавидуешь. Правда, у Ривиных был еще сынок – с ним они пока не расставались. А Шуре надо было учиться сперва в старших классах, а потом и в вузе, стало быть, жить в столице.
Почему я сочла отца Шуры Лазаря Ривина одним из грандов тех лет? Ну хотя бы потому, что в 30-х годах абы кому ордер на комнату в новом доме в Москве не дали бы. «Бывших» уже давно уплотнили, а таких, как Цира, случайных людей в столицу больше не пускали. Главное же, новых домов для простых смертных в Москве не строили. И наверняка отец Шуры был засекречен. В ту пору все «настоящие люди» были засекречены. Ни разу Шура не обмолвилась о местонахождении родителей, ни разу не рассказала о том, где они жили раньше. Только иногда в разговоре мелькала аббревиатура КВЖД. Тогда Китайско-Восточная железная дорога была у всех на слуху – советская власть ее продавала, но никак не могла сторговаться24. КВЖД – это был и Харбин, прибежище русских эмигрантов. Настоящая заграница, не то что заштатная Либава. Но подробнее о КВЖД Шура говорить не хотела. О Харбине тоже. Да я и не очень любопытствовала. И еще: на мысль о секретных делах Шуриного отца наводили меня соседи Шуры по квартире, всего одна семья. Когда школьный военрук давал задание на дом, Шура шла к соседям, и их сын-студент мигом все объяснял, дескать, это по ведомству папаши. Похоже, весь новый дом напротив школы заселили «засекреченные».
Непривычно для меня выглядела и Шурина комната. Вся мебель в ней – большой платяной шкаф, раскладывающийся диван, обеденный стол, несколько стульев – была как-то особенно, по-советски топорна, и притом совершенно новая: либо из мебельного магазина, либо со склада. И ни одной «фамильной» вазочки, настольной лампы, скатерти, зеркала в старинной оправе. У меня и сейчас полно безделушек, которые принадлежали когда-то бабушке, а потом маме. Зато у Шуры были красивые джемпера и еще несколько заграничных вещей – очевидно, следы отцовской работы на КВЖД.
Сейчас кажется просто удивительным, что я не знала, чем занимается отец близкой подруги. А тогда, видимо, даже спросить об этом было неприлично.
И вот еще что странно: ежедневно общаясь с Шурой несколько лет, я ни разу не поинтересовалась, сколько денег ей посылают родители, как она справляется с хозяйством, пусть примитивным, что ест, где стирает белье. По-моему, на кухне в Шуриной квартире стояла газовая плита. Все равно, быт в Москве в те годы был ужасающе трудный. Вводили карточки на хлеб, потом отменяли, опять вводили. В магазинах – пустые полки. В школе нам давали на завтрак гороховый суп в алюминиевой миске и ломоть черного хлеба.
Никакой еды я у Шуры не видела, кроме огромного количества красивых бело-розовых консервных банок с надписью «Chatka». Эти банки лежали в необъятном черном чемодане… После войны «Chatka» – дальневосточные крабы – стали символом красивой жизни. Без крабов не обходился ни один салат оливье, а без салата оливье было немыслимо ни одно наше застолье. Аккуратно завернутое в пергаментную бумагу розовое мясо из крабовых клешней – предмет ностальгии всех моих старых знакомых.
«Chatk’y» из Шуриного чемодана съела я. До войны многие крабов не признавали. Шура в том числе.
В общем, я так и не поняла, чем Шура питалась в те годы.
И дело не только в еде… Хожу вокруг да около. Не умеют женщины моего поколения говорить о сексе. А между тем сейчас трудно себе представить, что привлекательная влюбчивая барышня 16–17 лет от роду живет совершенно одна без надзора и присмотра и притом остается девственницей. Но так было!
Помню несколько пылких Шуриных романов, которые начинались почти всегда… на катке: Шура в роскошном харбинском джемпере стремительно выбегала из раздевалки на лед и делала два-три круга в одиночестве… А домой ее уже провожал сраженный ею парень. Шура болтала, смеялась и назначала новое свидание. Если парень ей не очень нравился, то на свидание не приходила.
На катке Шура познакомилась с парнишкой из летного училища в городе Ейске. Расставаясь, они лили слезы, долго переписывались. Шура посылала будущему летчику свои фотографии, летчик, красивый белокурый парень, – свои. Летчик хотел на Шуре жениться. Но до этого ему надо было окончить училище, поработать несколько лет и только потом, спустившись с небес на землю, просить Шуриной руки.
После летчика, если не ошибаюсь, был моряк – красавец в морской форме. Он учился в Ленинграде в Высшем военно-морском инженерном училище имени Ф.Э. Дзержинского. У ленинградского моряка оказался товарищ в такой же черной шинели и с такой же бескозыркой. Его спешно познакомили со мной, чтобы бедняга не скучал в Москве. Оба моряка приехали из Ленинграда на каникулы. Форма их мне понравилась, но проводить время с будущим морским волком я наотрез отказалась. Мои и Шурины, как теперь говорят, «биологические часы» показывали разное время. Я была на уровне пятого класса, мое либидо не желало взрослеть. Особенно это стало ясно после того, как Шура завела серьезный роман с молодым человеком по имени Юра. Юра был вполне интеллигентный парень. Но он уже учился в институте, а в институты до 1935 года не принимали ребят, которые не проработали несколько лет на производстве. Словом, Юра был вполне зрелым человеком. Шура в него по уши влюбилась, и в ее комнате разыгрывались нешуточные драмы, о которых Шура мне рассказывала на следующий день, приговаривая: «Понимаешь? Понимаешь?» Я, конечно, отвечала: «Понимаю, понимаю», а потом вдруг задавала дурацкий вопрос типа: «А почему Юра говорит, что “нам надо остановиться. Я за себя не ручаюсь”… Он что, припадочный?»
Вспоминая себя, наивную дуреху, вспоминая Шуру и ее кавалеров, порядочностью которых я не перестаю восхищаться, я вовсе не хочу сказать, что мы были лучше теперешних девочек и мальчиков, меняющих партнеров лет до тридцати и умело пользующихся контрацептивами. Просто мы были другие. Другие. Мы, как жители горьковского «Городка Окурова», могли сказать о себе: «Впереди у нас леса. Позади – болота…» Впереди и позади у нас были коммуналки, хлебные карточки и вечный страх. Триединая формула страха: исключат, выгонят, арестуют. Окуровские обыватели говорили: «Позади у нас леса. / Впереди – болота! / Господи! Помилуй нас! / Жить нам – неохота». Мы хотели жить, но не могли нормально жить. И интуитивно это понимали.
Все время я повторяю: мы, мы, мы. Но это «мы» отнюдь не только я и Шура. Сюда включаю и других девочек из моих двух школ, и моих институтских соучениц, – все они – такие разные – дождались своих суженых, как это ни старомодно звучит. И если рожали детей, то за редким исключением рожали не в браке. И воспитывали сами. Сами.
Хватит! Вернусь лучше в середину 30-х. В 1935 году Шура и я закончили десятилетку. И спасибо товарищу Сталину, смогли сдавать экзамены в вуз. До 1935 года это, как я уже писала, не разрешалось – надо было сперва «повариться в рабочем котле». Шура и я экзамены сдали хорошо, конкурс выдержали и поступили: она – в Энергетический, очень престижный институт, я в ИФЛИ, на литфак, который сразу тоже стал очень престижным. Никаких репетиторов у нас не было…
В ИФЛИ я сдавала все предметы, даже математику, физику и химию. В Энергетическом, наверное, сдавали обществоведение и русский язык. А уже на еле-дующий год отличникам разрешили поступать вообще без экзаменов. Я была отличницей. Шура, по-моему, тоже.
Родители наши повлияли только на выбор профессии: моя мама намекнула, что была бы рада, если бы я занималась литературой. Шурин папа, уверена, сказал свое веское слово в пользу Энергетического. Два московских института – Бауманский и Энергетический – были тогда самыми известными московскими вузами. И готовили они «капитанов Великих Строек Коммунизма», то есть директоров и ведущих инженеров промышленных монстров, которые должны были превратить Россию «ситцевую» в Россию военно-промышленную.
Благодаря Шуриной энергии наша дружба не заглохла сразу же. Шура продолжала появляться в Хохловском переулке в окружении будущих «капитанов». Вытаскивала меня в большую жизнь: на каток, на вечера в ее институте, просто на танцульки. В отличие от ИФЛИ, где девушки преобладали, Энергетический был по преимуществу мужским институтом. Из Шуриных приятелей помню Толю Нетушила25, Шуру Фельдбаума, Андрея Парфентьева. Особенно этого Андрея Парфентьева, который обожал гулять со мной по Москве и декламировать Маяковского. Особый шик заключался в том, что он, технарь, знал Маяковского лучше, чем я, студентка литературного факультета.
И все же чем больше времени проходило, тем больше мы с Шурой отдалялись друг от друга… Занятия, новые компании, новые дружбы…
Однако в решающий час, когда появилась Шурина grande passion, Большая Любовь, я оказалась рядом. И пробил сей час в Хохловском переулке, хотя ничто его не предвещало. Знака свыше не было. Розы на снегу не расцвели, гром не грянул, музыка небесных сфер не зазвучала. Все произошло скорее антиторжественно и антипоэтично.
Мама задумала удалить мне гланды. В 18 лет. Обычно гланды удаляют лет в шесть, иногда в двенадцать. Но у меня все происходило с опозданием. Назавтра мне предстояло лечь в частную клинику на Никитской к хирургам-отоларингологам, а вечером пришла подруга Шура, потом зашел Сеня, тоже из Шуриной компании и мой постоянный воздыхатель. На сей раз он привел с собой неизвестного нам Виктора. Мама работала до 12 часов ночи, и мы вчетвером просидели часов до одиннадцати. Шура и Виктор все время пикировались.
Всю следующую неделю я провела в клинике в окружении оравы ребятишек, взрослых пациентов там не было вовсе. Горло отчаянно болело, глотать я не могла, а ребята уже на следующий день после операции бегали и прыгали по всем палатам, весело галдели и заглатывали свои и мои завтраки – обеды– ужины. После выписки мне надлежало еще дней десять побыть дома, чтобы «не подхватить инфекцию». И посещения мама запретила. Шура позвонила из автомата сразу же после моей выписки и произнесла загадочную фразу: «Витя стоит рядом». Я ничего не поняла, поскольку напрочь забыла про визит Сени и про его друга Виктора. И не вспомнила до тех самых пор, пока Шура не явилась ко мне с Виктором и не сообщила, что она Виктора любит и будет любить всю жизнь.
Приблизительно так оно и случилось. Виктор Болховитинов, тогда студент математического факультета МГУ26, стал Шуриным мужем. Почему-то Шура сразу переехала к Виктору в подмосковное Перово. Только теперь понимаю: переезд Шуры был неспроста. Очевидно, Виктор для «засекреченного дома» в Москве не годился. Он наверняка был из «бывших». В ту пору такая простая мысль не пришла мне в голову. Ведь мое поколение жило как бы с завязанными глазами. Итак, Шура и Виктор были бедные студенты, но жили счастливо (по Шуриным рассказам). Но я только однажды их посетила. К сожалению, набравшись дешевого ифлийского снобизма, я, вместо того чтобы всем восхищаться, ляпнула что-то не совсем то. По правде говоря, мне не понравилось, как моя гордая, независимая Шура смотрела на своего Виктора, как внимала его речам. В общем, мы поссорились, и как-то так получилось, что эта ссора длилась и длилась.
Встретились мы лет тридцать спустя. Сперва случайно в Театре на Малой Бронной. Потом стали созваниваться, потом Шура пришла ко мне, потом я пришла к Шуре. Изредка договаривались о новых встречах, хотя видеться с ней было больно, а разговаривать – еще больнее.
Если Шура-школьница и Шура-студентка была в моих глазах «хозяйкой жизни», то Шура 60-х годов показалась мне сникшей, неуверенной в себе. Даже внешне она страшно изменилась – превратилась в эдакую усредненную тетю с большим задом, к тому же с задом, обтянутым платьем из плохого пошивочного ателье.
Трудно себе представить, что этой женщине пришлось пережить. Нет, она не жаловалась, не скулила. Как раз наоборот. Рассказывала о своих бедах бодрым голосом и очень скупо. Отца Шуры арестовали, видимо во время войны или уже после. Мать сошла с ума и умерла в психушке. Брат погиб на фронте. Виктор всю войну болел, и Шура выхаживала его сперва в Перове, потом в городе Сасово вместе с матерью Виктора, своей свекровью. А после войны они с Виктором… расстались.
Больше я от Шуры ничего не узнала. Остальное додумала сама.
В то время, когда мы с Шурой стали более-менее постоянно встречаться, она жила вместе со своим реабилитированным отцом. Работала в каком-то НИИ. О НИИ, то есть о так называемых научно-исследовательских институтах, иначе о засекреченных «почтовых ящиках», я знала из рассказов Изи, брата мужа27, и многое от троюродного брата Д.Е. Вовы.
Мы все жили в клетке, а НИИ были клетками в клетке. Кроме всевидящего ока КГБ за сотрудниками НИИ следило еще и всевидящее око «первых отделов». Работникам НИИ даже в годы «оттепели» было запрещено публиковать свои труды, читать публичные лекции, разговаривать с иностранцами, переписываться с заграницей, ездить в турпоездки. Брат мужа боялся провожать знакомых с Белорусского вокзала (с Белорусского ходили поезда в Германию) – вдруг встретит на перроне иностранного шпиона. Когда сын Изи Лева уехал в Израиль, ему было велено писать письма до востребования на Центральный почтамт, разумеется, на имя матери…
Мудрый сказочник Андерсен утверждал, что соловьи не могут петь даже в золотой клетке. НИИ были железными клетками – зарплата в них и для кандидатов наук, и для докторов была минимальная, дисциплина жесткая, никаких привилегий «ящики» не давали.
Не знаю, защитила ли Шура диссертацию, тем не менее она стала завлабом – по ее словам, молодые ребята Шуру любили и ценили. Не сомневаюсь. Голова у Шуры была светлая.
Человечество делится по многим параметрам: три четверти людей едят простоквашу с сахаром, одна четверть – простоквашу с солью. Часть человечества, рассказывая о спорном спектакле, говорит: зал был наполовину полон, другая сообщает: зал был наполовину пуст. Из предшествующего ясно, что Шура принадлежала к первой части. Ее все устраивало, в том числе и жилье. До метро было близко, в свой «ящик» она ходила пешком.
Но, как ни странно, Шурино жилье произвело на меня, совсем недавно вылезшей из кошмарной коммуналки на Цветном бульваре, удручающее впечатление. На улице, где был Шурин дом, я почувствовала запах «химии». Химией вонял весь квартал. Химией пахло и в Шурином подъезде, и даже в квартире. Хотя Шура жила в полноценном кирпичном доме, а не в «хрущевке». Да и их четырехкомнатная квартира показалась мне очень большой: у Шуры была своя комната, у ее отца – своя, где-то в глубине квартиры. Но напротив Шуры поселилась чужая женщина, соседка, которую Шура недолюбливала и боялась.
– Папе предлагали всю квартиру, но он отказался, опасаясь, что нас потом уплотнят, – сказала Шура.
Понятно, что старик советской власти не доверял. Непонятно лишь, почему мне так не понравилась Шурина квартира. И даже ее комната. Хотя эта комната была типичным жилищем интеллигента из «почтового ящика» со всеми атрибутами: с большим портретом бородатого Хемингуэя, с томиком Ахматовой на полке и с песнями Окуджавы на «ребрах».
Но мы с мужем и наши друзья могли позволить себе к тому времени уже нечто большее: муж стал ездить в командировки на Запад. Кто-то ездил в турпоездки. Кто-то повесил у себя дома Коровина или Фалька. А некоторые – картины художников андеграунда. И почти все наши знакомые жили в отдельных квартирах. Но даже такие завоевания советских интеллигентов были Шуре недоступны. И еще, не буду лукавить, хорошенькие женщины, а Шура в молодости была хорошенькая, имели мужа, детей. Даже те женщины, у кого первый муж погиб на фронте. Наше поколение было страшно консервативным. Может быть, потому, что предыдущее поколение женщин вело себя безрассудно, бросало мужей из-за пустяков, бравировало своей самостоятельностью – мне никто не нужен, сама проживу, воспитаю сына, дочь… Из-за Шуриного одиночества и кипел «мой разум возмущенный»… Я уже писала, что ее рассказы о себе были очень скупы. Остальное я додумывала сама. И додумывала в свойственной мне примитивной манере.
Вот ход моих мыслей: после войны Сталин развязал антисемитскую кампанию, Хрущев ее продолжил, и Шура, еврейка, да еще с репрессированным отцом, оказалась для Виктора Болховитинова неподходящей женой. Тем более что он начал делать большую карьеру. Его назначили главным редактором популярного в ту пору журнала «Наука и жизнь». Особую популярность журналу придавало то, что в нем работала любимая дочка Хрущева Рада, муж которой Аджубей стал главным редактором «Известий»28. И новая жена Болховитинова, как выяснилось, подвизалась в «Известиях». К тому же, как говорили люди, у нее был свой… особняк.
Подозреваю, что именно особняк новой жены Виктора не давал мне покоя… И еще то, что Болховитинов сделал не только большую служебную карьеру, но и оказался весьма востребованным как литератор.
В 60—70-х годах стало очень престижно писать и говорить о науке и даже о выдающихся западных ученых. Сразу после войны в СССР считалось, что все мировые открытия совершили простые русские умельцы. А потом вдруг выяснилось, что на земле существовали такие титаны, как Альберт Эйнштейн и Макс Планк, Эрнст Резерфорд и Вернер Гейзенберг, Отто Ган и Нильс Бор.
Появилась целая плеяда людей, кончавших мехматы или технические вузы, которые стали писать о науке и выдающихся ученых.
Среди них был наш знакомый Даниил Данин29 и другие вполне порядочные люди.
Однако двое из авторов книг об ученых – Владимир Орлов и Василий Захарченко30 – имели в годы «оттепели» славу черносотенцев, русофилов или, как их именовали тогда, «руситов». Неприлично разжиревший Орлов, который до войны писал декадентские стихи, женился на ифлийке Люсе Лозинской31. Люся была еврейкой и стеснялась своего оголтелого супруга. Он, видимо, ее тоже стеснялся. Тем не менее брак оказался прочным, Люсю, правда, отлучили из-за мужа от «салона» Лили Брик, но уже после смерти Сталина… И только временно.
Однажды, оказавшись случайно вместе с Люсей и Орловым на Николиной Горе – и мы с мужем, и они были гостями главного редактора «Нового времени» Натальи Сергеевны Сергеевой32, – я стала свидетельницей того, как тучный Орлов, обнаружив среди движущейся навстречу кучки людей Шелепина, быстро согнулся вдвое, поклонился, а потом чуть ли не на колени упал и стал подзывать Люсю, закончившую ИФЛИ, где «Железный Шурик» тоже учился.
Захарченко, с которым меня когда-то познакомила Шура, – он оканчивал вместе с ней Энергетический институт, – я встретила несколько раз на приеме в западногерманском посольстве. Он показался мне таким же несимпатичным, как и в годы молодости. А совсем недавно, читая воспоминания Леонида Бородина «Без выбора»33, я узнала, что Захарченко много лет пас Илья Глазунов в своем «дворянском гнезде», в башне в Калашном переулке. Пас вместе с брежневским министром Щелоковым, Шафаревичем и Дмитрием Васильевым, которому мы обязаны созданием красно-коричневой «Памяти».
В общем, Виктор оказался, видимо, в плохой компании. Но он был на коне, а Шура прозябала. Виктора я возненавидела, а Шуре пыталась помочь. Стала уламывать Анатолия Медникова – члена правления писательского кооператива на Аэропортовской, чтобы он принял ее в этот кооператив. Поняла, что, если Толе позвонит Болховитинов, дело выгорит. Но Шура разозлилась и сказала, чтобы я не смела и думать об этом. Они с Виктором лучшие друзья, но просить она у него ничего не станет.
Моя ненависть к Болховитинову еще возросла. Но потом произошла наша встреча с ним, и я в который раз убедилась, что в этой жизни все не так-то просто.
Шура была хорошей дочерью. Даже свой отпуск проводила вместе с отцом, они ездили в дом отдыха Шуриного НИИ. Вроде бы отец не болел, был в приличной форме. Но вот однажды Шура позвонила и сообщила, что отец умер. И если я хочу присутствовать на его похоронах, то за мной заедет Виктор на машине, предварительно уточнив адрес. Уточнив адрес, Виктор сказал, что подниматься ко мне в квартиру не станет, я должна спуститься вниз. Я спустилась, Виктор сидел рядом с водителем и даже не вышел из машины, чтобы поздороваться со мной. Мне показалось, что он неплохо выглядит. Всю дорогу до крематория он довольно весело вспоминал нашу молодость. Я угрюмо молчала. «Волга» с персональным шофером и явная невежливость Виктора только подогрели мою неприязнь к нему. Но вот мы доехали до крематория, и я увидела, как шофер с превеликим трудом вытаскивает Виктора из автомобиля. Еще не старый Виктор стал калекой. До входа в ритуальный зал шофер буквально тащил его на себе. Виктора было жалко. И его жизнь не пощадила. Болезнь Виктора была неизлечима и как-то связана с мозгом. Это мне Шура рассказала.
Умер Болховитинов в 1980 году.
А Шура держалась. Она была стойким оловянным солдатиком. Ходила на модные спектакли, посещала концерты. Была своим человеком в Музее Пушкина на Пречистенке у Крейна, который этот музей создал. И никогда не ныла. Мы встречались с ней не так уж часто. В ее присутствии я чувствовала себя постыдно благополучной и богатой. Да и ее приятельницы, бездетные дамы, как тогда говорили, с «несложившейся женской судьбой» мне не очень-то нравились. И я им, видимо, тоже…
И вот однажды – мы с мужем только вернулись из Дома творчества в Ду-бултах – мне позвонила одна из этих Шуриных приятельниц и рассказала о том, как страшно Шура погибла. На Шуру наехала мусороуборочная машина. Пьяный водитель мчался, не глядя на дорогу. И огромный ковш машины буквально искромсал Шурино тело. Подруги смогли опознать Шуру только по ее туфелькам.
В тот весенний вечер Шура пошла в театр в надежде купить с рук «лишний билетик». Но не купила и отправилась домой. Выйдя из метро, несколько минут прождала автобус. На остановке встретила знакомую, перекинулась с ней парой слов. Знакомая осталась ждать автобус, а Шура решила пройти одну остановку до дома пешком… Ужасная смерть. Пьяный водитель, как сказали Шурины приятельницы, откупился.
P.S. Рано лишенная материнской ласки, Шура часто называла себя в разговоре Шурочкой. Вот я и поставила это имя в заголовок. Пусть будет Шурочка.
Глава III. «ЛИЦЕЙ В СОКОЛЬНИКАХ», ИЛИ «КУЗНИЦА КАДРОВ»
1. Моя alma mater
Моя alma mater – ИФЛИ, Институт истории, философии и литературы. Существовал он всего семь лет, с 1934 до 1941 года, но, как ни странно, породил множество легенд.
Чего только не говорили и не писали об ИФЛИ. И как только наш институт не называли – и «красным лицеем», и «лицеем в Сокольниках», и «прибежищем муз и поэтов», и «островком пытливой мысли», и «советской Сорбонной», и «советским Кембриджем».
А писательница Е. Ржевская и вовсе напустила туману, сказав, что ИФЛИ – это «код, пока не поддающийся раскодированию, чей-то неразгаданный замысел».
Сама Е. Ржевская, насколько я помню, перешла из ИФЛИ в Литературный институт имени Горького, ибо у «неразгаданного замысла» был существенный недостаток: выпускники не получали определенной профессии – они могли остаться школьными учителями литературы или истории. А это амбициозным девушкам типа Ржевской не подходило. Да и связи с уже почти признанными поэтами и прозаиками из Литинститута дорогого стоили.
Но это всего лишь отступление…
Итак, «лицей в Сокольниках».
Увы, наш «лицей» Пушкина не породил. Не породил он и Горчакова, лицейского приятеля поэта, в будущем российского канцлера и дипломата. А породил всего лишь «железного Шурика» Шелепина, который и среди хрущевско-брежневских политиков был из наихудших.
Очень меня удивил публицист и писатель Д. Быков, написавший, будто ИФЛИ был «уникальным заповедником вольности в сталинской предвоенной Москве, духовной родиной Самойлова, Слуцкого, Кульчицкого, Львовского, Померанца, Твардовского».
Странный перечень поэтов, куда почему-то затесался Померанц. Да и «родина» ряда пиитов названа произвольно. Слуцкий окончил не ИФЛИ, а Московский юридический институт и Литературный институт. Кульчицкий тоже у нас не учился. Твардовский в свою бытность в ИФЛИ уже получил Сталинскую премию за «Страну Муравию» и всего лишь доучивался в ифлийской аспирантуре. От нас, вчерашних московских десятиклассников, держался особняком. Ну а насчет «заповедника вольности» – это вообще смешно, какие «заповедники вольности» могли быть в Москве в 1935–1940 годах? Мы – «дети страшных лет России», а если конкретно – студенты эпохи Большого террора. Слова «вольность» для нас не существовало.
Удивил меня также журналист Л. Млечин, написавший в своей книге о Шелепине, что в переменах между занятиями девушки напевали в ИФЛИ знаменитую «Бригантину». Какая идиллическая картина! «Бригантину», сочиненную ифлийским студентом, поэтом Павлом Коганом, в коридорах ИФЛИ побоялись бы напевать. Каждое слово «Бригантины» отдавало опасной крамолой. Если в ИФЛИ и пели какие-то песни, то только на слова Василия Лебедева-Кумача.
Вспоминая ИФЛИ, замечательная мемуаристка Лилианна Лунгина обмолвилась, а может быть, сознательно вставила в свой рассказ34 такой вот эпизодик: о зачислении в Институт ей сообщил не секретарь приемной комиссии, не преподаватель и не кто-либо из ифлийской администрации, а небольшого роста паренек по имени Яша Додзин. О Яше Додзине, вездесущем и всемогущем, речь еще впереди. А сейчас скажу только, что Додзин был человеком из НКВД, специально приставленным к нашему институту. Лунгина поступала в ИФЛИ, видимо, в 1937 году, то есть в самый пик Большого террора, в самую ежовщину.
Да и директриса ИФЛИ, Анна Самойловна Карпова, была не какая-то там ученая дама не от мира сего, филолог или историк с научными степенями… Ничего подобного. Фамилия Карпова была у Анны Самойловны по мужу, видному большевику. Был даже Химический институт имени Карпова35. А наша Анна Самойловна приходилась сестрой Землячке, одной из «фурий Революции». О кровавых «подвигах» Землячки в Крыму я недавно прочла в книге Тополян-ского «Сквозняк из прошлого»36. Землячка до самой смерти трудилась в надзорных партийных органах. Сталин не трогал ее ни при каких чистках. Она всегда была членом ЦК «нашей партии».
Прежде чем говорить об ИФЛИ, надо это обязательно вспомнить. Лишь на этом фоне станет понятным остальное.
По моему глубокому убеждению, а я недаром участвовала во всех политбоях 16-й школы, ИФЛИ создали после того, как Сталин обнародовал в 1931 году свои «шесть условий», необходимых для построения социализма в одной стране. Одним из них было воспитание новой, то есть советской, интеллигенции. Если точнее, то ИФЛИ должен был создавать новую гуманитарную интеллигенцию. А именно: своих Ключевских, своих Кантов и своих Тэнов и Белинских.
Как всегда в ту эпоху, все началось с «жилищного вопроса». Новый институт открыли, но непонятно было, где его разместить. Ведь строили в 30-х годах только заводы-гиганты и электростанции.
Сперва сунули ИФЛИ на Пироговку, а точнее, в Олсуфьевский переулок, где с царских времен стояли корпуса мединститутов. Но туда уже раньше внедрили учебное учреждение под названием КУПОН, что означало Коммунистический университет преподавателей общественных наук.
Ох, не читали создатели аббревиатуры КУПОН Л.Н. Толстого, не вспомнили «Фальшивый купон» великого старца.
КУПОН, естественно, набирали по путевкам райкома комсомола. На первый курс ИФЛИ в 1934 году ребята тоже шли по путевкам. И не к 1 сентября, а поздней осенью. К тому времени, как я поступила в ИФЛИ, КУПОН, видимо, тихо испускал дух. Тем не менее в 1935 году мы, десятиклассники, после экзаменов влились в довольно странный и вполне взрослый коллектив последних купоновцев и более юных, чем купоновцы, ифлийцев первого набора.
Я лично от этого совершенно одурела. Какие-то великовозрастные дяди подходили ко мне и говорили: «Я парторг твоего потока» или «Я парторг» уж не знаю чего… Но довольно скоро один из парторгов стал моим опекуном. По-моему, он был «друг степей калмык», хотя и очень высокий. Парторг объяснял мне, что, поступив на литературный факультет, я должна выбрать, на каком отделении или цикле хочу учиться. А циклов целых четыре: русский, западный, классический и искусствоведческий. И тут я злоупотребила добротой «калмыка»: сперва он записал меня на западный цикл, потом переписал на русский. А потом, когда я прочла программу западного цикла, которую он мне вручил, я опять запросилась на западный. Меня, видите ли, пленило изучение Крестовых походов. Если бы я знала тогда, какое это скучное занятие!








