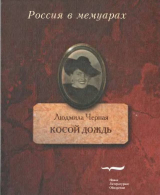
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 47 страниц)
Наверное, поэтому перевод каждой книги, которую я предлагала издательству, а потом переводила, был для меня радостью, переживанием. А ведь перевод – это очень трудоемкое, кропотливое и мучительное занятие; ты с головой погружаешься в чужую субстанцию, даже думать начинаешь чужими мыслями, а говорить чужими словами.
Помню, как я переводила небольшой по объему роман Ремарка «Жизнь взаймы».
Трудно себе представить сейчас, как любим и популярен у широкой публики в СССР был Ремарк. Особенно, конечно, «Три товарища».
Мне довелось переводить многих зарубежных авторов. В том числе таких знаменитых, как Дёблин, Дюрренматт – им я всегда восхищалась, – Макс Фриш, Гюнтер Грасс, ну и, конечно, Бёлль… Но только трое из них – Бёлль, Ремарк и не столь известная у нас Ингеборг Бахман – «тронули мое сердце» (слова Бёлля). Ремарк, по-моему, грандиозный писатель уже потому, что обозначил две самые болевые точки в судьбах людей XX века – войну, когда человек становился пушечным мясом, и вынужденную эмиграцию, когда он становился изгнанником.
Разве можно забыть, что именно Ремарк написал самый бескомпромиссный и самый известный антивоенный роман XX века «На Западном фронте без
перемен»? И разве можно забыть, что чистокровный немец Эрих Мария Ремарк не пошел ни на малейшую уступку не только Гитлеру, но и мировоззрению, которым оперировали нацисты! Ведь в XX столетии не один лишь призрак коммунизма бродил по Европе. В XX столетии по Европе бродил и призрак ницшеанства, с его культом силы и крови, с культом «белокурой бестии», которой все дозволено. Очень многие высокие интеллектуалы прельстились соблазнами ницшеанства. Я уж не говорю о великих немецких музыкантах и об актерах, служивших Гитлеру, не говорю о таких немецких писателях, как Эрнст Юнгер или Готфрид Бенн. Но сколько прославленных европейцев, пусть на склоне лет, заключили союз с дьяволом… Вспомним Герхарта Гауптмана и Кнута Гамсуна… А уж Д’Аннунцио и вовсе оказался в обозе у Муссолини…
Ремарк эмигрировал из Германии уже в 1931 году, за два года до прихода Гитлера к власти. Он, красивый человек с внешностью молодого викинга, стал как бы антиподом колченогого коротышки Геббельса, по воле которого срывались сеансы в кинотеатрах, когда там шел фильм Ремарка «На Западном фронте без перемен», а в мае 1933 года по его приказу романы Ремарка жгли на кострах в университетах по всей Германии.
Я, в отличие от многих интеллигентов на Руси, не страдаю амнезией и все это помню.
И еще я любила (и люблю) Ремарка потому, что он, хоть и немец, не был ни altklug*, ни скучен. Любила потому, что женщины у него – красивые, а мужчины – мужественные. И это на сто процентов относилось к «Жизни взаймы». Снобы обвинят меня в дурном вкусе. Ну и пусть. И Наташа Ростова, и Анна Каренина – красавицы. Дурнушка только княжна Марья. Но она и самая ненатуральная у Толстого.
И, наконец, книга Ремарка «Жизнь взаймы» стала мне дорога потому, что перевод ее оказался приключением. А в моей тусклой жизни советской интеллигентки – книжного червя так не хватало приключений! К тому же мы только-только переехали из одной не очень хорошей квартиры на улице Дмитрия Ульянова в другую, в том же доме, но хорошую (по нашим тогдашним меркам). Только-только сделали ремонт: перегородили комнаты так, чтобы из трех получилось четыре. А незадолго до этого вселились в кооперативный дом на улице Дмитрия Ульянова, распрощавшись с коммуналками, кошмаром моей молодости. Каждый такой переезд стоил уйму денег. Платное жилье (кооператив)
плюс взятки. И остались без гроша. Лишь чудо могло спасти нашу семью: меня, мужа Тэка, Алика, дочку мужа Асю и домработницу Шуру. И чудо свершилось.
Я оказалась счастливой обладательницей пяти из шести номеров швейцарского глянцевого журнала, в которых был напечатан роман Ремарка «Жизнь взаймы». Новый, даже еще не вышедший книгой роман любимого в Советском (ююзе Ремарка, которого в тогдашний краткий исторический период уже (или еще) публиковали с энтузиазмом, и притом неслыханными тиражами. Ко всему прочему, роман был компактный и увлекательный.
И я засела за перевод, не дождавшись договора, ограничившись честным словом Блинова. И я и издательство понимали: нас легко опередить, «Жизнь взаймы» может появиться в любой день на страницах журнала «Иностранная литература». В «Иностранке» небольшой роман разделят на две части, дадут двум переводчикам и «застолбят»: в очередном номере напечатают страниц 20… Так я много позже переводила последний роман Ремарка «Тени в раю» в соавторстве с В. Котелкиным176, тогда мужем Людмилы Зыкиной, которая по какой-то причине была «нужна» Кудрявцевой.
Теперь вижу, что в тот короткий миг в СССР ценился не только Ремарк, но и оперативность. Более того, проснулся дух конкуренции, каждому хотелось сказать: «Мы опубликовали этот роман первыми». И никому не хотелось при-шать: «Мы опоздали».
Я переводила с восьми утра до глубокой ночи. И была счастлива. Телефон у нас в квартире еще не установили. Я получала из издательства телеграммы и звонила редактору из переговорного пункта на Ленинском проспекте. Все шло хорошо. И я летела на всех парах… Нет, не к финишу. А к… катастрофе. Дело в том, что одного номера журнала – предпоследнего – у меня не было. Как выяснилось позже, в нем смертельно больная героиня остается одна-одинешенька в незнакомом городе; ее возлюбленный, автогонщик Клерфэ, разбился. 11о счастью, девушку находит старый друг Борис Волков, русский эмигрант; находит уже умирающую.
Переводить роман без этого номера журнала было верхом легкомыслия. 11о я надеялась, что все… образуется. Как? Не знаю. Ведь в ту пору нельзя было обратиться за недостающим куском текста ни к швейцарскому журналу, ни к самому Ремарку. Мы, как всегда, печатали роман без разрешения автора, без разрешения издательства. Нельзя было также попросить знакомого туриста привезти журнал. Где были эти туристы? Тургруппы выезжали за рубеж раз к год по обещанию. И туристы боялись собственной тени. Никто из них со мной даже разговаривать не стал бы.
А я все переводила и переводила, неудержимо приближаясь, говоря высоким штилем, к роковой черте. Но буквально в последнюю минуту Олег Прудков, заведующий иностранным отделом «Литературной газеты», принес мне недостающий журнал. А еще говорили, что Олег Николаевич был плохим человеком. В моей жизни часто случалось, что считавшиеся плохими людьми помогали, делали добро. А считавшиеся хорошими мешали, ставили подножки. Да, меня спас Прудков, позвонил корреспонденту «Литгазеты» в Швейцарии, и тот прислал нужный номер на адрес редакции газеты. И мне ничего не сказал – сделал сюрприз. Настоящий друг.
Роман вышел. Помню, как выглядела книга: мягкая белая обложка, а на ней слева, вся в голубом, молодая прекрасная женщина – героиня «Жизни взаймы» Лилиан Хельман.
Впрочем, и на этот раз не обошлось без неприятностей. Критик Т. Мотыле-ва177 опубликовала зубодробительную рецензию на «Жизнь взаймы». Удар был нанесен умело. Мотылева изничтожила не всего Ремарка, – в тот краткий исторический миг это не понравилось бы начальству, – а лишь роман «Жизнь взаймы». Дескать, пожертвуем этим негодным пустячком – и все будет в порядке.
Все равно я рада, что перевела «Жизнь взаймы». Роман до сих пор переиздают. В 2012 году подписала очередные договоры с двумя издательствами сроком на пять лет. Пятьдесят лет у нас в стране читают печальную повесть о бедных детях послевоенных лет, которые мечтали о простом человеческом счастье и не получили его…
Итак, перевод «Жизни взаймы» был волнующим приключением.
На склоне лет поняла, что перевод каждой книги становился приключением. От каждого перевода осталась в памяти какая-то история – счастливая или не очень счастливая. Самой скверной была история перевода романа моего главного автора Бёлля «Групповой портрет с дамой». Но об этом речь пойдет дальше, когда буду писать о Бёлле.
А сейчас пора закругляться.
5. «Прошу принять меня…»
В конце 50-х и в 60-х я перевела с немецкого немало хороших книг. Но, чтобы достичь полной легитимности, а вернее, чтобы занять достаточно почетное место в советском обществе, осталось сделать последний шаг. А именно: вступить в Союз писателей СССР.
Помню, какие противоречивые чувства меня обуревали при этой мысли. Да, я долго колебалась, прежде чем написать заявление: «Прошу принять меня…»
В первые годы «оттепели», чувствуя себя незаслуженно обиженной, я сгоряча поклялась, что никогда не буду никуда вступать, тем более просить, чтобы приняли. И очень долго крепилась, хорошо понимая, что вступление в Союз писателей – явно конформистский поступок. Никаких высоких мотивов для этого нет. Цену Союзу писателей знали все. Писательский Союз (как и все творческие союзы) был чисто бюрократической организацией, с помощью которой власти легко управляли значительной частью интеллигенции, наводили порядок, устрашали, а также неусыпно наблюдали.
Словом, вступать в Союз, по большому счету, не следовало.
И еще меня мучиДо то, что, по моим понятиям, писателями могли считаться только серьезные прозаики и хорошие поэты. Критики, публицисты, переводчики всего лишь выдавали себя за писателей. По сути, они были самозванцами. Кому же хочется стать самозванцем?
Конечно, я могла считаться литератором. Писала статьи и памфлеты, полемические статьи и фельетоны, обзоры и предисловия, очерки и зарисовки, рецензии и длинные журнальные опусы. А для собственного удовольствия и для развлечения друзей сочиняла юмористические монологи, тосты, пьесы, стихи.
Одним словом, я была журналисткой. Про таких, как я, ходил анекдот: «Журналист подобен собаке: все понимает, но говорить не может». Я тоже все понимала, но выразить это на бумаге не умела.
В те годы, о которых я сейчас пишу, тысячи людей стали членами Союза журналистов. Все без исключения тассовские, радиокомитетские, журнальные, газетные, даже издательские редакторы вступили в Союз журналистов. Многие из них не имели ни одной публикации. И все равно их велено было считать журналистами. Только мне путь в этот Союз был заказан. Я не числилась в штате, не работала постоянно. Вероятно, если бы я приложила некоторые усилия, то смогла бы проникнуть в него и ходить по пропуску в особнячок на (уворовском (Никитском) бульваре, в так называемый Домжур. Но прилагать усилия, чтобы получить то, что принадлежит мне по праву, казалось обидным. Уж если куда-то вступать, то предпочтительней в более мощную организацию, в Союз советских писателей.
В общем, я решилась. Как только подала заявление, сразу же стала энергично действовать. Никакого провала я не хотела допустить. Через первую инстанцию, ьюро секции переводчиков Московского отделения Союза писателей, меня провел Лев Гинзбург178 (он много лет был председателем этой секции), заключив, по-моему, какие-то временные «пакты» и соглашения с моими недругами. Лева был большой дипломат. Рекомендовала меня на том этапе Горкина179, переводчица с немецкого. Особым влиянием она не пользовалась. Зато на приемную комиссию Союза явились два аса: Борис Слуцкий и Александр Михайлович Борщаговский. Разбор моих переводов сделала Наталья Тренева180. Естественно, она попросила меня написать соответствующий текст, что я и выполнила. Даже сама удивилась, какие я себе переводческие задачи ставила, переводя Бёлля, и как с ними справлялась. Приняли меня, как мне рассказывали, единогласно (все процедуры совершались в отсутствие соискателя). Приняли, хотя переводчиков принимали в ту пору очень неохотно…
Хочу признаться: я никогда не жалела, что стала членом ССП. Не только не жалела, но, напротив, была благодарна Союзу за то, что он облегчал мою трудную жизнь. Благодарна за все те привилегии, которые он мне давал. Даже за такую, казалось бы, малость: я могла вызвать врача к больной маме из поликлиники Литфонда. Мама последние три года жила у меня на Дмитрия Ульянова, а прописана была, естественно, у себя в Большом Власьевском. Стало быть, врач из нашей районной поликлиники не пришел бы к ней ни при каких обстоятельствах… А таких «малостей» в той жизни было не счесть. Да и в этой жизни я Союз писателей благословляю. Благодаря ему я оказалась владелицей небольшой квартирки в дачном поселке на Ново-Рижском шоссе. В свои девяносто с большим гаком живу там месяца три-четыре. Для меня это прямо спасение!
Никаких подлостей меня в Союзе делать не заставляли. Постов я не занимала. Сидела тихо. И только диву давалась тому, что передовые литераторы, боровшиеся за правду и обличавшие и Союз, и его руководство, возмущались тем, что этот самый Союз их шельмует и изгоняет из своих рядов.
Многие важные события исчезли из моей памяти. А вот день, когда я решила, что с «советской школой перевода» мне больше не по пути, помню отчетливо. Произошло это уже в годы горбачевской перестройки.
В тот день, а именно 13 марта 1988 года, утром, я пошла в популярнейшую в то время газету «Московские новости» – отнесла статью, которая мне самой нравилась. Статья называлась «Уже была тяжелая вода». Тяжелую воду немецкие ученые, как известно, получили в конце войны. И тем самым гитлеровская Германия оказалась накануне создания атомной бомбы. При том, что благодаря Вернеру фон Брауну у нацистов уже была межконтинентальная ракета Фау-2, долетавшая до Лондона.
В моей статье говорилось, однако, не только о прошлых угрозах человечеству, но и о той угрозе атомной войны, которая существует, пока в мире есть диктаторские режимы, возглавляемые оголтелыми вождями-фюрерами. Намеки были ясны. Статья казалась мне весомой и весьма актуальной. Однако, переступив порог «Московских новостей», я через секунду забыла и о Гитлере, и о тяжелой воде. Весь дом на Пушкинской площади был словно встревоженный улей, он буквально гудел от голосов молодых газетчиков. Меня тут же посвятили в суть дела. Оказывается, тем утром «Советская Россия» вышла со статьей Нины Андреевой под названием «Не могу поступиться принципами». В своей статье 11ина Андреева, преподавательница одного из ленинградских вузов, призывала покончить с «перестройкой» и вернуться к старым «принципам».
Все понимали, что газета не решилась бы без соответствующих санкций опубликовать статью неизвестного автора, которая явно идет вразрез с программой генсека. А генсеком был тогда Горбачев.
Как ни удивительно, но настроение в «Московских новостях» было отнюдь не похоронное, а, наоборот, боевое. Всем хотелось тут же сесть и писать ответ Пине Андреевой, а в ее лице антиподу Горбачева – Лигачеву. Ждали только главного редактора «Новостей» Егора Яковлева181, который был в отъезде. Ждали и боялись, что он окажется не таким решительным…
И вот вечером этого, такого бурного дня, полного гражданского гнева и переживаний, я должна была идти на собрание секции переводчиков в Дом литераторов. Пошла, предвкушая разговоры на ту же тему – удастся ли продолжить «перестройку» или она захлебнется…
В тот вечер доклад делал Вяч. Вс. Иванов, личность весьма известная. Сперва он был известен как Кома Иванов, сын знаменитых родителей: драматурга Всеволода Иванова и его жены красавицы Кашириной, и молодой друг Пастернака, а потом стал видным лингвистом, профессором и т. п.
Доклад был посвящен модной в ту пору семиотике. Мне он показался скучным. И длился долго. Начались прения. По-моему, первым на трибуну вышел ныне покойный Асаф Эппель182 – переводчик с польского. Мне он запомнился но Дому творчества в Переделкине. Эппель постоянно кипятился, с кем-то враждовал. Но все это казалось мне в тот день таким мелким. И я ждала, что он скажет. Асаф Эппель сказал следующее:
– Вот я начал переводить стихи дольником. Перевел уже два стиха… Да, самым настоящим дольником. Понимаете? И что же? В печати об этом ни слова… Как это можно не заметить? Как можно не заметить дольник?
Я смутно помнила, что дольник – это довольно редкий стихотворный размер. Сейчас, когда пишу о том дне, заглянула в Краткую литературную энциклопедию и прочла: «Дольник… рус. стихотв. размер. Занимает промежуточное положение между силлабо-тонич. и чисто-тонич. системами стихосложения. Как и силлабо-тонич. размеры, Д. имеет ощутимый внутр, ритм, образуемый чередованием сильных мест (иктов) и слабых мест (междуиктовых интервалов)…» Дальше пропускаю много строк и в конце заметки выясняю, что «пример четырехиктового Д.» – одно из моих самых любимых стихотворений Блока: «Девушка пела в церковном хоре / О всех усталых в чужом краю, / О всех кораблях, ушедших в море, / О всех, забывших радость свою…»
Но читаю я с интересом про дольник теперь, много лет спустя. А тогда я встала и ушла из аудитории, где проводилось собрание.
Литературоцентричность, по-моему, невыносима, особенно когда в мире что-то происходит. Может быть, «пикейные жилеты», болтающие о политике, – смешны. Но еще смешнее литераторы со своими «дольниками».
P.S. Вот написала про советскую школу перевода, вспомнила кое-кого из людей, переводивших с подстрочников «восточную литературу», и кое-кого из коллег, переводивших с европейских языков. Но даже не упомянула две ключевые фигуры переводчиков, которых удалось повстречать на моем долгом веку.
Не попыталась я рассказать о поэте Арсении Тарковском, о том, кто «продал за чужие слова» свои «лучшие годы» (см. эпиграф к этой главе). Какой это был красивый человек! И как грустно сложилась его судьба. Храню подаренную мне книгу стихов Тарковского, буквально исписанную его аккуратным почерком. Карандашом он восстанавливал свои стихи, не пропечатанные в этом бракованном экземпляре. Лежа, больной!
Не рассказала я и о блестящем Льве Гинзбурге, нашем с мужем друге. Это был человек огромного таланта. А как он умел смеяться над самим собой! И как честно делал свое дело – переводы с немецкого. И не только с немецкого, но и со староверхненемецкого, с языка Средневековья. Чудесным образом Лева воскрешал поэзию людей, живших триста – четыреста лет назад. Воскрешал песни, которые они слагали. В его переводах эти песни становились песнями протеста. И их пели советские студенты в конце злосчастного XX века… Да и книгу воспоминаний «Разбилось только сердце мое» Лев написал замечательную.
Глава X. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С БЁЛЛЕМ
1. Первые встречи
Заголовок этой главы подсказал сам Бёлль, его роман «Групповой портрет с дамой»… И вправду – говорить о Бёлле в России, где он оказался едва ли не более знаменитым, чем у себя на Родине, нельзя без того, чтобы не попытаться создать (скорее, наметить) некий «групповой портрет»…
Вот я и попытаюсь. Но, поскольку речь идет о переводах, сперва сделаю l ноего рода переводческую врезку.
Бёлль был звездным автором не только для меня. Он занял почетное место и в «послужном списке» Лилианны Лунгиной, хотя она перевела всего лишь некоторые его рассказы, собрав их в сборник183. Бёллевский роман «Глазами клоуна» перевела и вовсе ас «советской школы перевода» Рита Райт184, о чем всегда говорится при упоминании ее заслуг. Прекрасная переводчица Соня Фридлянд совершила благое дело: познакомила советского читателя с публицистикой Бёлля – с его «Ирландским дневником» (опубликованным в «Новом мире»)185. В переводе Фридлянд в соавторстве с Португаловым186 вышел и замечательный антифашистский роман Бёлля «Дом без хозяина»187. В свою очередь 11ортугалов в соавторстве с редакторшей Худлита Гимпелевич188 перевел ранний роман Бёлля «Где ты был, Адам?»189. Насколько я знаю, Португалов воспитывался в Германии, стал двуязычным и был журналистом-международником, то?сть, как никто другой, разбирался в проблемах западногерманского общества того времени. К сожалению, на Бёлле переводческая карьера Португалова закончилась. Португалов не принадлежал к «советской школе перевода». И не мог ебе позволить ждать, пока его туда «примут». Он, насколько я знаю, занялся переводами политических текстов на немецкий язык. Это была постоянная >абота, и она приносила постоянный заработок.
Боюсь, что в первое время не только Португалову, но и мне давали возможность заниматься Бёллем лишь по одной причине: никто не предполагал, по Бёлль станет у нас одним из самых тиражных писателей, не предвидел, что бёллевские переводы будут приносить и известность, и деньги. Впрочем, слово «деньги» в советском мире произносить было зазорно. Разве мы работали за деньги?
Однако вернусь к переводам Бёлля. Повесть или, скорее, короткий роман (в немецком языке нет слова «повесть») «История одной командировки» перевела Наталия Ман, можно сказать, глава клана переводчиков с немецкого190. Наконец, поздний роман (повесть) Бёлля «Потерянная честь Катарины Блюм» перевела Е. Кацева191. Она же перевела и несколько его политически острых статей и памфлетов.
Совсем позднего Бёлля переводил и такой амбициозный переводчик, уже не моего, а более позднего призыва, как М. Рудницкий192.
Других имен я не стану называть, ибо Бёлль написал огромное количество прекрасных рассказов, которые часто появлялись на страницах наших журналов. Рассказы переводили и перечисленные выше люди, и другие переводчики.
Не стану я называть и фамилий переводчиков, которые по воле составителей Собрания сочинений Бёлля пере-перевели произведения, которые вышли ранее в моем переводе… Пусть сами себя называют.
Итак, Бёлля переводили многие. И все-таки хочу похвастаться – основным переводчиком Бёлля была я. Чтобы не быть голословной, перечислю бёллевские книги, переведенные мной. Я перевела короткие ранние романы для Издательства иностранной литературы: «И не сказал ни единого слова…» и «Хлеб ранних лет»193. Замечательные произведения, давшие старт небывалой популярности Бёлля в России. Позже перевела еще два коротких романа для «Молодой гвардии» – «Поезд прибывает по расписанию» и «В долине грохочущих копыт»194. Перевела ключевой, на мой взгляд, бёллевский роман «Бильярд в половине десятого», а также роман «Глазами клоуна»195. «Глазами клоуна» напечатал в переводе Р. Райт журнал «Иностранная литература». Но и я переводила его по договору с издательством «Иностранная литература». Когда журнал вышел, Е. Блинов отказался расторгать договор со мной. Перевод был опубликован и много раз переиздавался. Для «Нового мира» я перевела и недооцененную, по-моему, у нас «Самовольную отлучку»196 – короткий роман, в котором Бёлль с сарказмом, даже с откровенной ненавистью расправляется с тем, что мы называем иногда «казарменным духом», иногда солдатчиной, иногда пруссачеством, иногда солдафонством, – словом, с немецкой идеологией милитаризма, даже в ее, казалось бы, самом безобидном обличье – с восхвалением солдата, когда он всего лишь отбивает строевой шаг на казарменном плацу.
И, наконец, я перевела чрезвычайно важный для творчества Бёлля роман «Групповой портрет с дамой», который был опубликован в «Новом мире»197. К глубокому моему сожалению, в «Новом мире» уже без Твардовского…
Роман «Групповой портрет с дамой» поставил точку в моей дружбе с Бёллем. Очень тяжело об этом вспоминать. Еще тяжелее писать. Но без этого «группового портрета с Бёллем» не получится.
А теперь начну с начала…
Начало было неправдоподобно хорошее… Почти «оттепель». Муж, член редколлегии престижного журнала «Международная жизнь», отбыл в свою первую командировку в Западную Германию. Полетел один, без «искусствоведа в штатском», как тогда говорили, то есть без гэбэшника, стало быть, может встречаться с кем хочет. Железные правила для командированных, видимо, еще не установлены. Командировки в капстраны пока в диковинку.
На дворе не то поздняя весна, не то уже лето. И мы с Аликом в благословенном Коктебеле.
И вот за несколько дней до отъезда я получаю письмо от Д.Е., который накануне прилетел в Москву из Бонна. Не телеграмму: «Приехал жду целую»,
Письмо Д.Е. в Коктебель я обнаружила совсем случайно. Даже меня оно удивило своей осторожностью и безликостью. Даже я уже забыла, как мы были осторожны и зажаты в те далекие годы. Но все равно я почувствовала: муж счастлив, полон впечатлений от своей поездки, жаждет поделиться всем увиденным. И в первом же абзаце письма… Бёлль.
«Дорогая Люсенька!
Вернулся только пятого – посол продлил мое пребывание в Зап. Германии па неделю. Это было очень хорошо, т. к. иначе я бы ничего не успел сделать. () моей поездке можно написать целую книгу, и, может быть, это и удастся сделать. Но это тема не для письма, а для разговора. Хочу тебе только сказать, что встретился с рядом писателей, прежде всего – с Бёллем. У Бёлля я был на квартире и имел с ним многочасовую беседу. Он подарил мне несколько своих книг с посвящениями (мне и тебе – отдельно). Это очень интересный человек, глубоко переживающий все происходящее вокруг него. Но это опять-таки тема для разговора, а не для письма».
Впору удивиться, почему сразу о Бёлле. Ведь Д.Е. – историк по образованию, международник по профессии. Его «всё» – это отнюдь не литература, а текущая политика. Теперь бы его назвали политологом. Он и был блестящий политолог в СССР, где о своей оценке тех или иных политических событий нельзя было даже заикнуться… Но меня сообщение о визите к писателю Бёллю не удивило, а тронуло. Задним числом я поняла, что муж сильно переживал за меня. И дал понять, что Бёлль может стать той соломинкой, уцепившись за которую я смогу вернуться к полноценной работе.
Уже в следующем абзаце Д.Е. ставит все точки над «i».
«Книг я накупил много (около 30 шт.). Все, безусловно, интересны, но, конечно, далеко не все годятся для перевода. Тут надо будет сделать тщательный отбор и потом начать предлагать их. Работа, как ты видишь, предстоит большая – надо все прочесть, обменяться мнениями и начать действовать…»
Вот какой у меня деловой супруг. Сразу наметил программу действий и намерен осуществить ее незамедлительно. Сказано – сделано! Но это только на бумаге… На самом деле у него другая роль. Д.Е. – стратег. Я – исполнитель. Так уж повелось с самого начала нашего брака. И в ТАССе в отделе контрпропаганды, где я у него работала, Д.Е. придумывал темы, а все мы, сотрудники отдела, превращали эти темы в конечный продукт.
Прошло полгода, может год, и Бёлль снова появился в нашей с Д.Е. жизни. Появился весьма весомо, грубо, зримо. В роли щедрого дарителя. На адрес нашей немыслимой коммуналки – Цветной бульвар, д. 18 – мы получили извещение о посылке из Западной Германии на имя Lusja Melnikow. Посылка эта – два ящика книг о фашизме – поистине весома. Я еще скажу в главе «Главная книга», что этот бёллевский дар определил нашу судьбу в 60-х годах. Без него мы не смогли бы написать свою главную книгу «Преступник номер 1», а может, и вообще не занялись бы немецким фашизмом. Теперь добавлю к этому еще одну деталь – подарок был дорогой: прожив при рыночной экономике два десятилетия, я в полной мере оценила смысл этого слова. Бёлль прислал почти незнакомому человеку, Д.Е., целую библиотеку отличных дорогих книг. А уж что касается выбора авторов, то тут и слов нет. Буквально все ключевые труды по национал-социализму в Германии оказались в наших книжных шкафах. До 90-х годов они лежали в СССР в спецхранах, а значит, были мне, отлученной от «допуска» к секретным материалам, вообще недоступны. А посылка от Бёлля пришла еще в 50-х.
Конец 50-х и последующие 60-е были для меня как для переводчика самыми продуктивными. И опять же они связаны с Бёллем. Тогда я с огромным увлечением переводила его романы.
Вполне отдаю себе отчет, почему именно Бёлль стал моим самым любимым автором. Конечно, Бёлль замечательный писатель. Но не только это привлекало к нему меня и сотни тысяч русских читателей (Бёлля издавали у нас огромными тиражами)…
Чтобы понять феномен Бёлля в России, а это, ей-богу, был феномен, надо перенестись на полвека назад, в далекие годы «оттепели», XX и XXII съездов, Никиты Хрущева и далее, в годы разрядки и раннего Брежнева, еще не впавшего в маразм.
Для моего поколения это было время сплошных открытий… Хотя оно (мое поколение) уже давно перевалило за «середину жизни» – по Данте, это 30 лет. А мы все открывали и открывали то, что теперь, вероятно, известно каждому старшекласснику.
В частности, я, муж и наши друзья-гуманитарии открывали целые пласты русской культуры: поэзию Серебряного века, Бунина и Мандельштама, Набокова, Марину Цветаеву и Платонова. Уже в 1962 году Твардовский напечатал в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Еще раньше мы прочли в самиздате «Теркина на том свете» Твардовского198 и примерно тогда же – 25 великих стихотворений Пастернака из «Доктора Живаго», в том числе «Гамлет», «Август», «Свидание», «Зимняя ночь» и другие, распространявшиеся в списках. И только в 1966 году журнал «Москва» опубликовал «Мастера и Маргариту» Булгакова.
Многое в те годы напечатали в СССР впервые. И многое проникало из-за границы. Впервые. Почему-то все вспоминают джинсы «Levis» и фарцовщиков, которые этими «Levis» «спекулировали», но забыли, что и изданные за рубежом книги, то есть тамиздат, тоже были контрабандой. До сих пор храню тамиздатовский «Котлован» Платонова – каждая страница в этой диковинной книге напечатана и по-русски, и… по-английски.
Но чаще всего читали догутенберговские машинописные (под копирку) издания. Печатались запрещенные книги и в виде фотокниг на фотобумаге, но они были неудобочитаемы, и их трудно было хранить (прятать!).
Машинописные книги стоили дешево: деньги брали только за то, чтобы оправдать труд проверенных машинисток, это были пожилые бессребреницы – сколько шедевров прошло через их разболтанные, неподъемные «ундервуды». 11амятник Иоганну Гутенбергу стоит в Майнце – видела его своими глазами; памятник первопечатнику Ивану Федорову – в Москве. Если бы мэром была я, то уж точно поставила бы памятник незабвенной Юлии Исаковне в переулке у проспекта Мира, где она жила. «Машинистки моего круга, – говорила Ю.И., – больше двадцати пяти копеек за страницу не берут». Все другие машинистки брали тогда по 40–45 копеек.
На нас буквально хлынул поток запрещенных ранее книг, в том числе и иностранных авторов, многие из которых были известны нам только по фамилиям. Их начали переводить и с огромным трудом печатать.
Вспоминаю, что как-то мне попались на страницах «Нового мира» рассказы итальянского писателя Альберто Моравиа. Рассказы эти с итальянского перевела Злата Потапова, бывшая ифлийка199. Один рассказ – названия не помню – застрял у меня в памяти на всю жизнь. Герой этого рассказа – официант – потерял работу, обнищал и опустился, но, как он утверждал, исключительно по собственной вине. Много лет бедняга безмолвно слушал глупую болтовню посетителей ресторана, сжав зубы, сносил хамство людей, которых обслуживал. И вдруг стал шевелить губами… Дальше – больше: шепотом прокомментировал чью-то плоскую шутку, вполголоса возразил подвыпившему идиоту, обругал грубияна… И вот его уже прогнали взашей. Мораль ясна – нельзя шевелить губами.








