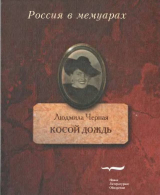
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 47 страниц)
Я перечислила только, так сказать, коренных жителей дома 14. Кроме них были еще и «пришлые». Как происходило вселение пришлых в квартиры коренных жильцов – не помню. Была слишком мала. Но помню, что две комнаты, занятые пришлыми в нашей квартире, по словам родителей, принадлежали до революции нам. Одна из них и была моей детской. В ней теперь поселились прачка Шура с мужем Пашей. Шура поражала маму своими габаритами: была очень высокая и носила башмаки не то 42-го, не то 43-го размера, что казалось маме просто невероятным. Муж Шуры милиционер Паша был, напротив, весьма щуплым мужчиной. Пашу взрослые называли «подкаблучником» – Шура им «командовала». Но Паша вскоре умер, кажется, от гнойного аппендицита. А с Шурой мы продолжали мирно сосуществовать. Шура стирала наше постельное белье в корыте на кухне. Это называлось «большая стирка». В комнате Шуры стояла огромная кровать с никелированными шишечками, в изголовье кровати лежала груда подушек с кружевной накидкой, низ кровати был украшен подзором.
Во второй отобранной комнате жила работница Даша. Иногда Даша приводила кавалеров. Когда кавалер должен был ее посетить, по всей квартире разносились разнообразные запахи: пахло каленым железом от гревшихся на примусе щипцов для завивки волос, жжеными волосами и райски пахло жаренным на постном масле луком. У нас жарили на «русском» (топленом) масле. Даша была хмурой, малосимпатичной женщиной – не то что добрячка Шура.
Наша жизнь с Шурой и Дашей продолжалась, как мне кажется, довольно долго. Но вот однажды папа пришел с собрания домкома не столько огорченный, сколько смущенный. Оказалось, что он вроде бы добровольно отдал нашу третью комнату, кабинет. Папа мой часто увлекался и совершал, мягко говоря, необдуманные поступки. Он отнюдь не был булгаковским профессором Преображенским и тушевался перед «швондерами». Более того, хотел с ними дружить. В общем, нас опять уплотнили. В 20-х годах понятие «уплотнение» было таким же важным, как в дальнейшем при советской власти «отоваривание», то есть покупка самых необходимых продуктов. Только термин «отоваривание» воспринимался со знаком плюс, а термин «уплотнение» – со знаком минус.
Второе уплотнение произошло точно по Зощенко. Тех, кто жили в «хижинах», вселили во «дворцы», а тех, кому «дворцов» не хватило, – в квартиры других граждан. Нашим новым жиличкам «дворца» явно не хватило, и они поселились в папином кабинете, где до того лежал большой красный ковер. Мне было лет пять. И я вдруг оказалась у себя во дворе в центре внимания. Интрига была в том, что новые жилички будто бы были коммунистками. А в нашем церковном дворе никто сроду ни одного коммуниста не видел. Разве что на портретах. И вот всем захотелось посмотреть на живых коммунисток.
Как коммунистки въезжали – не помню. Но их самих помню, словно я рассталась с ними только вчера… Одна коммунистка была, впрочем, не коммунисткой, а вовсе беспартийной. Обе были не в кожанках с маузерами на боку, даже не в красных платочках. Коммунистка оказалась крупной женщиной с зычным голосом. Звали ее Цирой Абрамовной. Вы догадались – она была еврейкой. Да простят меня все евреи в Москве, Нью-Йорке, Иерусалиме и в других городах и весях, но первая коммунистка, увиденная мной, была еврейкой. И к тому же, как я потом поняла, шумной и бесцеремонной. Но я, как знаменитая Нина Андреева, не могу поступиться принципами: взялась писать правду и пишу ее. Напарницу Циры звали Соней. Софьей Григорьевной. Соня была маленького роста и курносая – в отличие от носатой Циры. Каким ветром занесло этих девиц на нашу жилплощадь в наш дом – понятия не имею. За какие заслуги большой Цире и миниатюрной Соне дали ордер в Москве? Цира, кажется, где-то служила, Соня, по-моему, не работала. Впрочем, Соня меня тогда не сильно интересовала. А к Цире интерес был чисто локальный. В Цире меня поражали какие-то сверхъестественно густые черные волосы, закрученные в странную прическу. Соня была стриженая, что тоже у нас во дворе считалось непорядком. Меня коротко стригли, мне это полагалось – я была маленькая. Взрослые же носили пучки. Конечно, не такие, как Цира. Как теперь понимаю, Цира и Соня были бедными девушками, мебели у них, кажется, не водилось, во всяком случае, шкафа платяного не было – платья висели за простыней. А у Шуры и Даши были настоящие «шифоньеры». Шура, когда не стирала, готовила на примусе обед. Даша по вечерам жарила картошку на постном масле. Наша прислуга Поля каждый божий день стряпала. А коммунистки вообще не показывались на кухне.
В патриархальный дом новые жильцы никак не вписывались. Не принято было, чтобы не родня, а посторонние люди жили в одной комнате. Тем более что никто не понимал, почему барышни говорили, что у них «все общее». Как-то я подслушала разговор взрослых. Кто-то рассказывал: «И вот я Циру спрашиваю: “А как вы поступите, если к вам придет в гости, ну, сами понимаете, ухажер?” А она отвечает: “Тогда Соня пойдет погулять”. – “А если мороз будет?” – “Постоит в парадном”». И все рассмеялись и покачали головами. Дескать, и впрямь у коммунистов, наверное, общие жены и мужья. Это я сейчас так понимаю смысл разговора. А тогда смысла не улавливала. Но сочувствие мое было на стороне жиличек. Ничего предосудительного в проживании Циры и Сони в одной комнате я не видела. Зачем бежать на мороз? Подумаешь, гость!
Невдомек мне было, что в том разговоре отразилась схватка двух мировоззрений – отсталого мировоззрения нашего двора и передового советского, которое у нас представляли Цира и Соня. Не знала я и того, что за спиной новых жиличек стояла поистине «могучая кучка» таких дам, как Инесса Арманд, Александра Коллонтай, Лариса Рейснер, Мария Андреева, Бетти Глан, сестры Виноградские и многие-многие другие. Их теперь называют в прессе «валькириями», но я бы скорее вспомнила не древнегерманские саги, а нашего замечательного писателя Н.С. Лескова и его «воительницу» – Домну Платоновну, женщину энергичную, предприимчивую, но весьма склочную и даже бессовестную.
Все перечисленные выше валькирии-воительницы пришли из Серебряного века, были высокообразованными женщинами, знали языки, владели пером, а их донжуанские списки сплошь состояли из выдающихся мужчин – Инесса Арманд была любовницей Ленина, красавица Мария Андреева, актриса МХАТа, на которую заглядывался и Чехов, – возлюбленной Саввы Морозова и 18 лет гражданской женой Горького. Лариса Рейснер крутила романы с Гумилевым, с коммунистом Раскольниковым, а потом с неказистым, но блестящим острословом Радеком. Самая радикальная из этих дам – Александра Коллонтай, генеральская дочь, была замужем за могучим матросом Дыбенко, моложе ее лет на 20. А прочим любовным связям вообще не придавала значения; для нее половой акт – «глоток воды» в жаркую пору, а толстовская Наташа Ростова – «мещанка» и «самочка». Все это, однако, не помешало ей стать крупным советским дипломатом.
Во времена моего детства валькирии боролись за равноправие в любви, за «дома-коммуны», за новый быт и призывали не воспитывать детей в семье, а отдавать их в коллектив, а бойфрендов менять почаще. Впрочем, эта напасть, по имени «женская эмансипация», охватила отнюдь не только молодую Советскую республику. Умнейшая Нина Берберова, эмигрантка, в своей книге «Курсив мой» писала, что ей омерзительна «психология гнезда», то есть семьи. «Теплому гнезду» и «инкубатору» Берберова противопоставляла «муравейник». Производственный коллектив, что ли? Или коммуну по месту жительства?
Разумеется, Цира и Соня были шестерками в той колоде карт. И ничем хорошим их передовая жизнь вдвоем в своеобразной коммуне кончиться не могла. Они рассорились, разругались, стали смертельными врагами. После этого Цира получила комнату на втором этаже, в квартире, где жили Веселовские. Очевидно, подошла и их очередь на вторичное уплотнение. А Соня опасно заболела, у нее открылся туберкулез. Она говорила, что ей «поддувают» легкое. Лечение это называлось «пневмоторакс». При туберкулезе нужно хорошее питание – молоко, масло, какао… и Соня поменяла комнату на меньшую, с доплатой. Уезжала она в хорошем настроении – говорила маме, что каверна у нее рубцуется, что она выздоравливает… Соня исчезла. Но вместо нее в нашей угловой комнате поселилась целая семья. Цира продолжала жить на втором этаже. Волосы она обесцвечивала перекисью, и от этого они стали разноцветными – макушка черная, пучок рыжий. К ней ходил толстый мужчина в кожаных крагах. Когда он появлялся во дворе, люди говорили: «Он – к Цире». Потом у Циры родился мальчик, она назвала его Ким (Коммунистический интернационал молодежи). И имя Ким, и то, что отец Кима не жил с ним, удивляло нас. Но когда Ким подрос, я уже училась в школе, и Цира перестала меня интересовать. Кажется, она родила еще одного ребенка, но мужчина в крагах к тому времени ходить перестал. Помню только, что, свешиваясь из окна, она очень громко кричала: «Ким! Ким! Домой! Сейчас же! Кому я говорю!»
Оглядываясь далеко назад, я понимаю, что советская власть, забросив из глухой провинции в Москву двух молодых женщин и внушив им всякую чепу-ховину насчет свободной любви, эмансипации и «бога нет», обошлась с ними жестоко. Соня, затерянная в огромном городе, без семьи, без родни и корней, больная, вряд ли была счастлива. Цирина жизнь тоже не сложилась. Безусловно, и она, и ее дети пережили все унижения государственного антисемитизма в послевоенные сталинские годы.
Бедная коммунистка Цира, бедная Соня, не в добрый час вы отняли у нас папин кабинет. И над вами «призрак коммунизма» здорово подшутил.
Зафилософствовалась… Пора вернуться на третий этаж кирпичного дома в Хохловском переулке. Вернуться и посмотреть, что же осталось у родителей от их пятикомнатной квартиры. Вы уже догадались, что комнат было пять? Это, казалось бы, нечто роскошное. Однако квартира папы с мамой была на самом деле скромной. Думаю, не намного больше моей нынешней трехкомнатной, в которой я живу одна. После двух уплотнений у родителей осталось всего 28 метров. Я смело называю эту цифру, ибо папа без конца повторял, что две комнаты в 28 метров – это очень даже неплохо. Папа был оптимист. На самом деле это было очень даже плохо. Особенно когда я выросла и мне пришлось жить с мамой в одной комнате. Папа потребовал себе отдельную «жилплощадь».
Итак, уже первая квартира, которую я помню, была коммуналкой. Правда, из трех коммуналок, в которых мне довелось жить, эта оказалась самой лучшей.
И все же теснота нас преследовала. В детстве меня клали спать в столовой на раскладушке. Раскладушка была не похожа на теперешние раскладушки – она представляла собой две палки, на которые была натянута парусина, и складывалась как книжка. Раскладушку ставили между обеденным столом и сервантом, подперев изголовье тяжелым стулом. Когда приходили гости, меня отправляли в спальню. Там я спала до ночи в маминой кровати, а потом папа переносил меня сонную в столовую, и во сне я прижималась лицом к родному папиному лицу, к его рыжим усам, от которых пахло табаком.
Вся предназначенная для одной семьи квартира, в которой поселились четверо самых разных «квартиросъемщиков», быстро запаршивела. В довольно просторной прихожей громоздились сундуки. Коридор тоже захламили. В кухне на дровяной плите – ее топили теперь очень редко, на Пасху или в мой день рождения, когда в духовке пекли крендель, – стояло несколько примусов. У каждой хозяйки был свой примус.
Если бы мне предложили назвать символ той старой Москвы, я, не задумываясь, назвала бы не красную звезду, не серп и молот, не собор Василия Блаженного, а Его Величество Примус. У хороших хозяек его латунный корпус горел, как пасхальные ризы, а денатурат, которым разжигали примус, был синим – как небо на картинах Боттичелли. Примус уважали: накачивали и прочищали. Он считался опасным, мог взорваться. Примус ни в какое сравнение не шел с жалкими керосинками и керогазами, которые коптили и воняли.
Хвала примусу – символу домашнего очага в довоенной Москве… Недаром кот Бегемот у Булгакова в «Мастере и Маргарите» во время схватки с доблестными чекистами не выпускает из рук примус – то якобы «починяет» его, то летает с ним под потолком в «нехорошей квартире», даже берет его с собой к «Грибоедову». Примус для котяры – талисман.
Но это так, небольшое отступление.
На московских кухнях стояли обычно четыре или пять тумбочек-шкафчиков. У нас тумбочки заменяла наша дровяная плита. И еще на кухне часто стирали. Хуже всего пришлось ванной комнате. На полу в ванной были навалены дрова (дровяная колонка), а стены увешаны корытами и тазами. Впрочем, ванная в годы моего детства не играла той роли, какую играет сейчас.
В начале XX века не только у нас в доме мылись не чаще раза в неделю, но, по свидетельству В. Ходасевича, даже на вилле Горького в Сорренто не было ванной. И классик договаривался с владельцем соседней виллы о том, что его многочисленные домочадцы и гости будут приходить к этому господину по субботам со своим бельем и банными полотенцами. Не знаю, как у соседа Горького, но нашу ванну все труднее было отмыть. И мылись в ней, что называется, только по большим праздникам… Впоследствии в коммуналках висело расписание – когда кому убирать, когда кому мыться. В Хохловском переулке до этого еще не додумались. У себя убирали тщательно, а в «местах общего пользования» ленились. Дом опускался буквально на глазах.
И все же центральное отопление работало бесперебойно, и в доме было всегда тепло, несмотря на тогдашние двадцатиградусные морозы. И из окон не дуло, хотя рамы были не немецкие, не пластиковые, а обычные деревянные, русские. И электрические лампочки честно светили, не перегорали. Даже замки и ключи исправно работали, двери открывались и закрывались, не портя нам нервы. И крыша не протекала. И квартиры не заливало. И дворник подметал утром и вечером. И его не выписывали из ближнего зарубежья, он был свой, местный. И даже телефоны, поставленные шведской фирмой «Эриксон» (что, как нас долго уверяли, свидетельствовало об отсталости царской России), функционировали намного лучше, чем наши телефоны сейчас, в XXI веке. Правда, они были неавтоматические: поднимая трубку, вы слышали голос «барышни» и называли ей нужный номер, с которым она вас соединяла. Процедура эта была мгновенная, и «барышни» не хамили – еще не разучились быть вежливыми и предупредительными… Да, это был бедный, перенаселенный дом. Дом, опоганенный коммуналками. Но его построили и обслуживали совестливые люди.
Люди, которые еще не научились за долгие годы советской власти обманывать, красть, ненавидеть, унижать, вымещать зло на слабых, стараться показать, что вы в их руках: хочу – починю кран у вас на кухне, а хочу – уйду на десять дней в запой; хочу – наклею обои, а хочу – сдеру старые, возьму задаток и исчезну навсегда…
Наверное, отчасти этому дому я и обязана запасом прочности, благодаря которому прожила такую долгую жизнь и не утратила способность радоваться каждой мелочи. Конечно, и мои родители вдохнули в меня жизнелюбие, хотя они были не очень счастливы и очень растерянны, особенно в первые 10 лет моей жизни. Возможно, помог и рыбий жир – его я безропотно принимала два раза в день, заедая корочкой черного хлеба с солью, и козье молоко, которое, впрочем, пила не я, а Оля, младшая сестра нашей домработницы Поли. Оля довольно долго жила с Полей в пятиметровой комнате при кухне. За молоко я отдавала Оле печенье, если оно доставалось мне за обедом.
Ну а что еще помогало девочке Люсе в минуты жизни трудные? Может, двор? Патриархальный, зеленый московский церковный двор. Он казался мне огромным, в нем было множество закоулков – и каждый из них я открывала, как Колумб Америку. Все здесь определяла церковь…
Да, церковь. Высунувшись из окна квартиры, я, девочка, без конца рисовала эту скромную, даже смиренную церквушку. До сих пор она стоит у меня перед глазами в том ракурсе, в каком я тогда ее видела: впереди полукруглый алтарь, справа высокие стрельчатые окна, забранные решетками, слева притвор с колокольней.
Только недавно я узнала, что наша церковь называлась храмом Святой Троицы Живоначальной и что она была заложена в 1696 году на месте еще более древнего храма и выстроена в стиле нарышкинского барокко, узнала, что стены ее были украшены изразцами с херувимами работы Степана Полубеса. Прочла и вспомнила, что в желтые стены церкви и впрямь были вкраплены зеленые изразцы.
В первой половине 30-х годов прошлого века церковь закрыли, чтобы, как нам сказали, превратить ее в общежитие Метростроя. К моему великому стыду, я не только не пролила ни слезинки, но, кажется, даже подумала, что церквей в округе хватает, а метро москвичам нужнее. И во дворе стали говорить, что церковь не такая уж древняя… В 80-х церковь стали восстанавливать и прежде всего позолотили купола. А в мое время купола были зеленые, крашеные, и, ей-богу, именно это придавало церкви особое благолепие.
В 20-х годах и в нашей церкви, и в других еще звонили колокола. И над Москвой плыл малиновый звон.
Мне в церковь запрещали ходить родители. Но когда я немного подросла, то все же потихоньку пробиралась с другими ребятишками внутрь. В храме было красиво и торжественно. Суть богослужения я, разумеется, не улавливала, но атмосфера этой небольшой заштатной церквушки действовала на меня тогда не меньше, чем атмосфера огромных, всемирно известных католических соборов, в которых я как туристка побывала уже на склоне лет…
Стоп. На этом месте я должна расширить первоначальный текст. В сентябре-октябре 2010 года церковь Святой Троицы в Хохловском переулке отпраздновала свое четырехсотлетие! И чисто случайно – многое в жизни случайно – юбилейные буклеты и письма, которые были разосланы «дорогим соседям», то есть людям, проживающим в близлежащих от церкви домах, попали ко мне.
О, как красиво и почтительно изложена в них история церкви «в Хохлах», а заодно и доходного дома, в котором я прожила первые двадцать лет жизни. Не могу не процитировать:
«В 2010 году исполняется 400 лет храму Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. На “Сигизмундовом плане” Москвы, датированном 1610 годом, он обозначен уже существующим, следовательно, стоял он еще и раньше в Московском переулке, между стенами Белого и Китай-города, среди утопающих в зелени старых садов. Есть уверенное предположение, что деревянная церковь была на этом месте еще в первой половине XVI века… История храма связана с династией Романовых. В нем творилось поминовение матери Михаила Романова – великой инокини Марфы, которую следует считать покровительницей храма. Она щедро жертвовала на храм в память о поездке с сыном на богомолье в Свято-Троицкий монастырь в 1613 году.
Современный храм заложили 14 апреля 1656 года. Конструкция храма типична для древнерусской архитектуры XVII века – восьмерик на четверике. Барабан украшен изразцами под ажурными каменными фризами, окна – с резными наличниками. Эти черты декоративного убранства несомненно относят его к уже немногочисленным шедеврам “московского барокко”. <…> Окончательный ремонт произвели только в 1826 году…»
И тут авторы буклета с грустью признают то, о чем я уже догадалась сама: Троицкая церковь была бедной… Поэтому в 1913 году во дворе был возведен трехэтажный «приходский» доходный дом – чтобы храм мог кормиться.
И далее: «Храм был закрыт в 1935 году и передан Государственному институту антропологии (все-таки, по-моему, научный институт предпочтительнее, чем общежитие. – Л.Ч.). Внутреннее пространство обезглавленного и разоренного храма перестроили под нужды хранилища скелетов и костей (туалет сотрудников оборудовали в алтаре). Подвал доходного дома поделили на крохотные комнатушки, в одной из которых ютился клирик Иоганно-Пред-теченского монастыря о. Алексей Скворцов. В 1938 году он погиб в лагере для политзаключенных и впоследствии был причислен к лику новомучеников и исповедников российских».
Про о. Алексея Скворцова не слышала. А насчет клетушек нечего удивляться. Дом был перенаселен, и даже подвал пришлось перегораживать.
Дальше идет рассказ о новой истории, то есть о возрождении церкви. Уже в 1983 году ее отреставрировали. В 1992 году состоялся первый молебен. «Восстановительные работы ведутся по сей день». Иконы старые пропали, новые пишутся нынешними иконописцами.
Такая вот долгая и печальная история с благополучным концом.
Несколько поразил меня состав «попечительского совета», учрежденного по случаю четырехсотлетия Троицкой церкви. Юбилейные торжества предполагались очень пышные – служить в храме должен был патриарх Кирилл. А в попечительский совет по случаю юбилея, не считая двух протоиереев: Алексия Уминского, нынешнего настоятеля церкви, и Сергия Романова, первого настоятеля храма в Хохлах после реставрации, вошли люди, как мне кажется, сугубо светские, никакого отношения к древней церкви не имеющие. Называю их в том порядке, в каком они перечислены в праздничном буклете: С.И. Кузнецов, глава управы Басманного района; поистине вездесущий Ю. Рост, фотохудожник; А. Рыбников, композитор; П. Лунгин, кинорежиссер; Ю. Арабов, писатель; С. Андрияка, художник; Е. Фесенко, директор издательства «Лингва Ф».
В общем, судя по составу, «нормальная» юбилейная тусовка, которая, по-моему, плохо вяжется с историей этой многострадальной церкви.
Не хватает мне в праздничном буклете и рассказа о трагическом периоде в истории Троицкой церкви и о ее фактически последнем настоятеле – священнике Успенском, нашем батюшке.
…В 30-х годах я еще жила в том приходском «доходном доме». Поэтому могу кое-что рассказать. Расскажу прежде всего о своем ощущении, а ощущение было такое: наша церковь погибала как-то очень достойно. Наверное, это объяснялось тем, что на редкость достойно вели себя Успенский и вся его семья.
Батюшка и его домочадцы жили рядом с нами в ветхом деревянном доме. Дом был мало что одноэтажный, но он еще, казалось, врос в землю. Окошки были над самой землей. Семья священника состояла из матушки – ее мы почти не видели – и трех дочерей. Две сестры были замужние, младшая – девица. Почему-то запомнила их в первый день Пасхи, не помню, какого года, в белых платьях, улыбающихся, красивых, приветливых.
Помню также, что в июне батюшка, наломав пышные букеты сирени, обходил квартиры и дарил сирень старым жильцам. Формально он уже не был хозяином дома, но все еще заботился о прежних своих подопечных… И еще: его очень огорчали кражи – в церковь регулярно забирались воры и уносили серебряную утварь и старинные иконы. Не помогала даже сигнализация, которую батюшка ставил на зарешеченные окна.
Теперь, в старости, понимаю, какой это был терпеливый, достойный и мудрый человек. Для каждого у него находились доброе слово и добрая улыбка.
Слава богу, Успенский умер еще до того, как церковь закрыли. На его место пришел другой священник, совсем молодой, по двору ходил уже не в рясе, а в костюме, но с длинными волосами. Про него во дворе тут же стали шептать, будто он подослан Америкой. Стало быть, Америка уже стала врагом номер 1. Странно! Ведь еще недавно, в годы нэпа, из Америки приходили продуктовые посылки. По-моему, их называли «посылки от АРА». В этих посылках были какао, шоколад и баночки со сгущенным молоком.
Однако новый священник быстро исчез… А всего дальнейшего я не помню.
Не знаю я и судьбу дома нашего батюшки. Понятия не имею, когда его снесли. На месте этого вросшего в землю домишки в 90-х возвели особняк. Я слышала, что этот особняк начал строить не кто иной, как Хасбулатов. Но не успел вселиться. И что живет в этом особняке кто-то из думцев.
Теперь, спустя много-много лет, уже на пороге смерти, догадываюсь, что у нашей древней церкви существовала могучая аура. Иначе как объяснить, что вся наша неверующая семья – пугливая и законопослушная мама, отец-еврей из довольно-таки патриархального дома и я, в свои 14 лет оголтелая комсомолка, преодолев страх, помогали… неизвестным нам церковникам.
Каким образом помогали? Попробую рассказать…
Сколько помню, у нас сушили и копили сухари, хотя никто из родни не был репрессирован. Хлеб в Москве всегда был, даже в конце 20-х и в начале 30-х, когда шла «сплошная коллективизация» и «уничтожение кулачества как класса». Но хлеб все равно по карточкам давали, правда черный и плохо пропеченный.
Куда шли сухари, я скоро догадалась. У нас в ту пору была домработница Варя[Вари их пугала. По той же причине и мама в 30-х уволила Варю. Однако доживала свой век Варя в Большом Власьевском, но не у нас, а у соседей по двору.]. Совершенно замечательная женщина, из тех людей, которых Флобер называл «простыми душами». Варя смолоду была послушницей, но монахиней не стала, так как монастырь закрыли.
И вот в закутке у нашей Вари в конце 20-х и в 30-х годах то и дело ночевали здоровые рослые парни – теперь сказали бы генофонд нации, – а сама Варя коротала ночь на коммунальной кухне. День-два мама парней кормила и поила, а потом красивые молодые мужики, появившиеся ниоткуда, отбывали неизвестно куда. Назывались эти парни «племянниками Вари». Но и я и другие обитатели квартиры понимали, что и Варя и вся наша семья скрывают либо священников, преследуемых властями, либо монахов из разоренных монастырей.
Не сомневаюсь, что и в других квартирах дома № 14 по Хохловскому переулку происходило нечто подобное. И никто никогда об этом не узнал.
Только много позже я сообразила: тот факт, что наша квартира и, видимо, весь наш дом стал как бы перевалочным пунктом для несчастных гонимых, отнюдь не был случайностью. Мы оказались как бы в одной связке с древней церковью. Кто-то сообщал бедолагам наш адрес, кто-то переправлял их к нам, а кто-то помогал отбыть в другое безопасное место.
Не стану объяснять молодым, каким рискам подвергались все действующие лица этой «цепочки»… Но, может быть, стоило бы помянуть в юбилейные дни церкви Святой Троицы в Хохлах Варю Горохову, нашу домработницу, простую душу…
Однако хватит вспоминать о церкви и о делах церковных.
Не мое это дело. Мое дело – жизнь девочки Люси в доме по адресу: Хохловский переулок, д. 14, кв. 5.
Итак, продолжаю…
Кроме самой церкви, ничего специфически церковного во дворе не замечалось. По-моему, это был обычный московский двор того времени.
Об «озеленении» Москвы речи тогда не было.
Тем не менее в июне во дворе буйно цвела лилово-молочная сирень, потом зацветали заросли пахучей акации, ее желтые цветы превращались в зеленые стручки, а из стручков мы, ребята, делали свистульки. Могучий клен хоть и не цвел, но был украшением двора. Осенью его большие листья-ладошки становились ярко-желтыми или ярко-красными, а летом из кленовых семян с крылышками получались носы, которые мы, дети, прикрепляли к собственному маленькому носу. С единственной одичавшей яблони мы рвали зеленые незрелые яблочки с белыми косточками и жадно грызли их, не брезговали и сморщенными паданцами. И еще я собирала с яблони толстых медлительных гусениц и прятала их в папиросные коробки, проделав в коробках дырки, – надеялась, что оттуда выпорхнут бабочки. Но, увы, тщетно надеялась.
Во дворе были еще две клумбы и два небольших газона; на клумбах каждый год цвели душистый горошек, табак, петунии. А на одной клумбе росла оранжевая лилия. Под вечер дворник поливал из шланга клумбы и газоны.
Однако часть двора оставалась незасаженной. Там, на земляной площадке, мы, дети, играли в традиционные детские игры: в мяч, в салочки, прыгали через скакалку, играя в классики, прыгали на одной ножке и, как положено, «водили» при игре в прятки: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать…»
Под вечер, когда взрослые возвращались со службы, на площадку выносили большой деревянный ящик с воротами, железными дужками, шарами и молотками, ставили «ворота» и «мышеловку» – две дужки крест-накрест, – и начиналась увлекательная игра в крокет. В ней участвовало мужское население дома. Мой папа играл средне, зарывался. Наш сосед Тебус – слишком осторожно. Лучше всех, азартнее всех играл Миша, сын дворника, живший в том же доме, что и батюшка. Выйдя в «разбойники», он сильным ударом молотка гнал чужой шар с одного конца площадки на другой. Складный, худощавый, ловкий и добрый Миша был моим героем. Иногда он хватал меня, поднимал высоко-высоко и сажал на плечи. И профессия у Миши была по тем временам героическая. Он водил поезда дальнего следования. Вел паровоз и всматривался в даль. И где-то из окна паровоза высмотрел себе девушку, дочку путевого обходчика, золотоволосую красавицу, и привез к нам в Хохловский переулок.
За клумбами и газоном у забора, отделявшего двор от громадного парка Межевой канцелярии, стоял дощатый стол, с трех сторон окруженный скамейками, ножки стола и скамеек были врыты в землю. Сейчас такие столы встречаются только на дачах. За столом по вечерам играли в шашки. «Козла» еще не «забивали». Лет в восемь-девять я стала чемпионкой двора по шашкам. Папа мной очень гордился, но почему-то не научил играть в шахматы. Побоялся, что это «отвлечет девочку»… От чего, собственно, отвлечет?
Днем за столом иногда собирались девушки со шкатулками, где лежали наперстки, ножницы, иголки и прочий девичий «инструмент», – все они делали одно и то же – мережку, чтобы украсить свои скромные батистовые кофточки, и пели при этом «Кирпичики» – тогдашний шлягер («…по кирпичику соберем мы кирпичный завод») – и чрезвычайно длинную песню «Как родная меня мать провожала». Слова этой песни, как я выяснила недавно, сочинил любимец Ленина и Сталина Демьян Бедный.
Описание двора было бы неполным, если не упомянуть двух собак, которые жили у нас. Одна собака, по имени Буржуйка, чистокровная дворняга, обитала в своей будке на заднем дворе около помойки (был еще и задний двор). Сын ее, красавец Трезор, как две капли воды похожий на овчарку, нес службу на переднем дворе, между столом и домом. Обе собаки, хоть и сидели на цепи, отличались добрейшим нравом, их все кормили и привечали, особенно дети.
Подытоживая предыдущие описания, скажу – хоть это и звучит странно в устах невоцерковленного человека, – жизнь Москвы в 20-х годах прошлого столетия определял малиновый звон, разносившийся по всему городу. Церковные колокола звонят медленно, как бы раздумчиво. Так же неторопливо, тихо текла жизнь обывателей в 20-х в Москве после Гражданской войны. Как сказано выше, она постепенно успокаивалась. И только в 30-х все опять пришло в неистовое движение, понеслось вскачь. Лозунгом дня стало «Догнать и перегнать Америку». Я даже знала семью, где мальчика назвали «Догнати», а девочку «Перегнати». Главным в жизни объявили темп, скорость. Бег с препятствиями.








