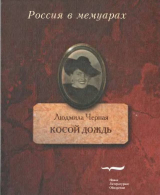
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц)
Не знаю, имели ли родственники Клары Цеткин в СССР какие-либо официальные привилегии типа спецмагазинов или спецстоловых… Но одна привилегия у Нины Цеткин безусловно была: она в совершенстве знала немецкий. Видимо, это был ее родной язык. А такие люди в Советской России, где фактически уничтожили дореволюционную интеллигенцию, изучавшую языки с младых ногтей, ценились на вес золота. Нина Цеткин заведомо не могла потерять работу. Это было, пожалуй, самой главной привилегией для интеллигенции в сталинской России.
После официального развода прошло много лет, прежде чем мы встретились с Борисом. У Бориса с Ниной уже было двое детей – дочка и поздний сын. Сына Борис обожал, водил на каток, катался с ним на коньках до старости.
Кажется, в 70-х годах мы стали с Борисом регулярно перезваниваться. В минуту жизни трудную я обращалась к нему, изливала душу. И это казалось и ему и мне само собой разумеющимся. Однажды Борис даже достал мне перевод «для денег». Иногда мы гуляли с ним по Москве, иногда он приглашал меня пообедать в ресторан, несколько раз совал билеты на какой-нибудь выдающийся западный фильм – Борис целую вечность проработал на «Мосфильме». Благодаря ему я посмотрела «Нюрнбергский процесс» со Спенсером Трейси и с уже постаревшей, но все еще прекрасной Марлен Дитрих.
Очень поддерживал меня Борис в первые годы после эмиграции Алика, то есть с конца 70-х. Как и все московские интеллигенты, он слушал по радио «вражеские голоса». А «голоса» часто сообщали о Комаре и Меламиде. И каждый раз Борис звонил мне и пересказывал то, что он услышал глубокой ночью, завершая свой пересказ словами: «У твоего сына все в порядке».
Нина Цеткин умерла раньше Бориса. Как и когда умер Борис – не знаю. Надо было бы связаться с его сыном. Но что я могу ему сказать?
У Бориса был особый душевный контакт с моей мамой – теперь понимаю, что они и впрямь были в чем-то похожи друг на друга. В частности, не только никогда не хвастались, но и никогда не говорили о себе. А большинство людей говорят преимущественно о себе. И многие, когда разговор переходит на других, тут же отключаются. Им про других – неинтересно.
Борис пришел на мамины похороны в 1968 году. Народу было совсем мало – с уходом из ТАССа мама потеряла все связующие нити с миром. Устроить себе новую жизнь с новыми интересами она, как сказано выше, не захотела. К нам домой на поминки Борис не пошел. Но Алик его приметил и спустя какое-то время спросил, кто это был? Я объяснила. Алик сказал, что Борис ему понравился. Сказал с некоторым даже удивлением. В год смерти мамы Алику минуло 23 года, уже появилась его будущая жена Катя и вся их компания критиканов-отрицателей. Меня эта компания считала, по-моему, дурой и деспотом – угнетала свою маму, угнетает бедного Тэка, папу Алика, и самого Алика тоже… Так что наличие симпатичного первого мужа даже несколько огорошило сына.
…Прошло еще много-много лет. И вот, когда мне стало под девяносто, я вдруг прочла в газете «Известия», что выходят мемуары кинорежиссера Сергея Соловьева и что он среди прочего рассказывает о встречах со старым мосфильмов-цем Борисом Кремневым, главным редактором у Пырьева, а потом у Арнштама.
В книге Соловьева «Начало. То да сё…» Борис – эдакий желчный старикашка-матерщинник, но высоконравственный человек. Соловьев тоже отметил необычайную скромность Бориса. В частности, рассказал, что о некоторых важных эпизодах его жизни узнал не от самого Бориса, а от его друзей – режиссера Льва Арнштама и композитора Исаака Шварца.
Оказывается, Борис в 1945 году уже в Вене, будучи в политотделе нашей армии, спас от расстрела Герберта фон Караяна, знаменитого немецкого дирижера. В изложении Соловьева этот эпизод выглядит просто и красиво. Просматривая списки пленных нацистов, которых собирались пустить в расход, Борис наткнулся на фамилию Караян и спросил, не дирижер ли этот Караян? Узнав, что пленный Караян, ожидавший расстрела, дирижер, велел привести его. Пленного со связанными руками и ногами привели, и Борис не только освободил ему руки-ноги, но и удостоверился, не пострадали ли драгоценные дирижерские запястья…
Боюсь, что история эта была на самом деле не такая простая. В расстрельные списки, очевидно, зачисляли смершевцы. И руководствовались при этом, как пишет Соловьев, прямым приказом Сталина. Согласно этому приказу, расстреливать надлежало всех пленных, получивших от Гитлера «Золотую» награду, по-нашему высокий орден. И вообще всех пленных, обласканных в Третьем рейхе. Караян, безусловно, принадлежал к числу «обласканных». И притом был не физиком-атомщиком и не Вернером фон Брауном, создателем немецкой ракеты ФАУ-2. Вернера фон Брауна мечтали заполучить и использовать и англичане, и американцы, и советские специалисты – в том числе младший брат Тэка Азар (Изя) Меламид.
Но кого из смершевцев мог взволновать дирижер, пусть и известный? Правда, со слов того же самого Арнштама, Караян будто бы сумел одурачить Гитлера, наплел ему, что только евреи могут виртуозно играть на смычковых инструментах, и тем самым спас множество евреев-скрипачей и виолончелистов. Верится с трудом. Гитлеровцы были не сплошь идиотами, и такую чушь им никто не решился бы впаривать. И Борису, очевидно, совсем нелегко было вытащить немецкого дирижера из рук смершевцев. Наверное, пришлось долго сражаться за него, подвергаясь вполне реальной опасности – ссоре с всемогущими смершевцами. Караян это, вероятно, понимал. Недаром, приехав в 60-х в СССР «живым, здоровым, в зените всемирной славы» (цитирую Соловьева), нашел в Москве Бориса Григорьевича.
Мне Борис об истории с Караяном не обмолвился ни словом.
Не знала я также о том, что он опубликовал несколько книг о великих композиторах прошлого, в том числе о Моцарте и Мусоргском. Соловьев это узнал от композитора Исаака Шварца, попутно заметив, что, даже прибегнув к детектору лжи, не вырвал бы из Бориса признания в том, что он был профессиональным музыкальным критиком, «тонким и прелестным».
P.S. Оглядываясь назад, пытаясь осмыслить события и поступки прошлого, я радуюсь тому, что в моей жизни был Борис. Как жаль, что я ни разу не сказала это ему, когда могла сказать.
И еще. Борис часто повторял слова, которые приписывал не то Гегелю, не то придумал сам: «Моя любовь к тебе. Твоя любовь ко мне. Наша любовь».
Глава IV. ВЫПУСКНИКИ. РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
Рассказ о Борисе – своего рода вставная новелла. В западноевропейской литературе, которую я, студентка ИФЛИ, изучала, – вполне обычное явление. Но напоминаю: основная тема предыдущей главы – ИФЛИ. А тема этой главы – ифлийцы. Я расскажу в ней о тех, кого наблюдала своими глазами, с кем дружила или хотя бы встречалась. И немного о тех, о ком тогда писали и говорили, стало быть, об ифлийцах, которые сделали большую карьеру. И одна главка будет об ифлийце, о котором я узнала уже во второй половине моей жизни.
ИФЛИ оказался двуликим Янусом: выпускал из своих стен советских интеллектуалов – будущих шестидесятников («Лицей в Сокольниках») и советских чиновников, аппаратчиков («кузница кадров»).
Итак: ИФЛИ выпускал функционеров, больших и средних.
Фамилии некоторых больших выписала из книги бывшего ифлийца Шарапова, а некоторых из коллективного сборника ифлийцев «В том далеком ИФЛИ»… Вот они: Красавченко – во время войны секретарь Московского горкома комсомола; Харламов, Белохвостиков – советские дипломаты; Черноуцан – работник аппарата ЦК, отдела, руководившего литературой и искусством; Трояновский – дипломат, посол61.
К этой славной пятерке надо добавить еще множество имен: Серегина, одно время ректора Литинститута; Зою Туманову, крупного комсомольского работника62; В. Карпову, главного редактора одного из ведущих издательств СССР «Советский писатель»63, Аркадия Анастасьева64, Виталия Озерова, многолетнего секретаря Союза писателей65. Журналистов высокого ранга, в том числе ведущих международников, – Льва Безыменского и моего доброго знакомого Льва Шей-дина66; заведующих отделами в издательствах; руководящих работников ТАССа, ВОКСа, ИМЭЛа – Института Маркса, Энгельса, Ленина и т. п. И, конечно, так называемых «организаторов науки», то есть не ученых, а аппаратчиков из Академии наук во главе с академиком Ойзерманом.
И особо надо отметить поистине царь-женщину Ирину Антонову, бессменного директора Музея изобразительных искусств67. Антонова поистине феномен.
Став во главе маленького и весьма небогатого для столицы цветаевского музея, она успешно позиционировала себя как деятель мирового масштаба. Более того, Антонова десятки лет сохраняла благорасположение властей, проводивших, как известно, самую дикую политику в области искусства.
Даже свой немыслимый возраст Антонова сумела преодолеть!.. Преклоняюсь и завидую.
И, наконец, ИФЛИ дало костяк ИМЛИ, Института истории и профессорско-преподавательского состава гуманитарных факультетов всех высших учебных заведений Москвы, в том числе МГУ.
Нашими выпускниками, как говорится, было многое «схвачено». Ифлийцы заполнили те лакуны в идеологической сфере, которые образовались после бесчисленных чисток в годы Большого террора.
И тут напрашивается вопрос: оказались ли функционеры нашего «Лицея» хорошими или плохими?
Думаю, они были такими, какие требовались советской системе, режиму, строю.
Расскажу о том, что мне ближе всего, – о литературе.
Именно функционеры-ифлийцы, приобщенные к шедеврам мирового искусства, обласканные музами: Эрато – лирической поэзии, Каллиопы – эпической поэзии, ну и конечно же музой истории Клио, проводили жестокую и бессмысленную «политику партии».
Музы изображались с палочками для письма. Ифлийцы-функционеры своими «палочками» выводили странные письмена, сочиняя постановления «О литературно-художественной критике» (1972), «О работе с творческой молодежью» (1976), «О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы» (1979), «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства» (1982)…
Выпускники нашего «лицея» призывали бороться с «проявлениями безыдейности, мировоззренческой неразборчивости, отходом от четких классовых позиций», а также с «парадным многописанием», «мелким бытокопательством», «конъюнктурщиной», «делячеством», «всеядностью» и «эстетической серостью».
Как-то я сравнила антисолженицынские письма и обращения, которые вышли из-под пера отдельных писателей, с письмами и обращениями, сочиненными аппаратчиками из Союза писателей. Писатели сильно напрягались, вставляли в свои тексты и «оборотней», и «гиен», и «змей». Аппаратчики, не мудрствуя лукаво, поносили классика на обычном партийном канцелярите.
Надо ли было учиться пять лет, чтобы сочинять такое?
Правда, когда ифлийцы к послевоенным годам оперились, основное уже было сделано. Уже были преданы анафеме предреволюционные литература и искусство: несравненные философы, поэты, прозаики, художники Серебряного века. Вычеркнута, казалось, навеки литература эмиграции. А потом и народившееся после 1917 года в России искусство.
Конечно, среди аппаратчиков были разные люди – одни позлее, другие – подобрее. Те, что подобрее, охотно «давали» уж совсем зачуханному старому товарищу по общежитию квартиру. Не свою, конечно, а квартиру из писательского фонда. Почему бы не облагодетельствовать беднягу?..
Однако среди всех этих «добряков» и «злыдней» возвышался один абсолютный Злыдень. Нет, не Воланд, а Мелкий Бес XX века.
1. «Железный Шурик» – аппаратчик из ИФЛИ
На книгу «Шелепин» – о политике времен Сталина, а потом Хрущева – Брежнева – я наткнулась как раз тогда, когда мои мемуары стали приближаться к концу. Книга эта, написанная известным журналистом Л. Млечиным68, заинтересовала меня. Ведь именно Шелепин стал маркировочным или, скорее, фирменным знаком ИФЛИ.
Сколько бы воспоминаний об ИФЛИ я ни читала, Шелепин, по прозвищу «Железный Шурик», в них обязательно присутствует.
Свидетельствую: Шелепин и впрямь учился на историческом факультете ИФЛИ. И даже был заметной фигурой. Принадлежал к сравнительно небольшой группе студентов, которые занимались не столько науками, сколько общественной работой, толпились где-то наверху, рядом с начальством. Тонкие шелепинские ноги – ноги паренька в полувоенной форме (это тогда было модно) – мелькали на общеинститутских мероприятиях в районе президиумов. И еще: на собраниях в 15-й аудитории юный Шелепин выскакивал в проход между рядами и выкрикивал здравицу в честь великого и гениального Сталина.
Но в ИФЛИ особенно не выдвинешься. Там было немало способных и амбициозных ребят. Как воспринимали себя сами ифлийцы, видно из строк поэта Наровчатова, правда написанных много позже: «Мы были королями / В любой колоде карт». Вот так!
И хитрый Шелепин, еще не закончив институт, стал делать карьеру не в ИФЛИ, а в Московском комитете комсомола. Правильно оценил обстановку! Ведь «комсомольское племя» пострадало от сталинских репрессий в годы Большого террора сильнее, чем кто-либо, и нуждалось в новых кадрах.
По-моему, одна я еще помню – смутно помню – комсомольцев 20-х и начала 30-х годов. Помню и их вожака, легендарного Сашу Косарева. Этот Саша вступил в комсомол в 15 лет, в партию в 16, а в 36-м сгинул в застенках НКВД. На него был похож как две капли воды приятель мужа Георгий Беспалов69, о котором я еще напишу. Вожаки первого призыва могли сказать про себя словами поэта: «Мы диалектику учили не по Гегелю». Все они были, как на подбор, лихие ребята, хорошие ораторы, немного демагоги и авантюристы, немного романтики. И их любимое слово было «Даешь!»: «Даешь Варшаву!», «Даешь промфинплан!».
Как ни старался Л. Млечин приукрасить героя своей книги, ему это не удалось. Ни одной интересной мысли, ни одной запоминающейся фразы автор так и не откопал в шелепинских речах. Все, что Шелепин говорил, было сказано на обычном партийном новоязе.
Но, быть может, Шелепин совершал какие-то запоминающиеся, незаурядные поступки?
Млечин ставит в заслугу «Железному Шурику», что тот не подписывал «расстрельных списков». Но ему таких списков и не давали. Шелепин возглавлял КГБ в хрущевскую «оттепель». А Хрущев, как известно, не хотел большой крови. Зато, будучи военруком в ЦК комсомола в начале войны, «Железный Шурик», сидя у себя в кабинете на Старой площади, отправлял московскую молодежь на рытье окопов, почти на верную гибель. Среди этой молодежи были и ифлийцы*.
Может, потом, после 1953 года, во времена «оттепели», он раскаялся в этом своем почине? Извинился?
Ничуть не бывало. Во времена Хрущева, который выдвигал молодых, пытаясь заменить ими старую сталинскую гвардию, Шелепин был занят не извинениями, а совсем другим. Он плел сложные интриги. Стал одним из организаторов «дворцового переворота», в результате которого пал Кукурузник.
Чего же добивался Шелепин? Какова была его программа?
Программа, по-моему, была простая: свергнуть Хрущева и сесть на его место. Но на место Хрущева сел Брежнев. И путем виртуозных манипуляций – их замечательно показывает Млечин – довольно скоро обезопасил Шелепина.
Последние десять лет жизни Шелепин пребывал в статусе пенсионера и в явной немилости. Млечин его жалеет, а мне, честно говоря, «Шурика» не жаль.
И еще: Млечин неоднократно подчеркивает образованность, интеллигентность Шелепина. Он и впрямь был не «от сохи»: сын инженера, окончил десятилетку, престижный институт… Но тут возникает вопрос: почему Шелепин, который был в свите Хрущева в Манеже, не сделал ни малейшей попытки остановить генсека, когда тот орал на художников-«пидорасов»? Почему хотя бы задним числом не заступился за поэтов, за Вознесенского, за Маргариту Алигер?
Ведь во времена Хрущева за заступничество все-таки не убивали. И уж совсем непонятно, почему интеллигент Шелепин не остановил своего дружка Семичастного, который опозорился навек, назвав свиньей великого поэта? Я читала книгу, сочиненную Семичастным70. Он уверяет, что слова о Пастернаке продиктовали ему Хрущев и его присные. Этот комсомольский вождь пишет, что готовил доклад о сороковой годовщине комсомола и, когда Хрущев велел ему «выдать» Пастернаку, был «застигнут врасплох», даже сказал: мол, в доклад это «не очень вписывается». На что Хрущев возразил: «Найдите для этого место», «Вот мы надиктуем сейчас с Михаилом Алексеевичем (Сусловым. – Л.Ч.) странички две-три, потом вы с Алешей (видимо, с Аджубеем. – Л.Ч.) посмотрите, с Сусловым согласуете, и действуйте». Какой трогательно-домашний разговор… Ничего себе – оправдался! А сам Семичастный был тогда в отключке? Под хлороформом? Ничего не соображал?! И даже не посоветовался со своим наставником «Шуриком»?
Конечно, проще всего валить все на Хрущева и на Суслова.
Но вот необразованный «Никита», «гимназиев» не окончивший, оставил воспоминания71, а грамотный Шелепин ни строчки не написал в свое оправдание. Странно, не правда ли?
Нет, не странно… Какой бы ни был Хрущев, а сделал много хорошего, а Шелепин ничего достойного не совершил.
Из его «сочинений», не удержусь, приведу всего одно-единственное письмо от 1988 года. Хвала Млечину за то, что он сделал это письмо достоянием гласности. Шелепин обращается к Горбачеву с просьбой оставить ему кремлевские пайки, которых его лишили или грозились лишить при Брежневе, а при Горбачеве вернули. Вот это письмо:
«Уважаемый Михаил Сергеевич!
Позвольте сердечно поблагодарить ЦК КПСС, Совет Министров СССР и, в первую очередь, лично Вас, Михаил Сергеевич, и в Вашем лице членов Политбюро ЦК КПСС и членов Секретариата ЦК КПСС за положительное решение вопроса о моем материально-бытовом обеспечении.
Желаю Вам, Михаил Сергеевич, хорошего здоровья и больших успехов в Вашей выдающейся партийной и государственной деятельности.
Еще раз большое спасибо Вам.
С неизменным и глубоким к Вам уважением.
А.Н. Шелепин».
Ну разве это письмо политика? Так и чудится, что автор сей эпистолы – бессмертный гоголевский герой Акакий Акакиевич Башмачкин. Представим себе, что Акакию Акакиевичу вернули его драгоценную шинель, он счастлив и готов благодарить весь мир – и ЦК КПСС, и Совет министров СССР, и всех членов Политбюро в отдельности и членов Секретариата ЦК КПСС в придачу… и лично Вас, «за Вашу выдающуюся…». И «еще раз большое спасибо…».
Все это так понятно. Ведь Акакия Акакиевича новая шинель не только могла спасти от холода, в ней он чувствовал себя в другом качестве. Для Акакия Акакиевича день в новой шинели – «самый большой торжественный праздник». Советский человек сказал бы, что в новой шинели он стал Человеком с большой буквы.
Уверена, что Шелепину были дороги не столько осетрина горячего копчения из кремлевского пайка, не столько спецбуфеты, спецсанатории и спецбольницы. Для него кремлевское «материально-бытовое обеспечение» – это престиж, сознание своей значительности, своей номенклатурности.
Конечно, по сравнению с Шелепиным титулярный советник Акакий Акакиевич – жалкая мелкота, вошь. «Железного Шурика» не сравнить даже с толстовским Карениным или с толстовским же Иваном Ильичом. Но и Каренин, и Иван Ильич были столбовые дворяне – у них за спиной стояло их генеалогическое древо, их кодекс чести и их родовые имения. Осетрину горячего копчения и ондатровые шапки они не получали из рук вышестоящих начальников, а покупали за свои кровные дворянские денежки… Советский же чиновник даже в высоком чине был так же бесправен, как гоголевский Башмачкин. Хоть он и взлетел на самый верх.
Мне кажется, Шелепин – знаковая фигура для сталинской и послесталин-ской России. И то, что его в 30-х годах воспитал ИФЛИ, – тоже знамение времени. Для формирования чиновничьей касты в середине XX века нужны были не такие учебные заведения, как Комакадемия, где учились Хрущев и Аллилуева, жена Сталина, или как КУПОН, о котором речь шла выше, а такие, как ИФЛИ. В ИФЛИ поступали не по путевкам, туда сдавали экзамены, имея в кармане аттестат об окончании средней школы. И там учили иностранные языки, даже латынь, и русскую историю, и всеобщую историю.
Я все повторяю: чиновники, чиновники. Но в то давнее время говорили не «чиновники», а «аппаратчики». И ИФЛИ этих аппаратчиков порождал.
Однако уже в стенах института в Сокольниках будущие Башмачкины проходили жесткий отбор. Успешную карьеру могли сделать не яркие личности, а люди бесцветные, середнячки.
Мое поколение еще со времен ИФЛИ поняло: одним из основных законов империи Сталина был закон об отрицательном отборе… И этот закон продержался до самой «перестройки».
Из всех кандидатов в большие и малые вожди всегда избирался самый тусклый, самый серый, самый-пресамый неперспективный…
Однако наряду с этим законом в те времена существовала еще и «эскалаторная система». Об эскалаторной системе первой заговорила, по-моему, моя ближайшая подруга Муха, Марина…
В чем особенности этой системы?
А вот в чем. Любой руководящий деятель должен пройти свой путь наверх. Иногда он карабкается на некое подобие труднопроходимой горы. Иногда взбирается по пологому склону. Иногда идет широкой тропой вверх.
Однако при этом будущий деятель воленс-ноленс переступает ногами, совершает определенные движения – словом, шевелится. А при эскалаторной системе самого серого подводят за ручку к эскалатору; кандидат в «вожди» делает один шажок и далее стоит как вкопанный, как истукан или как изваяние. Не делая никаких телодвижений.
В ИФЛИ мы наблюдали, как действуют и отрицательный отбор, и эскалаторная система.
У нас на литературном факультете учились несколько студентов, вполне годных для большой политической карьеры. Одного из них звали Федор Видясов72.
Видясова мы часто видели на трибуне. Этот молодой человек, неказисто одетый, в совершенстве владел искусством элоквенции. Не красноречия, а именно элоквенции. Худой и бледный, он напоминал средневекового монаха из ордена иезуитов. И притом Видясов неоднократно подчеркивал, что он сын… мордовского пастуха. Вот ему бы и стать наркомом (министром) иностранных дел и членом Политбюро. Увы! Карьера Видясова закончилась быстро – направленный после ИФЛИ не то в Наркоминдел, не то в НКВД, он так и не достиг особых высот.
Непростой оказалась и судьба другого нашего заметного студента – Саши Караганова. И он блистал у нас на факультете. И его происхождение, казалось, наилучшим образом соответствовало тогдашним требованиям. Талантливый паренек из богом забытого Весьегонска, не окончивший даже восьмилетку, отлично учился, был секретарем факультетского комитета комсомола в столичном вузе. Саша Караганов, безусловно, мог стать видным политиком. Однако на моей памяти его дважды низвергли, и дважды он должен был начинать все сначала. Даже из партии его исключали.
Только в 60-х Караганов наконец-то стал влиятельным чиновником, но всего лишь на поприще культуры.
Да, таков был тогда естественный (или неестественный) отбор. В цене оказались не талантливые, а бесталанные, не инициативные, а послушные, не напористые, а смирные. То было требование не только сталинского времени, но и последующей эпохи.
14 все же после всех этих горьких и кислых слов я хочу заступиться за родной ИФЛИ. За вычетом явных карьеристов и индивидов, случайно сделавших карьеру и забронзовевших, из ИФЛИ вышло много хороших и разных людей. Об ифлийских поэтах уже писано и переписано. Я хочу вспомнить непоэтов, хочу вспомнить обычных людей. Хотя слова «обычный человек» – дурацкие.
…В 2009 году по телевидению показали Лилианну Лунгину. Лилианна Лунгина – тогда Лиля Маркович – проучилась в ИФЛИ, по-моему, не то три, не то четыре года, а потом началась война, и Лиле пришлось эвакуироваться с матерью. После войны она стала переводчицей. Так что я с ней сталкивалась и в этом качестве. Надо сказать, что она всегда сама выбирала писателей, которых хотела перевести. И выбирала замечательных авторов, вкус у нее был хороший. И еще: Лиля была счастлива в браке. Вопреки Л. Толстому все хорошие семьи вовсе не похожи друг на друга, каждая счастлива на свой лад. Лиля родила двоих сыновей, успела порадоваться успехам старшего, Павла. Имела верных друзей и умела ценить их дружбу.
Казалось бы, ничего необычного в судьбе Лунгиной не было. И вот уже немолодая Лиля рассказывает о своей жизни несколько вечеров подряд, сидя перед камерой в одной и той же позе, в одной и той же одежде, без грима. И говорит она без тени аффектации… Но какой сложный мир перед нами раскрылся.
Написать так, как рассказывала Лунгина, я, конечно, не смогу. Но у меня уже лет двадцать пять лежат короткие зарисовки некоторых ифлийских студенток. И я хочу включить их в эту главу. Жизни этих женщин не похожи на жизнь Лили. Счастья там мало. Хотя две женщины – сильные натуры. Но почему я оправдываюсь? Как написала четверть века назад, так пусть и будет.
2. Дочь наркома и ее… гены
Кибернетика и генетика после войны при Сталине были объявлены лженауками, а стало быть, запрещены. Насчет кибернетики – все понятно: малограмотное Политбюро, естественно, считало, что никаких новых наук быть не может, поскольку не может быть никогда. С генетикой же не совсем ясно. В своей 23-й школе БОНО я еще изучала в начале 30-х годов морганизм-вейсманизм: хромосомы и изменения мушки-дрозофилы. Изучала наряду с биномом Ньютона и теоремой Пифагора. И вдруг на тебе: генетики – нет, генов – нет, хромосом – нет, а опыты с мушкой-дрозофилой – шарлатанство и перевод народных денег.
Грешным делом, я сочла тогда (гонения на генетику совпали с кампанией борьбы против космополитизма), что фамилии основателей генетики монаха-августинца Менделя, другого ученого немца Вейсмана и американца Моргана с его знаменитой дрозофилой звучали для тогдашних кремлевских властителей уж слишком по-еврейски. Им хватало своих – Карла Маркса и Кагановича…
Но я ошибалась. Генетику вне связи с антисемитской кампанией разгромил Трофим Лысенко. Он убедил Сталина, что наследственности нет и что Партия, Коллектив, Социализм переделают человеческую натуру. А уж о «натуре» растений и говорить нечего.
Не знаю, как другие, но я в генетику верю, ведь в слове «ген» до сих пор слышится нечто диссидентское. В подтверждение расскажу об Ирине Г., окончившей, как и я, ИФЛИ.
Однажды в конце 60-х пришли к нам наши друзья Жора и Майя Федоровы, соседи по дому на улице Дмитрия Ульянова, и рассказали: к ним нагрянула милиция; искала что-то в мусоропроводе. (В нашем доме мусоропроводы – на кухнях.) Как и многие люди в ту пору, Федоровы прятали у себя в квартире самиздат, в том числе особо опасную «Хронику текущих событий», и приход милиции их напугал. Напугал и удивил, ведь осматривали только мусоропровод.
Вскоре история разъяснилась – оказывается, в нашем подъезде произошло убийство молодой женщины. Искали улики. А пришли к Федоровым, поскольку они жили на первом этаже в этом подъезде. И если что-то спустили в мусоропровод, то это «что-то» – тряпка, пропитанная кровью, или предмет, принадлежавший убитой, – могли оказаться у Федоровых.
Надо сказать, что в убийство в нашем доме мы с мужем сначала не поверили. До 90-х, когда теракты, покушения и всякие другие страсти-мордасти вошли в нашу повседневную жизнь, мы об убийствах в своей среде не слышали.
Считалось, что в СССР убивают только организованным путем – по приказу ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ.
Может быть, где-то в глухих деревнях и убивали в пьяных драках, то есть на бытовой почве, но нам об этом не сообщалось.
А может, убийств и впрямь было не так уже много…
На старости лет я стала читать зарубежные детективы и убедилась, что почти в каждом хорошем детективе мотив преступления – большие деньги. Но, как известно, при советской власти деньги всегда превращались в фантики, как у булгаковского Воланда… Стало быть, и убивать было не за что.
Словом, сначала мы не поверили… Но потом все же пришлось поверить. Дальше – больше. Нам назвали имя молодого преступника. Я с ужасом поняла, что знаю и этого парня, и его родителей, знаю даже историю его семьи…
…В 1934 году в только что созданный ИФЛИ (как сказано, основная масса студентов набиралась годом позже) на литературный факультет поступила хорошенькая черноглазая девушка с очень нежным цветом лица. Девушка эта была дочерью наркома. А нарком при Сталине значил куда больше, чем министр при Хрущеве или Брежневе. Наркомов было очень мало, и это были большевики ленинско-сталинской закалки.
Много позже из бездарного романа «Оленьи пруды» бывшего ифлийского студента М. Кочнева73 я узнала, что вокруг Ирины Г. бушевали страсти. Автор, влюбленный в гарную дивчину, утверждал, что все остальные ухажеры Ирины преследовали сугубо корыстные цели – мечтали проникнуть в наркомовскую семью… Но все это быстро прошло. И нетрудно догадаться, чем кончилась первая глава из жизни Ирины Г. Отца Ирины, наркома, в годы Большого террора арестовали и объявили польским и германским шпионом. Он проходил по второму так называемому открытому «показательному процессу».
Никого не удивило, что прославленный сталинский нарком оказался «врагом народа». Такие были тогда времена. Зато даже закаленных сокурсников удивила сама Ирина Г. Она пришла в институт в тот день, когда на комсомольском собрании зачитывались списки приговоренных к высшей мере наказания, то есть к смерти. А ведь могла и не прийти, сославшись на болезнь. Более того, говорили, что Ирина Г. не только присутствовала на том собрании в 15-й аудитории, она якобы встала вместе со всем залом и аплодировала приговору суда.
Далее Ирина действовала решительно: вышла замуж за одного из своих женихов, пламенного комсомольского вожака косаревского, а не шелепинского типа Валентина Н. И вместе с ним и матерью уехала из Москвы по «распределению».
Комсомольский вожак Валентин Н. пожертвовал своей карьерой и вместе с молодой женой отправился куда-то в глушь, на Север, преподавать в деревенской школе. Наверное, это и спасло Ирину Г. от ареста.
То была вторая глава из жизни Ирины Г….
И вдруг приятная для меня неожиданность. В 1958 или 1959 году, переехав в свой кооперативный рай, я встретила во дворе нашего дома Ирину. К тому времени у нее было двое детей: старший – мальчик и младшая – девочка. Семья возвратилась в Москву не из деревенской глубинки, а из Вильнюса, где Ирина и ее муж преподавали в университете. Ирина защитила докторскую, перевелась в Институт мировой литературы Академии наук и даже заняла какой-то административный пост – была не то завсектором, не то завотделом. Муж ее в ту пору дальше кандидатской не пошел, – это, видимо, огорчало Ирину, – но работал он в Президиуме Академии наук. Естественно, сама Ирина стала специалисткой по английской литературе – ее дома учили языкам, – и домашнее воспитание дало свои плоды.








