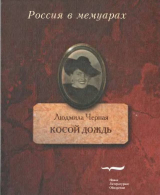
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 47 страниц)
Ковра у нас, разумеется, не было. Но некоторый перст судьбы все же присутствовал. День нашей «свадьбы» пришелся на 21 августа (дураки, как часто мы забывали этот день!). Именно 21 августа 1944 года муж перетащил свое чрезвычайно рваное синее одеяло – клочья серой ваты вылезали из него отовсюду – на мою продавленную тахту. Кроме одеяла он принес в общее хозяйство одну (!) серебряную чайную ложечку, которая почему-то очень быстро исчезла.
Но в том августе еще была эта чайная ложечка!
Август стоял жаркий. И в воскресенье наша коммуналка, вернее, та ее часть, что граничила с заколоченным парадным, почему-то вдруг опустела. И родителей, и многочисленных соседей, старых и малых, как ветром сдуло.
Пора было ложиться спать, когда я внезапно почувствовала сильный запах гари. Наш дом – красивый, хоть и ободранный, одноэтажный особняк с мезонином – имел пристройку, в которой мы жили. Деревянная, всего лишь оштукатуренная, сухая и старая, она сгорела бы, как стог сена.
– Чуешь, пахнет гарью, – сказала я, – где-то горит.
– Да, действительно, – ответил муж, – горит.
– Надо идти к управдому, вызывать пожарных.
(Все телефоны в доме срезали сразу же после начала войны.)
Поговорив еще несколько минут на тему «пожар, управдом» и беспрерывно принюхиваясь к усиливающемуся запаху гари – комната уже была в дыму, – я вдруг повернулась лицом к Тэку и увидела поразившую меня картину: Тэк сидел на тахте и безмятежно расшнуровывал ботинки.
– Что ты делаешь? – спросила я.
– Спать ложусь.
– Но ведь горит.
И тут мой дорогой муж вдруг поднял голову от ботинок и сказал очень твердо и спокойно:
– Я лучше сгорю, чем пойду к управдому.
В тот вечер я тоже незамедлительно легла спать, но довольно долго ворочалась с боку на бок. И не только из-за дыма. Я размышляла.
Стало быть, к управдому он ходить не будет. Но без «управдомов» – в фигуральном смысле этого слова – не обойдешься…
Стоит ли говорить, что к «управдомам» почти пятьдесят лет обращалась я.
Мы потом часто смеялись, вспоминая тот казус. Я притворно сердилась, он притворно хорохорился.
А теперь, когда мужа нет, я рада, что спасла его от противных бытовых забот. От мелких унижений, грошовых взяток, заискивающих улыбок.
Все тяготы повседневной жизни легли на меня. Утешалась я тем, что такова судьба российских женщин. Весь мой долгий век и стар и млад повторяли слова Некрасова: «Коня на скаку остановит, / В горящую избу войдет…»
Но я вовсе не хотела быть сильной женщиной и совершать подвиги – тушить пожары или укрощать лошадей… Вспоминая другого поэта, Тютчева, могу сказать, что волей-неволей я оказалась «в кругу убийственных забот, / Когда нам всё мерзит – и жизнь как камней груда».
Однако все это стало мне ясно намного позже. В тот ужасно далекий августовский вечер я была беззаботна и весела. И если и задумалась, то ненадолго…
Странным было мое поколение, довоенное поколение девочек, девчат, ифлиек.
Мы слыли такими умненькими. Читали все на свете. За неимением нарядов, балов, вернисажей занимались общественной работой и вели интеллектуальные беседы. Но когда дело касалось житейских вопросов – выяснялось, что в голове у нас сплошной ералаш!
«Мы наш, мы новый мир построим!», «Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне остановка!». Правда, с другой стороны: «Но наш бронепоезд стоит на запасном пути!» И… «Ни одного поцелуя без любви».
А где, собственно, было целоваться, с любовью или без оной? Отдельных комнат почти ни у кого не было. Целовались в холодных парадных. Руки грели на лестничных площадках, если там стояли батареи.
И вообще, как отличить любовь от нелюбви? Целомудрие от ханжества? Надо ли прощать измену или не надо? Надо ли признаваться в своих грехах или лучше промолчать? И может ли брак в принципе быть счастливым? Не убивает ли семейная жизнь взаимное влечение, секс?
Мне кажется, мы даже не задавали себе этих «проклятых вопросов», которые несколько веков мучают человечество. Не до того было.
Десятилетиями нам, девушкам, вдалбливали в голову, что дружба выше любви, а долг выше и дружбы и любви. Знаменитый турецкий поэт, «узник капитала», бежавший в СССР Назым Хикмет, с гордостью писал: «Женщин я обманывал, партию – никогда». И мой любимый поэт и друг Борис Слуцкий эту галиматью перевел.
А о сексе мы вообще не говорили ни с матерями, ни с самыми близкими подружками. Я вспоминаю, правда, что в какую-то очень откровенную минуту моя институтская подруга сказала:
– Ты же знаешь, как я люблю мужа. Но он все время хочет этого. А я при этом ничего не чувствую, смотрю, как идиотка, на шкаф и думаю – надо бы снять сверху выходные туфли и отдать сапожнику, чтобы поменял набойки.
Довольно долго я считала, что отсутствие упоминаний о сексе – традиция русской классической литературы. Дескать, мы вышли из Чехова, французы – из Мопассана.
Эту оригинальную мысль я пыталась уже в зрелые годы внушить молодым девицам из Издательства иностранной литературы, где мне давали переводы. Но девицы меня не поддержали, справедливо заметив, что со времени Чехова многое изменилось. И им бы хотелось прочесть нормальную книгу, где люди не только обмениваются умными мыслями, но и, извините, «трахаются».
Пришлось с ними согласиться. Хотя я до сих пор убеждена, что в сцене случайной встречи Вронского с Анной Карениной на перроне станции между Москвой и Петербургом и в их минутном разговоре куда больше страсти, любви и даже секса, чем во всем Лимонове с этими его бесконечными повторами: «Я вы…. ее два раза».
Нескромно, наверное, говорить, но в первые годы нашей совместной жизни я и муж были отчаянно счастливы. Хотя, быть может, разница наших темпераментов сказывалась.
Помню, что по вечерам в начале 50-х мы часто играли в какую-то дурацкую карточную игру под названием фрап. Играли на это. Я проигрывала и сердилась до слез. Иногда муж «прощал» меня. Иногда я обязана была платить за каждый проигрыш. И это было тоже прекрасно, ибо мы были молоды и влюблены друг в друга. И Алик наш был «плодом любви», как говорили в старых и глупых романах.
Я интерпретировала это несколько иначе, словами почти забытой поэтессы Веры Инбер. Стихотворение Инбер было о том, как собачка-фокс влюбилась в кошку и «ровно, ровно через год у них родился фоксокот»!!
Наш «фоксокот» Алик родился через десять с половиной месяцев после того, как мой муж перебрался из номенклатурной трехкомнатной квартиры на мою тахту.
Но появление «фоксокота» на этой земле было очень тяжким. После переселения Тэка в Большой Власьевский пришлось мне уйти из отдела контрпропаганды, чтобы избежать обвинений в «семейственности» (после Сталина этого уже не так боялись), в редакцию союзной информации, то есть увидеть другую сторону ТАССа – скучного советского учреждения, где не было места ни журналистике, ни истинным новостям.
Заметки там звучали примерно так: «Как сообщает наш уральский корреспондент, колхоз “Красный луч” распахал под зябь 100 гектаров».
Моим новым начальником был Николай Алексеевич Козев. Как потом выяснилось, ярый сталинист. Но это мы узнали только в 50-х, когда он стал ответственным секретарем, иначе говоря, вторым человеком в официозе «Правда». А пока что он просто заваливал газеты жуткой чепухой. В ту пору я даже в мыслях побоялась бы это сформулировать. Но отлично понимала, что занимаюсь не делом, а сплошной мурой. Самое плохое, что приходилось часто работать ночью – что-то считывать: не дай бог, проскочит ошибка. Я вообще не ночная птица, не «сова». А тогда, голодная и беременная, читая вслух дурацкие тексты, куда-то проваливалась. И видимо, надолго.
Николай Алексеевич, разумеется, ничего не писал, только визировал, то есть подписывал эту самую информацию насчет распаханной зяби.
Однако, с точки зрения высокого начальства, Козев обладал некоторыми изъянами, особо заметными из-за того, что он жил там же, где и работал, в тассовском служебном кабинете с длинным кожаным диваном. Изъяны были такие: Николай Алексеевич закладывал за воротник больше, чем полагалось. Иногда был пьян в стельку и в таком виде показывался сотрудникам. И – второй изъян – Козев обожал женский пол, затаскивал дам на свой кожаный диван, так сказать, на рабочее место. Это сопровождалось трудностями, поскольку в ТАССе была железная система пропусков: перед входом стояли два амбала с оружием, и им надо было предъявить либо постоянный, либо разовый пропуск и в таком случае еще и паспорт. Но окрестные дамы-киоскеры и продавщицы все же каким-то необъяснимым образом проникали «на объект», то есть на диван. Естественно, это бросало тень. Однако Николай Алексеевич никого не боялся. У него был особый дар, можно сказать, талант, и он был незаменим.
Пьяный ли, трезвый ли, он безошибочно угадывал, в какой последовательности надо перечислять фамилии вождей… Допустим, вожди стоят на Мавзолее, или подписывают обращение к своему народу, или принимают высокого гостя, или приветствуют слет передовиков, или пошли в Большой театр. Ну, Сталин… А дальше? Никакой алфавит в данном случае не признавался. А дальше, очевидно, Молотов. Но в конце войны мог быть и Маленков. А после Молотова или Маленкова вообще непонятно. Лес темный. Берия? Жданов? А потом Ворошилов или Каганович? Каганович или Ворошилов? Микоян или Хрущев, Хрущев или Микоян? А куда девать Суслова и Щербакова? Начнем с начала: Молотов, Маленков или Берия, Молотов, Жданов? Берия, Жданов, Маленков, Суслов, Ворошилов, Каганович?.. Словом, хождение по минному полю без миноискателя… Надо ли объяснять, что за каждую не по чину поставленную фамилию все руководство ТАСС могло попасть в лагерь, в тюрьму. Дело шло о жизни и смерти. Ни больше ни меньше!
И вот будили Николая Алексеевича среди ночи. Известно, что Сталин, как и Гитлер, по ночам не спал – и, соответственно, не спали даже малые начальники – будили среди ночи, расталкивали на кожаном диване, вопили, молили: мол, встань, напрягись, Родина зовет… И бедный талант вставал, шатаясь шел в уборную, обливал голову холодной водой, садился в одних подштанниках за стол и начинал творить, молитвенно шепча: Сталин, Молотов, Маленков… А все вокруг не дышали, чтоб, упаси бог, не вспугнуть вдохновение у Николая Алексеевича.
Можете ли вы, человек далекий от тех событий, понять всю значимость, всю поистине эпохальность этих пятнадцати минут в жизни Козева? Уже назавтра миллионы советских людей узнают, в каком порядке размещаются их любимые вожди. На каком месте стоит Анастас Микоян и на каком Климент Ворошилов. А может, и сам легендарный Клим Ворошилов увидит на следующий день свой порядковый номер и сомлеет от счастья или, наоборот, содрогнется от ужаса. А может, и далекий Уинстон Черчилль, просматривая радиоперехваты, задумается: почему вдруг Сталин, «Усатый Джо», совершил малую рокировку фигур? Нет ли тут тайного умысла?
Кто объяснит, что на самом деле происходило в те ночи в кабинете Николая Алексеевича – не поворачивал ли он с бодуна руль мировой истории?
Бездонный омут тоталитаризма далеко не изучен.
Но это так. Отступление…
…На каком-то этапе моей беременности, лютой зимой мы почему-то сняли у чужой бабы ужасно холодную комнату, куда проходили через сени, где стояла бочка вонючей кислой капусты. К счастью, нас скоро после этого пригласила пожить моя институтская приятельница Нина Елина98. Пригласила на Остоженку, тогда Метростроевскую, в отличный кооперативный дом. И мы поселились в четырехкомнатной квартире с павловской мебелью красного дерева. Мебель эта с тех пор запала мне в душу. Но еще больше запала мне в душу большая стеклянная банка, куда мама Нины складывала лярд, ослепительно-белый жир, который американцы посылали нам по ленд-лизу99. Только сейчас могу признаться, что, мучаясь от голода, я несколько раз залезала ложкой в ту банку, брала «очень немножечко» лярда и с жадностью съедала его без хлеба, без ничего. До сих пор краснею, ведь я воровала у таких же бедняков.
Дорогой мой лярд! (Тушенка мне не доставалась.) Дорогой мой лярд! Сейчас я, возможно, не стала бы тебя есть, но тогда ты спас мне жизнь. Ты и еще какая-то сладкая бурда под названием суфле. Из него якобы делали мороженое, но иногда продавали из-под полы.
И еще несколько драматических эпизодов (кроме воровства лярда) запомнились мне из тех далеких времен, когда мы жили в добропорядочной семье Нины и ее родителей на Остоженке.
Вечно повторяющийся эпизод – это наши ночные походы с мужем к Елиным домой.
ТАСС, как и сейчас, находился на Тверском бульваре. Для нас, молодых, пройти от Тверского бульвара до Остоженки было в принципе легко – несколько остановок, примерно полчаса ходу. От силы. Но в феврале и в марте – а мне помнится, это было именно в феврале и в марте – в Москве еще собачий холод, метель, ветер. А я была беременна и голодна и от этого отчаянно мерзла и засыпала на ходу. И дело происходило в военные ночи, когда не зажигали фонарей и на окнах была светомаскировка. Тьма-тьмущая. И все давным-давно спят… Ах, как мне хотелось сесть в сугроб в этой тьме кромешной. Сесть и заснуть!
И больше не мучиться. Путь до Остоженки казался мне бесконечным, и каждые несколько шагов я спрашивала Тэка: «Нам еще далеко?» И он отвечал: «Скоро, скоро мы дойдем». За одни эти слова я обязана была благодарить его всю жизнь. И еще мы вспоминали протопопа Аввакума и его жену, протопопицу.
Мне казалось, она спрашивала: «Долго ли нам брести, протопоп?» А он, этот безумец, отвечал ей примерно так: «Побредем еще немного, протопопица». Старался утешить многострадальную спутницу жизни. Память мне изменила. Когда я взялась за эту главу, то нашла сей диалог из «Жития протопопа Аввакума». Оказывается, он звучит иначе: протопопица спрашивает: «Долго ли муки сии терпеть, протопоп?» Протопоп отвечает: «Марковна, до самыя смерти». Протопоп предпочитал суровую правду.
Я рада, что Тэк не был таким правдолюбцем… Да и у меня были свои рецепты самоутешения: я старалась представить себе уже пройденный путь… Никитский бульвар почти позади, совсем скоро метро, а Остоженка – короткая улица.
Второй эпизод, связанный с домом Нины, был еще более драматичен. Мои ночные бдения кончились. Но муж по-прежнему возвращался домой глубокой ночью. Нинина мама дала нам ключ от квартиры, однако, видя нашу полную бестолковость, просто-таки умоляла, чтобы мы его не потеряли.
Естественно, ключ очень быстро исчез. Естественно, мы боялись в этом признаться хозяевам. И, возвращаясь на Остоженку, муж тихо-тихо скребся в стенку; к счастью, наша комната выходила на лестничную площадку. Я вставала и на цыпочках шла открывать. Соответственно, я каждые несколько минут просыпалась. Но главное было в чувстве неотвратимости признания, ведь рано или поздно правда выйдет наружу.
Я помню это так, словно мы потеряли ключ не семь десятилетий назад, а только вчера. Не помню лишь финала, хоть убей, не помню. Но нас простили. И мы еще несколько лет ходили в гости в этот милый дом.
Наша дорогая советская власть здорово меня надула. Мне дали декретный отпуск всего за две недели до родов. Я не успела даже отоспаться…
У меня были «сухие роды». Что это такое, я не знала тогда и по сию пору не знаю. Во всяком случае, мама – мы с Тэком уже жили с родителями в Большом Власьевском – встревожилась. И мы часов в двенадцать дня отправились в путь. Никаких такси в 45-м, конечно, не было. На этот раз мы шли с Большого Власьевского через Сивцев Вражек по Никитскому бульвару в Леонтьевский переулок, рядом с ТАССом.
Шли довольно медленно, было жарко – 13 июля. И никаких особых неудобств я не ощущала. И не очень-то торопилась. У входа в переулок, где помешался роддом, нас остановил знакомый Тэка по университету. Я его тоже знала. Фамилия его была Курс. Курс, по-моему, был сыном видного коммуниста, расстрелянного, кажется, еще в начале 30-х. Сам Курс, видимо, тоже сидел или был сослан. И, незнамо как очутившись в Москве и встретив Тэка, завел с ним долгую-предолгую беседу. Он был так поглощен своими переживаниями, что говорил, говорил, говорил. Не мог остановиться. А Тэк был не из тех людей, которые готовы прервать собеседника. Особенно если тот вернулся из мест не столь отдаленных. Так мы и стояли на жаре. Я со своими «сухими родами», а они в оживленной беседе. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы Курс вдруг не спросил подозрительно: «А куда вы, собственно, собрались?» И тут я, вступив в беседу, скромно заметила, что иду рожать.
С тех пор я больше ни разу не видела Курса и не слышала о нем…
Примерно в половине первого ночи я родила Нечто, чего по близорукости не разглядела. Но это Нечто запищало. И мне сказали, что все в порядке – родился мальчик. Я тут же стала умолять, чтобы кто-нибудь позвонил мужу на работу. Далее следовал трогательный рассказ моей мамы. Тэку позвонили, и он помчался домой в Большой Власьевский, разбудил родителей и сообщил им радостную весть. Мама особенно упирала на то, что они с Тэком расцеловались. Дело в том, что мама не очень-то жаловала моего второго мужа. Но тут они расцеловались. Особенно радовались мы тому, что родился мальчик, радовались и гордились. По людоедской сталинской логике мальчики, защитники Отечества, считались качественно выше девочек. Поэтому народ хотел только мальчиков. Как и несчастной царской чете, Николаю и Александре, всем нищим совкам вдруг понадобились наследники, продолжатели рода. У Тэка и у меня было, правда, некоторое оправдание. Он уже был отцом двух девочек…
На следующий день выяснилось, что с нашим мальчиком не все так прекрасно, как хотелось бы. Весил он шесть с половиной фунтов. При том, что средним весом считалось восемь фунтов, то есть три кило двести. А рождались и девятифунтовые, и даже десятифунтовые младенцы. Наш был не красный, а приятно-желтенького цвета – родовая желтуха! Пришедший с обходом главврач по имени Наполеон – по дикому стечению обстоятельств он и у мамы принимал роды – долго рассматривал мое «обглоданное» и желтое от курева лицо, откинул одеяло: увидел жалкие косточки там, где полагалось быть красивой женской плоти, и сказал, презрительно усмехаясь:
– Считаете, маленький? Грудь брать не хочет?.. По Сеньке и шапка. – И добавил: – Он хоть и тощий, но жизнеспособный.
И это слово «жизнеспособный», произнесенное пузатеньким Наполеоном, пролилось бальзамом на мою измученную страхом душу.
Через неделю меня, худющую и страшную, встретили у входа в роддом мама, муж и подруга Муха. Тэк совершил два подвига – достал в ТАССе машину, совершенно разболтанную «эмку», и букет цветов, который меня слегка смутил: по обилию темных трав и веточек он показался мне скорее похоронным. Но мой муж просто не улавливал подобных нюансов. И вообще нам было тогда не до икебаны! Показав Тэку Нечто в сером байковом одеяле, я стыдливо спросила его:
– Он тебе нравится?
И Тэк с чувством ответил:
– Очень!
Закончить мне хочется, вернувшись к началу этой главы.
…Странное племя были мы, довоенные девушки из интеллигентных семей, бывшие ифлийки.
Какое право я имела родить ребенка в ужасном 45-м году? В году самой страшной разрухи, голода, карточек? Да еще от человека, у которого уже было двое маленьких детей?
Родить, будучи совершенно не приспособленной к жизни? Не зная ничего, что требовалось знать тогда любой матери, любой жене? Я не умела ни стирать, ни гладить. Не могла подшить подол, пришить пуговицу, заштопать носки. Сделать котлеты. Сварить кашу. Не знала, как купить мясо, из которого можно приготовить суп. Как отличить картошку мороженую от картошки немороженой. И притом прекрасно понимала, что рассчитывать мне не на кого, – одной бабушки, матери мужа, уже не было на свете. Вторая бабушка, моя мама, всю жизнь работала, зарабатывала, но в бытовых делах была совершенно беспомощна. Боялась взять Алика на руки… Первое время Тэк пеленал ребенка. А купали мы его с грехом пополам вместе.
У Алика не было ни нормальных пеленок, ни теплого одеяла. Нашла мамину записку в роддом. Мама с грустью сообщает, что достать ватное одеяло для малыша не сможет. Чтобы купить ватное одеяло, надо выстоять очередь с пяти утра и утром получить его в магазине. А утром она, мама, должна быть на работе в ТАССе.
Беременная, я ходила в платье, подаренном одной знакомой, сотрудницей отдела контрпропаганды. А потом, когда можно было вдвоем пообедать в Доме ученых, брала напрокат у няни (первой, самой противной!) юбку и закалывала ее английской булавкой, юбка была мне широка ровно вдвое.
Но, допустим, я бы всему необходимому научилась… Допустим. Хотя это и маловероятно. Навыки выживания в голодной стране впитываются с молоком матери, в семье, с самого раннего детства.
Все равно, как было жить нашей семье?
Я первое время не работала – не с кем было оставить ребенка. Муж получал 2200 рублей. Минус налоги, минус партийные взносы, минус ежемесячные отчисления в 1000 рублей на обязательный заем. В итоге оставалось меньше тысячи, а именно 1000 муж отдавал первой жене на второго ребенка. Первая дочь – Ася, как я уже писала, жила на всем готовом в санатории, но и ей нужны были время от времени подарки, фрукты и т. д. И на это уходило 200–300 рублей…
А я к тому же все теряла, путала… То потеряю карточки, то не вовремя их «прикреплю», то вообще приду за моими «иждивенческими карточками» позже, чем надо, и тогда получу так называемые «рейсовые» талоны; а их положено отоваривать у черта на куличках по какой-то уж вовсе мизерной норме. И меня все, кому не лень, бессовестно обманывали. Вершиной этого обмана было то, что я давала безвозмездно мое грудное молоко совершенно чужой женщине. И она меня даже не пыталась как-то подкормить за это. А брать деньги… Фу, как не стыдно!
И все равно в дни младенчества Алика я была молода и любима. И так сама любила это крошечное существо с вытертыми подушкой волосиками, с бессмысленными глазками…
А ведь была еще «грудница», и пришлось делать операцию («Никогда не видел в Москве такую синюю от гноя грудь, – сказал хирург, – вы ведь не в деревне живете, за сотни верст от больницы»), и было крупозное воспаление легких (антибиотики для простых смертных еще, кажется, не существовали), грудь болела день и ночь, словно ее ножами резали, и температура ниже сорока не опускалась. Но страх был не за себя, а за детку, за Алика, которого моя несентиментальная мама называла не иначе как Голубь. Голубя я кормила одной грудью без малого полтора года.
Как ни странно, но мы выжили все трое: Тэк, я и Голубь.
P.S. Мужа моего нет уже давно. А сын Алик тридцать семь лет как живет в США. Сны мне до 90 лет не снились вовсе, или я их сразу забывала, проснувшись. Но вот как-то мне приснился Тэк. Сна не помню. Совершенно ничего не помню. Единственное, что запомнила, – это ощущение счастья от того, что увидела его.
Глава VII. СРАЗУ И НЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
1. Сразу после войны
Знакомая до «детских припухлых желез» Москва сразу после войны, как ни странно, напоминала мне незнакомый Харьков после того, как оттуда выбили немцев. Я провела в Харькове всего двое суток проездом на фронт к первому мужу Борису, но никогда в жизни не забуду тогдашний облик города. В мертвом Харькове на улицах шла бойкая торговля, а на харьковском базаре стояли две виселицы, где висели тела полицаев… без сапог.
В Москве, слава богу, виселиц не было, но торговали буквально на каждом углу. В центре Арбатской площади был большой рынок, где продавалось всякое старье – от поломанных примусов до рваных книг без обложек. Товар раскладывали на газетах, постеленных прямо на земле. Съестное – ржавые селедки или кусочки пиленого сахара – предлагали с рук; еду хватали сразу.
В серой, какой-то безликой толпе изредка попадались хорошо одетые молодые женщины либо в черных меховых шубках «под котик», либо в пальто с чернобурками. Никогда в жизни я не видела столько чернобурок. В Харькове нарядных дамочек звали «немецкими овчарками». Было известно, что они жили с немцами. В Москву шубы «под котик» и чернобурки присылали наши офицеры из Германии… Бедные трофеи победоносной армии.
Но на московских рынках и базарчиках бросались в глаза не столько чернобурки, сколько инвалиды. Инвалиды без ног быстро сновали на досках с колесиками-подшипниками. Здоровые парни, часто с красными от водки лицами, отталкивались от земли руками. Я назвала этих несчастных «здоровыми». Странная оговорка! Но туловища на досках, принадлежавшие безногим, и впрямь казались мощными. Видимо, перенести все то, что перенесли эти ребята, могли только очень здоровые люди.
Много было и инвалидов на костылях с заколотой выше колена штаниной. И одноруких в выцветших гимнастерках с пустым рукавом. Но особо изуродованных скоро убрали. И блошиные рынки – тоже. Безногих, как я узнала в конце 80-х на выставке, организованной «Мемориалом», Сталин выслал в одночасье на остров Валаам в «резервацию» под названием Дом инвалидов войны и труда. «Очистил» Москву от неприятного зрелища. При Сталине нищету, увечья, грязь тщательно скрывали. Сталинская эстетика живет до сих пор.
Москву всегда «очищали». Когда я была маленькая, очищали от буржуев и беспризорных, потом, когда подросла, – от нэпманов и попов, позже – от кустарей-одиночек и от писсуаров на бульварах. После войны, как сказано, – от инвалидов, стихийных рынков и узорчатых балконов в старинных особняках. Мэр Лужков с удовольствием очистил бы «первопрестольную» и от самих этих особняков, притом особо изуверским способом, разбивая каменную кладку кувалдами под названием «клин-бабы». Новый мэр Собянин начал с того, что снес палатки, «очистил» город от торговцев самым необходимым. А с хрущевской «оттепели» и до сегодняшнего дня власти очищают Москву от старушек, которые стоят у магазинов с укропом и петрушкой, и от собак и кошек, «бродячих животных», а главное – от нищих и бомжей, которых в переломную эпоху стало особо много.
Если бы мне предложили определить одним словом, какая была Москва тогда, я бы сказала – «тихая». Благовеста, малинового звона уже давным-давно не было. Машин – мало. Людей на улицах – тоже. Ни гуляний, ни разборок. Пьяных – не помню. Наверное, пьяные сидели по домам. Даже на рынках было тихо.
До войны во всех московских двориках летом звучали патефоны, кружились пары, в каждом дворике был свой «король» Лёнька Королев, воспетый Булатом Окуджавой. Но не вернулись эти «Лёньки» домой. И детского визга-щебета на бульварах как не бывало. Какие уж тут дети у вдов солдатских!
Еще одна причина, почему Москва притихла: голод. Скорее недоедание. Прочла где-то, что в 1946 году погибли от голода в России около 300 тысяч человек, а в 1947-м – полмиллиона. Думаю, москвичам голодная смерть не грозила. Но еды было недостаточно. Продукты получали по карточкам. Карточки – их выдавали ежемесячно – были рабочие, детские, иждивенческие.
В карточках отрывали талоны на сахар, на жиры, на крупы (не на жир, а именно на жиры, не на крупу, а на крупы!). Нормы жиров и круп у каждой категории – рабочих, иждивенцев, детей – были свои. Но черт, как всегда, притаился в деталях. Карточки «прикреплялись» к разным магазинам. А в разных магазинах давали разные продукты. К примеру, по талону «жиры» в одной торговой точке полагалось сливочное масло, в другой – красная икра. Сливочное масло можно было положить в кашу, в картошку. А что было делать с красной икрой? Намазать на хлеб? Но хлеб и так казался очень вкусным голодному человеку. Красная икра была для нас тогда наказанием…
Совсем забыла: был еще талон на водку… Водка в послевоенные годы играла ту же роль, что в годы «перестройки» доллар США. Твердая валюта. Поллитровкой можно было расплатиться с любым работягой или обменять по соответствующему курсу на то же сливочное масло или на другой столь же калорийный продукт.
Карточки периодически появлялись и до войны. Но до войны я жила с родителями, и все заботы ложились на плечи мамы. А в послевоенные годы, когда у меня уже была своя семья – муж и сын, приходилось думать обо всем самой. В частности, о том, чтобы «прикрепить» эти самые карточки к магазину получше. Если не сильно привилегированному, то хоть к «ведомственному».
Магазин «получше» был у мужа. Магазин Академии наук. Но он находился в районе Калужской заставы, а мы жили в арбатском переулке. И с транспортом было худо. И чем лучше считался магазин, тем больше были очереди. А новорожденного Алика не с кем было оставить… Сплошные мучения…
Почему Алика не с кем было оставить, выяснилось очень скоро. Потенциальных нянь и домработниц в Москву не пускали.
Подытоживая сказанное в последних абзацах, замечу, что никогда раньше я так не страдала от недоедания, как в первые послевоенные годы. Наверное, потому, что Алик был грудной и я его кормила грудью. Ведь никакого «детского питания» тогда не существовало. И еще я страдала потому, что была неумехой, – никак не могла освоить науку выживания.
Перед глазами у меня был пример – младший брат мужа «технарь» Изя и его жена Мара. У них почему-то и в войну, при лимитах на электричество, всегда горела электроплитка и всегда хватало и круп, и жиров на суп и на второе… Ну а уж осенью 45-го для Изика и вовсе настал звездный час. Кажется, в 1946 году молодого выпускника Энергетического института, отлично знавшего немецкий язык (он и муж детство и отрочество провели в Германии), послали в Германию. Нацепили погоны подполковника, дали соответствующее довольствие и приказали ловить Вернера фон Брауна и всех членов его команды, создавших первую межконтинентальную ракету ФАУ-2. Вернера фон Брауна Изя не поймал. Его сразу же подхватили американцы и отправили на мыс Канаверал, где этот гениальный конструктор подготовил проект «Аполлон».
В дальнейшем брат мужа стал крупнейшим специалистом по фотоэлектронике. Так это, кажется, называется. Но, как и множество других советских евреев, был заживо похоронен в одном из многочисленных НИИ… просидел лучшие годы в закрытом «ящике» и сперва в коммуналке на Рождественском бульваре, а потом в двухкомнатной квартире на Открытом шоссе – четыре метра кухня, одна комната – проходная, вторая – узкая, как пенал, в квартире, которую ему дали – к счастью! – в хрущевские времена. Жил на гроши – даже по советским меркам, а работал как вол, с утра до вечера. Жаль, что Солженицын не включил рассказ об Изе в свою книгу «200 лет вместе». А ведь именно такие, как Изя, создали военную промышленность в СССР, а потом и самые современные технологии в Государстве Израиль.
Далеко я ушла от послевоенной Москвы. Что поделаешь! Ведь это мои воспоминания. Так и вижу старую, кем-то подаренную детскую коляску в Большом Власьевском переулке, а рядом Изю, склонившего голову и разглядывающего младенца Алика, ненаглядного Алика, своего племянника. Кажется, это было только вчера. Алику уже 69. А Изи лет десять как нет. И похоронен он в Израиле, куда уехал почти стариком.








