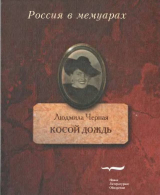
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 47 страниц)
Помню, что я подумала: интеллигенция – порядочные люди по обе стороны «железного занавеса» – понимает друг друга с полуслова и всегда будет понимать.
Какое обманчивое чувство. Какое опасное заблуждение!
К сожалению, только спустя несколько лет я это поняла.
А в тот вечер Бёлль нас обворожил своей естественностью, доброжелательностью, отсутствием спеси и нарциссизма, столь свойственных многим людям искусства. Его интересовало в нашей жизни все, и он нам обо всем рассказывал: о политике, о литературе ФРГ, о своей жене Аннемари, о детях…
Из поразивших меня реалий вспоминаю такую: Бёлль сказал, что за двенадцать лет нацистского господства (всего лишь за двенадцать!!!) немцы полностью забыли литературу предфашистских лет – и Томаса Манна, и Гессе, и Кафку. Я никак не хотела в это поверить. Тем более меня потрясло, что Бёлль не очень-то сетует по сему поводу. Он считал (по крайней мере, тогда), что писатели-эмигранты окончательно выпали из «общегерманского литературного процесса». Все, кроме Брехта, который остался «живым» и «немецким»… Да, в тот вечер меня на минуту неприятно поразила левизна Бёлля. Вспомнился лозунг наших левых «Сбросим Пушкина с корабля современности». Но лозунг появился в 20-х. Неужели писатели на Западе не поумнели с тех пор?
Где-то в час ночи я побежала на кухню ставить чайник и решила убрать со стола нетронутую жареную утку. Заметив мое намерение, Бёлль обиженно воскликнул: «Уже уносишь… Я только сейчас собрался поужинать по-настоящему».
Он курил сигарету за сигаретой, да и я курила тогда не меньше. Курил и Д.Е. И мы сидели в клубах дыма. И, перебивая друг друга, пытались рассказать решительно все о нашей жизни и делах. Когда пришло время расставаться, трамваи, метро и троллейбусы, разумеется, уже не ходили, было, наверное, около четырех ночи. Такси не удалось вызвать, и Д.Е., сильно пьяный, решил отвезти гостя в гостиницу на своем «москвиче». Признаюсь, я в ту ночь струхнула. Но что я могла сделать? Громко распевая, муж и гость спустились во двор. В скобках замечу, что Д.Е. не помнил до конца ни одной русской песни, зато с детства запомнил песню, которую в Германии пели на Рождество, – «Stille Nacht, heilige Nacht» («Тихая ночь, святая ночь»), а также любимую песню штурмовиков – «Die Reihen fest geschlossen / CA marschiert im festen Schritt» («Сомкнутыми рядами штурмовики отбивают шаг»). По-моему, с этой песней они и сели в лифт… Слава богу, и муж и Бёлль не попали в аварию. Остались живы-здоровы.
Бёлль сразу и безоговорочно завоевал сердца всей нашей сложной семьи. Семнадцатилетний Алик, уже студент, уже художник, был большой критикан и, как водится в этом возрасте, максималист. Но и он принял Бёлля. Он же передал мне утром еще один отклик на визит писателя: многолетняя наша домработница Шура, важнейший член семейного коллектива, – Шура стояла в очередях, убирала квартиру (плохо), готовила еду (плохо), воспитывала детей и нас с Д.Е., – явно одобрила Бёлля. Будучи отнюдь не красавицей, рябая и беззубая Шура тем не менее провожала каждого нашего гостя словами: «Осыпай меня золотом, я за него замуж не выйду». Это было одно из коронных ее изречений.
И вот на следующий день Алик ошеломил меня сообщением: «Осыпай Шуру золотом, она за Бёлля замуж выйдет».
Шура была отнюдь не единственной жертвой обаяния писателя. Популярность Бёлля-человека росла не по дням, а по часам. Бёлля полюбила вся небольшая, но уютная гостиница «Будапешт», где он с тех пор почти всегда останавливался. С ним просились работать интуристовские переводчики, а потом долгие годы вспоминали, «как интересно было с Бёллем». За Бёллем постоянно шел целый хвост людей. Говорят, что в Ленинграде на остановке такси очередь пропускала его вперед, достаточно было назвать имя – Бёлль.
По-моему, уже во второй свой приезд в Москву Бёлль познакомил меня со своей женой Аннемари. Потом стал приезжать с детьми – у него было трое сыновей-подростков. В один из приездов после прогулки по Москве мальчики пригласили Алика к себе в гостиницу. Ночью я позвонила Бёллю и попросила его прекратить затянувшееся свидание «наших оболтусов»… Но Бёлль сказал, что толерантность не позволяет ему вмешиваться в жизнь своих почти взрослых сыновей. А я в ответ сказала, что толерантность не мой фирменный стиль… Пусть прервет party в гостинице от моего имени и вернет мне сына…
Бёлль был замечательным отцом, я помню его слова: «Самое страшное, когда болеют дети. Ты видишь, как они страдают, и не можешь им помочь».
Неужели это было предчувствием Большой Беды? В 80-х один из сыновей Бёлля внезапно заболел и умер от рака… Ему было 35…
Но пока все казалось почти безоблачным. Бёлль приезжал в Россию и радовался встречам со всеми нами. Застолья с ним в нашем доме стали традицией. И на эти застолья уже можно было звать друзей и знакомых. Не помню, был ли на это какой-то «знак свыше», то есть разрешение властей. Теперь понимаю: конечно, был.
Бёлль начал встречаться с большим числом людей. И ему разрешили ездить по стране. Он был несколько раз в Ленинграде. Летал в Тбилиси, проехал по городам Золотого кольца, побывал в Крыму, в Прибалтике. В Ленинграде Бёлль написал сценарий телевизионного фильма «Писатель и его город: Достоевский и Петербург». В 1968 году в Ленинграде прошли съемки этого фильма.
К сожалению, во всех этих поездках ни я, ни Д.Е. его не сопровождали. Если бы приложили усилия, может быть, удалось бы попутешествовать с ним. Но я была глупая. И, как всегда, дом (семья) отнимал все силы. Дела Алика меня тревожили. Алик закончил Строгановку. Ну и что дальше?
Я уже рассказала, как мы встретили Бёлля, как он провел свой первый вечер в Москве.
Ну а где же портрет самого Бёлля? Ведь в заголовке сказано «Групповой портрет с Бёллем». Ну, пусть не портрет, хотя бы набросок, сделанный неумелой рукой.
Бёлль в начале 60-х был на гребне успеха. Он достиг всего, о чем только мог мечтать писатель. Стал знаменит и богат. Его книги читали в десятках стран на многих языках. Он мог ездить по всему миру, и повсюду его встречали с распростертыми объятиями. К его словам прислушивались. О нем писали самые известные критики и литературоведы… И где-то на горизонте уже маячила Нобелевская премия, первая премия, которую дали немецкому писателю середины XX века – не эмигранту.
Да, он был на гребне успеха, на гребне славы… Вопреки всему…
Поколение Бёлля было несчастным по определению. Отрочество писателя пришлось на послевоенные 20-е годы, голодные и холодные. А когда Бёллю минуло пятнадцать, Германию захватили гитлеровцы. Война началась для него па три года раньше, чем для меня и моих сверстников в СССР. И, в отличие от моих сверстников, он никогда не гордился тем, что был фронтовиком. Стыдно было вспоминать блицкриг в Западной Европе и страшно – войну на германо-советском фронте. Бёлль воевал шесть лет, четыре раза был ранен, подолгу валялся в госпиталях, прошел после 1945 года английские и американские лагеря для военнопленных. 14 очутился наконец в совершенно разоренной, голодной, разбомбленной стране, оккупированной и вдобавок расчлененной на четыре зоны: советскую, американскую, английскую, французскую… Правда, дома в Кёльне его ждала любящая жена. Скоро появились дети… Он не был одинок. Но ведь жену и детей надо было кормить. По ленте гениального Фасбиндера «Замужество Марии Браун» мы знаем, как пытались устроиться немцы в Западной Германии в преддверии денежной реформы 1948 года и после нее… Хапали все, что плохо лежало, спекулировали, продавали себя, родных и близких, лезли из кожи вон, чтобы достичь благополучия: жратвы, шмоток, брюликов, квартир, домов… А Бёлль говорил: «Я всегда хотел писать». И, по словам его биографов, начал писать сразу, как только кончилась война…
Можно ли себе представить более ненужное, не имеющее никаких перспектив занятие, нежели литература в тотально разгромленной побежденной стране? В стране, где на первых порах даже для выхода газеты на немецком языке надо было получить специальную лицензию от держав-победительниц? В Германии, где не осталось ни типографий, ни тем более издательств? В эту одичавшую Германию не желали возвращаться даже прославленные немецкие писатели, такие как Томас Манн или Герман Гессе, оба – лауреаты Нобелевской премии. Или такие властители дум 20—30-х годов, как Деблин или Фейхтвангер. А ведь все они были еще действующие мастера. Т. Манн создал после войны «Доктора Фаустуса» и начал «Круля». Фейхтвангер был особо плодовит, написал «Лисы в винограднике», «Гойю», «Жан-Жака Руссо», а Деблин издал своего «Гамлета»… Но вот прошло всего пятнадцать лет с тех пор, как Бёлль начал писать, и за эти годы он стал тем Бёллем, которого мы встречали в Шереметьеве в 1962 году…
Кажется, в свой второй приезд в Москву Бёлль, смущенно улыбаясь, протянул мне книгу «Писатель Генрих Бёлль» с подзаголовком «Биографический и библиографический справочник». И сказал: «Вот видишь, что у нас издают обо мне. Будешь писать – может пригодиться».
Такие «справочники» по Бёллю выходили в ФРГ с 1959 года каждые несколько лет.
Беру один из них: 250 страниц убористого текста – перечень всех работ писателя: романов, рассказов, радиопьес. Указания, где и когда они изданы. На какие языки переведены, опять же – где и когда. Перечень статей, выступлений по радио, на телевидении, лекций, докладов, интервью в ФРГ и за границей. Список переводов, сделанных Бёллем вместе с женой. Перечень литературных премий. Перечень монографий и статей о писателе на всех языках. Плюс выдержки из выступлений, статей и интервью, где содержатся сведения биографического характера.
Перелистываю очередной «Справочник» и натыкаюсь на интервью, переданное по западногерманскому телевидению в 1969 году. Ведущий Вернер Кох спрашивает: «Есть ли, в сущности, какое-то соотношение между качеством работы и ее успехом или это вообще не поддается определению?» Бёлль отвечает: «Не поддается. Совершенно иррационально, до сих пор не могу понять связи между одним и другим. Существуют очень плохие книги, которые имеют успех, и хорошие, которые… Никакой закономерности. Уж не знаю сам, может быть, многое зависит от писательского счастья… Да?»
Слово «счастье» показалось мне последним штрихом, которого недоставало в моем наброске бёллевского портрета.
В первые свои приезды в Москву Бёлль был в ореоле счастья, или, скорее, его окружала особая аура – аура счастливого, самодостаточного человека. Он достиг всего, не поступаясь ничем. Он был человеком, который сам себя сделал. И он был полон жизни. Мне даже кажется, радовался жизни в самом что ни на есть земном смысле этого слова. Любил выпить, вкусно поесть, с удовольствием закуривал сигарету после сытной трапезы. Господи, как это приятно было видеть на фоне людей, которые не знают вкуса хорошей еды, питья, хорошей беседы, которые «выше» всех земных благ и удовольствий.
Бёлль в 60-х был еще молод. В 1962-м ему исполнилось сорок пять – даже в ('ССР, где мужчины выходят на пенсию в шестьдесят, а женщины становятся «бабушками» в пятьдесят, сорокапятилетний человек считается молодым.
Таким я Бёлля и запомнила. И таким он был все первые приезды в 60-х…
Эти первые приезды были в радость и мне, и мужу. Обманчивое чувство полного взаимопонимания, которое возникло у меня в вечер знакомства, не проходило.
С этим чувством мы побывали уже в первый приезд писателя в Сергиевом 11осаде, именуемом тогда Загорском, и были приняты иерархами православной церкви. Соборы еще стояли в лесах, но духовная семинария уже работала. И в «офисах» царил полный порядок. «Офисы» я пишу только потому, что на одном из монастырских врат висела табличка с этим, тогда еще совсем непривычным, словом.
Бёллю и всей западногерманской писательской делегации показали отличное < обрание древних икон. Но больше всего меня поразило, с какой ловкостью отвечали иерархи (один из них был, по-моему, чем-то вроде министра ино-I гранных дел) на довольно каверзные вопросы Хагельштанге (он даже оперировал цифрами потерь Церкви при Сталине). Все ответы неизменно кончались I ловами: «Церковь живет хорошо…», «Мы, слава богу, в порядке и ни на что не жалуемся».
Мне казалось, что Бёлль понимает лукавство церковников… Да и лукавство всей нашей жизни…
Впрочем, тогда я мало задумывалась обо всем этом. Те первые встречи I Бёллем я воспринимала как передышку, как чистую радость, как праздник.
Вот мы начали «угощать» Бёллем своих друзей. Позже в этом участвовали и Алик, и его молодая жена Катя, что мне было особенно приятно.
Помню, на одном из таких застолий с Бёллем присутствовали Борис Слуцкий и его красивая жена Таня, и Борис очень радовался тому, что Таня взяла на себя роль переводчика и заговорила с Бёллем на английском. Борис с гордостью сказал мне: «А я думал, Таня никогда не выучится на своих языковых курсах. И вдруг наша валаамова ослица заговорила». Таня была прелестна, и за «валаамову ослицу» я обиделась, хотя знала, как трогательно Борис относится к жене…
Помню также, что по просьбе Эмки Коржавина мы пригласили и его «на Бёлля». И он, желая показать свои познания в немецком, долго мучил Бёлля, повторяя: «Их габе… их габе…» Бёлль так ничего и не понял, пока в разговор не вступил муж.
Ни один наш прием не обходился без Кости Богатырева207. И я и муж Костю просто обожали. У Кости было какое-то особое обаяние. И это искупало его странности. Он исчезал на время не только от жен – старой и новой, но и от друзей. И не позволял даже прикасаться к своим любимым немецким книгам.
Странности мы объясняли ужасной Костиной судьбой: еще студентом он попал в лапы НКВД – сидел в страшной Сухановской тюрьме, где были пыточные камеры. Бёлль относился к нему с особой нежностью и щедро одаривал. Впрочем, иногда невпопад.
Особенно я ценила в Косте полное отсутствие у него ханжества. Меня, например, трогало, что он помогал Пастернаку и его последней любви Ивин-ской. Все влиятельные дамы во главе с Лидией Чуковской старались очернить Ивинскую и осудить роман Пастернака с ней. На мой взгляд, это было отвратительно… Но сказать хоть слово в защиту поэта и его Дамы никто не решался. Никто, кроме Кости.
На всю жизнь я запомнила и разговор с Костей после кончины его отца, известного профессора.
– Неужели ты не была на панихиде по папе? – спросил меня Костя.
– Нет, не была, – ответила я. – А разве твой папа был верующий?
– Конечно нет. Но мать устроила такое шоу, что вся Москва сбежалась. Теперь стало модным ходить в церковь.
Помню и смешную Костину реплику на одном из наших сборищ в присутствии Бёлля.
Кто-то из гостей сказал, что не мешало бы сфотографировать вдвоем Бёлля и меня, его переводчицу. Нас усадили рядышком. И брат моей невестки – замечательный фотограф-любитель – сделал снимок. А потом попросил нас поменять позу, чтобы еще раз сфотографировать.
И тут раздался голос Кости:
– Довольно! Рита Райт второй фотографии Люси с Бёллем не переживет.
Все захохотали. Дело в том, что Рита Райт, очень ревниво относившаяся к своей славе лучшей переводчицы, только что перевела «Глазами клоуна» Бёлля для журнала «Иностранная литература» и очень возмущалась тем, что я продолжала переводить эту книгу для издательства.
Тогда же Костя рассказал, что встретил Риту Райт, и она спросила его:
– Вы прочли мой перевод? Поняли, как надо переводить Бёлля?
На это Костя ответил:
– Рита Яковлевна, я Бёлля не читаю в переводах. Я читаю его в подлиннике. Тем не менее знаю, что уничижительную кличку американцев, которую немцы придумали накануне разгрома, вы перевели буквально: «жидовствующие янки», а Черная перевела лучше: «Янки пархатые…»
…В первые приезды Бёлля я каждый раз сопровождала его в «Новый мир». Беседы с ним проходили в кабинете Твардовского; за длинным столом рассаживалась вся редколлегия и мы с Бёллем. Ему задавали вопросы, я переводила. 11омню, однажды он удивил новомирцев, сказав, что в СССР его книги более известны, нежели в ФРГ. В ФРГ Бёлля проходят в школах, поэтому основной его читатель – старшеклассники…
Еще больше удивили и даже огорчили новомирцев и самого Твардовского слова Бёлля о том, что в ФРГ совершенно не знают Бунина.
Трудно поверить сейчас, что во встречах Бёлля с редколлегией «Нового мира» было нечто необычное. Но при Брежневе чиновничий люд, даже причастный к литературе, был чудовищно пуглив, нелюбопытен и равнодушен. Никаких незапланированных «мероприятий» не признавал. Бёлль приезжал к нам по линии Инокомиссии Союза писателей и журнала «Иностранная литература». Вот им-то и было положено его принимать.
Но ведь Бёлль был знаменитый писатель. Неужели хотя бы литературному начальству ни разу не захотелось с ним побеседовать? Взять автограф? Может оыть, сняться на память?
Плохо вы знаете тогдашнее начальство!
Твардовский, как всегда, был исключением из правил.
Много позже издательство «Радуга», публиковавшее только зарубежную литературу, должен был посетить знаменитый немецкий писатель Гюнтер Грасс, кажется уже лауреат Нобелевской премии. Умная завотделом Нина Литвинец208, организатор этой встречи, на мой вопрос, где она будет Грасса принимать, сказала, что директор издательства дал ей ключ от своего кабинета. Я поинтересовалась:
– А сам директор не захотел повидаться с Грассом?
– Ну вы же понимаете… Зачем нашему директору Грасс?
А между тем директором «Радуги» был в ту пору С. Емельянников, бывший 1лавный редактор Гослитиздата. Тертый издательский калач.
Ни Бёлль, ни Грасс, которого у нас очень долго не переводили, не были нужны большой и малой советской номенклатуре.
Не могу не рассказать и о последней встрече Бёлля с Твардовским, которого незадолго до того сняли с поста главного редактора «Нового мира». До сих пор юржусь тем, что я эту встречу задумала и осуществила. Не без труда.
Честно говоря, осуществила не ради Бёлля, а ради Твардовского.
Придя в «Новый мир» и встретив Александра Трифоновича в коридоре журнала незадолго до того рокового дня, когда «Новый мир» был разгромлен, я сказала, что получила письмо от Бёлля и что он просил передать привет Твардовскому.
Остановившись на минутку, Твардовский заметил полуутвердительно-полувопросительно: «Вот снимут меня из “Нового мира”, и Бёлль обо мне и не вспомнит».
Таковы были негласные правила при советской власти: раз сняли, лучше забыть и на всякий случай – держаться подальше.
Сперва я просто обомлела, потом с возмущением сказала: дескать, Александр Трифонович, как вы могли это подумать?..
Разговор этот с А.Т. произошел спустя два года после того, как Твардовский много месяцев пытался напечатать у себя в журнале нашу с Д.Е. книгу о Гитлере «Преступник номер 1». И я была ему благодарна не только как постоянный читатель «Нового мира», но и как автор книги, за которую он отважно сражался, зная даже, что эта его позиция – еще один аргумент для разгрома «Нового мира».
И вот Твардовского сняли, а Бёлль приехал в Москву.
Надо сказать, что этот его приезд был несколько странен. После чехословацких событий 1968 года крупные писатели Запада перестали к нам приезжать. И в первом из тогдашних разговоров Бёлль объяснил мне и мужу, что он должен был побывать в Москве, так как «некоторые люди в нем нуждаются». Очевидно, Копелевы.
Как бы то ни было, Бёлль оказался в Москве. И, заручившись его согласием на свидание с Твардовским, я через Ирину Архангельскую209, многолетнюю сотрудницу журнала, связалась с Твардовским. Александр Трифонович передал, что он приглашает Бёлля и меня с Д.Е. на обед в ресторане Центрального дома литераторов. Пусть Бёлль назначит день встречи. Каково же было мое удивление, когда Бёлль наотрез отказался прийти в Дом литераторов. Он, мол, не переступит порога этого заведения.
Все мои и мужа попытки объяснить Бёллю, что в Советском Союзе у всех заведений одинаковая суть, ни к чему не привели.
Видимо, Бёллю внушили, что самые прогрессивные люди в СССР – писатели, а главный гонитель прогресса – начальство из Союза писателей, которое только-то и делает, что сидит в писательском клубе.
Начались долгие нудные переговоры. Твардовский в другие рестораны звать Бёлля не захотел и у себя дома принимать его тоже не пожелал.
В конце концов Бёлль смилостивился. И мы с мужем привезли его в старый особняк на Поварской, в комнату номер 8, на антресоли Дубового зала. Бёлль был с женой Аннемари. Твардовский пригласил на встречу кроме нас Льва Гинзбурга с женой. Лев был автором наделавшего шуму репортажа о нацистах «Потусторонние встречи» в одном из последних номеров «Нового мира» при Твардовском.
За столом, вернее, на одной половине стола мы расселись в таком порядке: Бёлль и рядом с ним я, а напротив нас Твардовский и рядом с ним муж. Каждое с лово Бёлля я переводила на русский, а муж каждое слово Твардовского – на немецкий.
На другой половине стола сели остальные с Аннемари.
Один раз Д.Е. захотел вмешаться в беседу Бёлля и Твардовского, но я его прервала, сказав: «Дай им поговорить друг с другом». Муж сперва обиделся, но потом признал, что я была права. После многочасовой встречи Бёлль и Твардовский в один голос сказали, что у них было такое чувство, будто разговор шел без переводчика.
А благодаря Гинзбургу и вторая половина стола тоже не скучала.
Но кроме слов, которые сказали друг другу два больших писателя и два человека примерно одного возраста, но принадлежавшие к разным мирам, были в тот день еще и невидимые флюиды и токи, которые пробегали между ними. Встретились Бёлль и Твардовский довольно холодно, а прощаясь, долго обнимали друг друга, явно растроганные. Твардовский без конца повторял: «В следующий раз приедете ко мне на дачу! В том же составе на дачу в Пахру. Обязательно!..»
Следующего раза, увы, не получилось. Твардовский скоро тяжело заболел и умер в больнице. Было ему всего-навсего 61 год…
4. Печальный финал
Как ни печально это признать, но именно в тот приезд Бёлля в Москву кончилась наша 1акая сердечная поначалу дружба. Почему?
Формально потому, что мой перевод бёллевского романа «Групповой портрет с дамой» был опубликован в журнале «Новый мир» (уже без Твардовского) I купюрами. И эти купюры не были согласованы с Бёллем.
На самом деле все обстояло куда сложней.
«Групповой портрет…» вышел в ФРГ в 1970 году. Я получила его от Бёлля немного раньше, еще в верстке… Все равно, на дворе уже были 70-е.
1970 год – конец не только календарных 60-х, но и «шестидесятых», которые остались в памяти как годы «оттепели», годы перемен к лучшему, годы надежд.
Впрочем, «шестидесятые» были похоронены в августе 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу и покончили с Пражской весной.
А колокол – по ком звонит колокол – зазвонил еще раньше.
В 1966-м прошел процесс Синявского и Даниэля – двух писателей, вся вина которых заключалась в том, что они передали за границу свои произведения (под псевдонимами) и их там напечатали.
За год до процесса Синявского и Даниэля было менее громкое дело Некри-ча. Фантастическая история. Некрич, коммунист, фронтовик, написал о начале войны книгу, которая прошла пять или шесть инстанций. И все эти пять или шесть инстанций засвидетельствовали, что в книге нет политических ошибок и неточностей. Но прошло время, и в «Правде» появилась разгромная статья. А потом Некрича исключили из партии.
Но в расправе с Синявским – Даниэлем и в травле Некрича была и положительная сторона. Синявский и Даниэль – первые фигуранты политического процесса с 1920-х годов, которые не стали каяться, унижаться и признавать свою вину, тем более мнимые преступления. А «провинившийся» Некрич – первый коммунист с тех же 20-х, который не только не отрекся от себя, от своей книги, но и собрал видных историков, чтобы те сказали свое нелицеприятное слово. И историки это слово сказали, защитили Некрича.
Но все равно с началом 70-х многое поменялось. Откат назад к сталинщине стал явным. Картина 70-х будет неполной, если абстрагироваться от зловещей фигуры шефа КГБ Андропова, особо коварного и хитрого чекиста, к тому же метившего в генсеки.
Андропов первый после Сталина затеял игры с интеллигенцией. На поверхности было то, что он приблизил к себе группу международников – Арбатова, Бурлацкого, Загладина, Зорина. И еще многих других. Часть этих ребят я знала. Они были для меня Юра, Федя, Валя. Наскоки на них таких прытких интеллектуалов, как Веллер, смешны. Не они делали политику в Советском Союзе. Думаю, эта группа искренне хотела «как лучше». Мешать она стала только в конце перестройки.
Опасность была в том, что Андропов и его гэбэшники пытались проникнуть в протестную среду. И, видимо, проникли. Поссорили одну часть интеллигенции с другой. Служивый люд с представителями так называемых творческих профессий. Создали атмосферу недовольства друг другом.
Конечно, и до Андропова интеллигенция была расколота на, условно говоря, западников и почвенников. И протестные требования у них были разные. Жестоко преследуемый, талантливый писатель крайне правого толка Леонид Бородин или православный диссидент Игорь Огурцов ставили цели, прямо противоположные тому, к чему стремились либералы или коммунисты типа братьев Медведевых… А молодежь и вовсе шла своей дорогой. Но все это было совершенно естественно для России.
Однако Андропову и его сотрудникам-провокаторам удалось посеять рознь и недоброжелательность среди, казалось бы, единомышленников.
Ненависть и раздоры охватили многие интеллигентские кланы.
Вспоминаю, как бывшие «космополиты» пытались развенчать Илью Эренбурга, как презрительно фыркали, говоря о книге «Люди, годы, жизнь».
Помню, как Лидия Чуковская набрасывалась на Валентина Катаева, который, кстати сказать, был одним из отцов «оттепели» – в качестве редактора журнала «Юность».
Вспоминаю также, что после разгрома «Нового мира» сотрудники Твардовского уже сразу в 70-х разбежались по разным «идеологическим» углам. Л некоторые и вовсе стали мракобесами, а один из них позже докатился до «Протоколов сионских мудрецов», которыми в царской России брезговали <амые махровые реакционеры…
Помню и то, что, приехав в 1989 году в США повидаться с сыном, я была поражена, с какой яростью русские эмигранты-инакомыслящие кидались на… (Солженицына, одни изгнанники на другого изгнанника.
И еще я, к своему стыду, вспоминаю, как в 70-х я стала подозревать буквально в каждом втором человеке агента КГБ. Особенно если он громко говорил о своей нелюбви к советской власти. А ведь раньше я и муж были на редкость доверчивыми людьми и, между прочим, ни разу не ошиблись ни в друзьях, ни в малознакомых людях.
Такова была обстановка в той части общества, к которой я принадлежала. I Неблагополучие постигло и мою семью. Алик еще в конце 60-х окончил Стро-гановку. И сразу стало понятно, что ему предстоит тяжелый путь опального художника. Серьезной работы не будет, выставок тоже. Грошовые заработки. Л ведь у Алика уже была семья, в 1974 году родился мой внук, солнечный мальчик Даня. И в том же году прошла «бульдозерная выставка», одним из организаторов которой был сын. А через три года – его трагическая эмиграция. Да, я и тогда, и до сих пор считаю ту эмиграцию трагедией…
Не знаю, как у других людей, а у меня беда, неприятности всегда приходят разом.
И вот в такое смутно-мутное время я засела за перевод «Группового портрета с дамой», сложного романа. Уже в самом его посыле таилась явная крамола.
В центре романа была любовь русского военнопленного Бориса и пленительной девушки-немки Лени. Русский и немка на фоне воюющей, близкой к тотальному поражению Германии… Мораль «Группового портрета…» – любовь, терпимость и благородство выше всех политических и национальных различий, выше войны, выше всего.
Но эта мораль была диаметрально противоположна установкам советской власти и неприемлема для homo soweticus. Неприемлем был и сюжет романа: Борис и Лени, трогательные, как два голубка, до конца войны трудятся в мастерской ритуальных услуг, плетут венки на могилы немецких покойников, жертв войны. А после войны воссоединяются в ФРГ. И Борис на берегу Рейна читает стихи Тракля.
Если память мне не изменяет, австрийский поэт Георг Тракль – типичный буржуазный пацифист и абстрактный гуманист. Как это непохвально с точки зрения советского морального кодекса! Но бог с ним, с Траклем. Самое вопиющее, что Борис не возвращается в СССР. Он выбирает себе новую родину, ФРГ, то есть Германию Аденауэра.
А ведь именно в 70-х впервые со времени далеких 20-х годов в СССР заговорили об эмиграции. Именно с 70-х началась так называемая «еврейская эмиграция». Я говорю «так называемая», потому что знаю – очень многие вызовы из Израиля приходили и к неевреям, желавшим покинуть Советскую Россию. Да и многие евреи по паспорту не имели ничего общего ни с иудаизмом, ни с Государством Израиль. Для отъезда заключалось много фиктивных браков, и родилась острота: жена-еврейка как средство передвижения.
Естественно, официальная пропаганда объявила всех желавших уехать предателями. Мол, бывшие безродные космополиты бегут из России, наплевав на Родину, которая их поила, кормила и бесплатно учила в вузах… Не знаю, верили ли люди этой пропаганде, но знаю, что и часть интеллигенции также порицала отъезжающих.
И тут вдруг роман, где русский, сын высокопоставленного разведчика-эн-кавэдэшника, по доброй воле остается на Западе…
Словом, роман «Групповой портрет с дамой» ни в коем случае не годился для публикации в СССР. Что и не преминул отметить сам Бёлль, приехавший в Москву.
Зачем же прислал мне верстку? А потом и брошюры, где объяснялось, как плетут кладбищенские венки?
В глубине души я и, видимо, он надеялись на то, что в России роман все же прочтут.
Вместе с тем я отчетливо видела, что некоторые эпизоды «Группового портрета с дамой», касающиеся советских реалий, неудачны. А некоторые просто I мешны. Неудачны вкрапления об отце Бориса. Безусловно смешон был рассказ о том, что отец, русский парень, подверг сына обряду обрезания из гигиенических соображений. А потом, боясь, что Борис попадет в плен к гитлеровцам п они примут его за еврея, велел пришить к члену… кусочек кожи. И вот во время объяснения с Лени кожа норовила отскочить. Вычеркнула я и строки об аресте и об освобождении «честного коммуниста», отца Бориса. Боялась, что к ним придерутся в цензуре. А советскому читателю эти несколько строк ничего не говорили. Ведь мы уже прочли в «Новом мире» «Один день…» Солженицына, а в самиздате – «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. И на горизонте маячил «Архипелаг ГУЛАГ».
У Бёлля были свои слабости, ему казалось, что он, Бёлль, разобрался п в русской душе, и в советской жизни как никто другой. В этих местах книги чувствовались явная фальшь и чужие подсказки.








