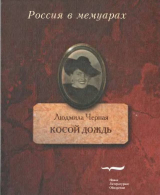
Текст книги "Косой дождь. Воспоминания"
Автор книги: Людмила Черная
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 47 страниц)
И в этой деревне должен был расти наш единственный сын.
Вот с чем осталась я.
Ну а с кем мы остались? С какими соратниками? С жирным «аппаратчиком» Маленковым, бабье лицо которого внушало мало доверия. Поэт Коржавин прозвал его Маланьей. С жутким Берией. С безликим Молотовым, жена которого была сослана. Даже ее он не смог или не захотел защитить. С малограмотным Хрущевым. С отвратительным Кагановичем. С хитрым Микояном, про которого ходил замечательный анекдот: «Анастас Иванович, дождь льет как из ведра, все с зонтиками. Что же вы без зонтика?» – «Ничего. Я между струями пройду, не замочившись…»
Не знали мы тогда стихотворения Мандельштама о кремлевском горце и сброде его «тонкошеих вождей», о тех, «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет», о всех этих «полулюдях». Не знали, но носом чуяли, что они полулюди.
И все-таки оказались не правы.
Даже Маленков, Берия и Молотов – первая тройка – были наименьшим злом. Кстати, портреты Маленкова долго висели в избах у деревенских стариков, крестьяне надеялись, что Маланья спасет их от сталинского крепостного права.
Не говоря уже о Хрущеве.
Ну а мы, нетитулованная интеллигенция, как-то очень скоро очухались. Я не ожидала, что это произойдет так быстро.
Расскажу только об одном забавном эпизоде. По-моему, летом не то в 1956-м, не то в 1958 году ктЛо из знакомых в нашем доме пришел с интересным известием: напротив нас через улицу в магазине «Академкнига» продается брошюра – докторская диссертация математика по фамилии Гастев, и эту брошюру надо немедленно купить. Мы, конечно, купили.
В тексте диссертации ничего не поняли. Но в конце брошюры, где диссертант напечатал список ученых, благодаря которым он и написал свою работу, значились два имени: Д. Чейн и У Стокс.
И тут мы сразу все уразумели и все вспомнили. Вспомнили, как диктор Левитан прочел в сводке о болезни Сталина: «Несмотря на интенсивное кислородное и медикаментозное лечение, наступило чейнстоксово дыхание». Много лет спустя я прочла в «Новой газете», что математик Юрий Гастев, в прошлом узник сталинских лагерей, поблагодарил после защиты диссертации врачей Джона Чейна и Уильяма Стокса за то, что они описали дыхание, которое наступает непосредственно перед клинической смертью…
P.S. Ну а как же преферанс? Повлияла ли смерть Сталина на мое пристрастие к этой увлекательной «умственной» игре? Повлияла. Очарование преферанса поблекло. Вернувшись к более или менее нормальной жизни, я уже не жаждала во что бы то ни стало отключиться. Иногда мы еще расписывали пульку, но это происходило все реже. И постепенно я вернулась в свое первоначальное допре-ферансное состояние: не могу отличить валета от дамы.
Тогда возникает другой вопрос: к чему писать о преферансе, если собираешься рассказать о смерти Сталина? Но так уж получилось, что воспоминания об историческом событии – смене одной эпохи на другую – тесно срослись в моей памяти с картами, с отчаянно азартной игрой в преферанс, с сестрами Сергеевыми, а сестры Сергеевы – с Гудаутами. Не хочу все расставлять по полочкам: на одной – события, на другой – мелочи жизни. На самом деле в голове они почти всегда переплетены.
2. Первая весна… Начало «оттепели»
Бег времени» – устойчивое словосочетание. Но иногда время движется медленно, иногда оно и впрямь бежит. После 5 марта 1953 года, то есть после смерти Сталина, время буквально понеслось вскачь. Жизнь стала меняться даже не сразу, а мгновенно. По нашему тогдашнему восприятию, настала эра больших и малых «чудес».
Большие «чудеса» всем памятны: реабилитация ни в чем не повинных врачей уже в апреле 1953 года и попытки прекратить антисемитскую кампанию.
Далее: какие-то непонятные слухи насчет кардинальных поворотов в политике. Для меня, простой смертной, эти слухи связаны со статьей Маленкова в «Правде».
Маленков написал, что надо думать не только о промышленности «группы А», то есть о тяжелой промышленности, в основном военной, но и о промышленности «группы Б», иными словами, о текстильной, обувной, пищевой, наверное, даже о часовой и парфюмерной отраслях.
Уже сама постановка вопроса о «группе Б» была сенсационной. Стало быть, и впрямь новое веяние: советских людей, видимо, следует как-то получше оде-вать-обувать, вообще приводить в божеский вид, к примеру, снабжать часами не только в качестве премии за ударный труд.
О следующем «чуде» 1953 года мы с мужем также узнали из «Правды», где сообщалось, что все тогдашние вожди, от Молотова до Первухина, прослушали оперу «Декабристы» Шапорина в Большом театре. Все, кроме Берии, который на опере не присутствовал. Во всяком случае, его имени в обязательном перечне не было.
И тут у нас с Д.Е. начался, как писали в то время, «большой разговор», скорее небольшой семейный скандал. Муж утверждал, что Берия кончился, его посадят и расстреляют. Я с пеной у рта спорила: мало ли что случилось с Лаврентием Павловичем: он мог схватить грипп, у него могла подняться температура до 40°, он мог лежать на операционном столе с гнойным аппендицитом.
Ясное дело, я оказалась неправа, а муж – знатоком системы и тогдашнего накала борьбы за власть. Берию и впрямь скоро казнили.
Но кроме этих больших «чудес» происходили и «чудеса» малые.
К примеру, самый хитрый, самый чутконосый «инженер человеческих душ» Константин Симонов попал впросак. Будучи главным редактором «Литературной газеты», он сочинил передовую, в которой призвал всех творческих людей посвятить свою дальнейшую жизнь прославлению Сталина. Дескать, это задача на века. Я всегда читала «Литературку» от корки до корки, все-таки она была поживее других газет. Но, каюсь, в этой передовой ничего не узрела, а может, и не стала читать. У меня с Симоновым вообще были большие трудности. Через его тягучую, многословную прозу и публицистику без единой мысли, но с беспрерывными виляниями я всегда продиралась с трудом. А его романы вообще дочитать даже До середины не могла. Но это я. А «кому надо», тот передовую прочел и все у^эел. После чего знакомые сказали нам, что у Симонова возникли неприятности.^ потом выяснилось (пикейные жилеты подсчитали), что имя ('талина стало встречаться на страницах газет все реже и реже! Чудеса!
Но уже совсем «чудом» в глазах простого обывателя стали турпоездки за границу. Турпоездки не для мидовцев, цековцев или газетчиков типа Мэлора Стуруа125, профессионально разоблачавших американский империализм, а для рядовых граждан.
Когда Нина Игнатьева, журналистка126, писавшая о театре в эпоху космополитизма и не запятнавшая себя ни одной антисемитской строчкой и имевшая только одну слабость – любовь к красивым платьицам и кофточкам, двинулась в гур по Скандинавии, мы все поняли, что наступили другие времена. Я сама слышала комментарии Нины к загнивающему Западу: «Стокгольм – чудесный, ишечательный город, там я купила халатик и красные туфельки… Копенгаген – дивная красота. Два джемпера. Осло – безумно интересно – белые босоножки и три шарфика…»
При этом Нина демонстрировала объекты своих рассказов, давая нам пощупать и даже примерить и красные туфельки, и халатик, и шарфики… Это был не кунштюк, а честный прием. И интересно, и наглядно…
«Чудом» можно считать и создание журнала «Международная жизнь» в октябре 1953 года. Ведь уже существовал аналогичный журнал «Новое время». Зачем два журнала, если у партии нет разногласий по международным проблемам? Одно мнение, одна установка, один журнал. Однако новый журнал появился. И это «чудо» коренным образом изменило жизнь мужа. Сначала его назначили в «Международной жизни» заведующим отделом, а скоро и вовсе членом редколлегии.
Только теперь, после того как мужа уже давно нет, я, по-моему, разобралась в этом «чуде» с Д.Е. И то лишь благодаря П. Черкасову, одному из молодых сотрудников мужа, а ныне маститому профессору, кавалеру ордена I Учетного легиона. Черкасов написал историю Института мировой экономики и международных отношений127, где Д.Е. проработал много лет. Копаясь в архивах, он с удивлением обнаружил, что двадцатипятилетний Меламид на второй год войны был назначен завотделом ТАСС решением ЦК ВКП(б). Именно это решение, видимо, и стало охранной грамотой для Д.Е. Наверное, по канонам того времени выкинуть на улицу человека, фамилия которого фигурировала в высочайшем рескрипте, не полагалось. Одну бумагу надо было ликвидировать с помощью другой, а у ЦК до этого руки не доходили. Не до Меламида было! Так мужа и не уволили до смерти Сталина. А уж после 1953 года назначить не вышибленного из номенклатуры человека в новый журнал оказалось парой пустяков.
Итак, дела Д.Е. резко пошли в гору. Большая зарплата. Спецбуфет. Возможность писать во все газеты и журналы. Читать лекции во всех аудиториях. Ездить в командировки в Германию, в страну его детства и отрочества. А самое главное – осуществить мечту и внести, быть может, какую-то живую мысль в заскорузлую сталинскую доктрину международных отношений.
И эта мечта, казалось, воплотится в жизнь. Муж был включен в группу международников, которым было доверено создать новый учебник по международным отношениям. И писали его не где-нибудь, а на госдаче в Нагорном[По воскресеньям я несколько раз приезжала к мужу в Нагорное с Н.С. Сергеевой, мы смотрели там иностранные фильмы.].
Госдача в Нагорном – большое число строений, окруженных забором и под охраной, – произвела на меня неизгладимое впечатление. Ни в одном известном мне санатории так обильно и вкусно не кормили и уж наверняка не показывали раз или два в неделю не шедшие в прокате западные фильмы.
Молодые А.С. Беляков, Ф.М. Бурлацкий, наконец, Г.А. Арбатов128 начинали там большую карьеру. Но для моего мужа все скоро кончилось. В Нагорном он не прижился. К счастью.
Муж все время хотел написать нечто оригинальное, новое, но старшим группы (не знаю, гласным или негласным) был Арбатов, а тексты правил, то есть подводил под один знаменатель, Лева Шейдин (мой приятель еще по ИФЛИ). Человек умный и остроумный, он был, увы, из породы навсегда запуганных интеллигентов. К тому же очень больной, в Нагорное приехал после инфаркта.
Естественно, сидевший там месяцами коллектив ничего путного не высидел, разве что заменил расхожие цитаты из Сталина соответствующими цитатами из Ленина. Но лиха беда начало. Потом по методу работы в Нагорном было создано много трудов и «документов».
В своей автобиографической книге «Человек системы»129 покойный академик Арбатов превозносит коллективную работу на госдачах, считая ее как бы своими «Lehrjahre», «годами учения», если следовать Гёте. Гёте называл роман «Вильгельм Мейстер», где были описаны годы учения героя, «романом воспитания», можно еще сказать романом становления личности. Арбатов прав. Писание коллективных трудов было для него и его товарищей становлением личности и обернулось еще и становлением особого жанра.
По-моему, именно в Нагорном впервые был создан жанр коллективных работ. Там задумывался не просто учебник определенного направления. К примеру, такой, как учебник истории либерала Ключевского или монархиста Иловайского, как учебник Платонова или учебник одержимого большевика М.Н. Покровского130. Словом, не учебник, где отразились бы взгляды, и даже заблуждения, и ошибки отдельного автора. Нет, создавался коллективный труд. За него никто не отвечал. И у него не могло быть ошибок по определению, ведь это – детище коллектива, и, если кто-нибудь сморозит глупость, его поправят товарищи. Стало быть, появится истина в последней инстанции.
При Сталине такого не было. Канонический учебник «Краткий курс» писал сталинский холуй Емельян Ярославский. Потом Сталин кое-что поправил, вставил (неграмотно) некоторые абзацы. И, как гласит молва, собственноручно написал четвертую главу. После чего «Краткий курс» стал считаться его трудом.
Еще удивительнее представить себе, что, скажем, Зиновьев и Каменев, Троцкий и Радек стали бы творить книги вчетвером или еще более обширным коллективом. Да к тому же на даче.
У «Азбуки коммунизма» были два автора: Бухарин и Преображенский131. Но что писал каждый из них, указано.
Правда, кое-какие попытки коллективного творчества уже были и до войны. Гак, Минц132 (кстати, и он был в Нагорном) еще до войны годами сочинял с сотоварищами «Историю гражданской войны»133…
Но все это следует считать, так сказать, пробами пера.
Начиная с Нагорного почти всё, то есть и речи вождей, и партийные документы, писалось совместно и обязательно на госдачах, как бы в коммуно-мо-настырях – без жен, без детей, вне мирских забот, с многоразовым питанием, в комнатах, обставленных казенной мебелью и убираемых казенными уборщицами, с казенными кроватями и казенным постельным бельем.
Так выработался стерильно-образцовый партийный стиль – все подробно написано, но ничего определенного не сказано. Я бы назвала этот стиль «арбатовским».
Уже в XXI веке Бурлацкий рассказал в газете «Известия» на целой полосе, что «потаенный Андропов» (таков загадочный заголовок полосы) собирал тех же Арбатова, Бурлацкого и других, которых называл «аристократами духа», и, сочиняя очередной документ, вслух «мыслил»134. Говорил какую-то фразу, а один из «аристократов духа» вносил свои поправки, иногда заменял одно слово на другое, иногда формулировал экспромтом новый стратегический ход.
Ни я и никто из моих знакомых эти длиннейшие опусы не читал, и, клянусь, это было неудобочитаемо.
Насколько бесхитростный Л.И. Брежнев был умнее – он просто давал другим сочинять за себя и документы, и речи (арбатовским стилем), и даже художественные произведения, но уже «другим манером», как писала уже поминаемая мной Молоховец в своей книге «Подарок молодым хозяйкам».
Кстати, «арбатовский» стиль не дозволял никакой хулы даже на давно почившее начальство.
Написав и издав книгу воспоминаний «Человек системы» аж в 457 страниц, Г. Арбатов ни разу не ругнул «от души» бездарей эпохи Брежнева – Андропова – Черненко, как ругал авторов русского экономического чуда Гайдара и его команду.
Если верить мемуарам Арбатова, то все годы застоя вокруг него и над ним были чудесные люди, например Куусинен, который «не только понимал идеи Ленина, но и мыслил в одних с ним категориях…». Не говоря уже об Андропове, отношение к которому у Арбатова «иногда граничило с восхищением».
И, заметьте, писалось это в… 2002 году[Прочтя мемуары А.Н. Яковлева, я поразилась, узнав, что самым бессовестным в кругу брежневских политиков был не кто иной, как Андропов. В 2010–2013 годах это говорили уже все, кто пережил то время.].
Но бог с ним, с Арбатовым, он был человек способный и не особо вредный. Со времени Нагорного у мужа с ним не было никаких точек соприкосновения. У меня тем более.
Но вернусь к Нагорному.
Просидев, кажется, почти полгода там на госдаче, Д.Е. продолжал получать высокую зарплату в «Международной жизни» и пользоваться тамошним привилегированным буфетом, где водились и семга, и прочие деликатесы. Правда, семга была того же вида, что и семга в столовой на Ленинском проспекте, где даже в лихих 90-х получали спецзаказы академики, – семга с головой, кожей и костями. Поэтому я от нее решила отказаться.
Но с семгой или без семги муж продолжал трудиться в безусловно элитном журнале «Международная жизнь». А я до поры до времени прозябать. Но уже лет через пять после 1953 года – прозябать в отдельной квартире.
3. Визит молодой дамы
А теперь несколько зарисовок людей, которых я могла встретить только после смерти Сталина… «Оттепель». Замороженная страна начала шевелиться, дышать. Прошел XX съезд и далее XXII съезд. Сталина вытащили из Мавзолея.
Я еще сравнительно молода, и мне хочется забыть все дурное и начать с чистого листа. Но где-то в подкорке по-прежнему сидит упорная мысль – немалая часть жизни испорчена, изуродована Усатым Паханом (так мы тогда называли Сталина…).
Но только в подкорке… А тот день вроде бы безоблачный: по календарю – уже весна, по погоде – скорее конец зимы. Воскресенье. И мы с мужем идем обедать в ресторан Дома актера: это называлось тогда «обедать у Бороды», поскольку директор ресторана носил бороду. По деньгам нам доступно. Кормят вкусно. Но самое главное, ресторан Дома актера на углу улицы Горького (Тверской) и Пушкинской (Страстной) площади, то есть в самом центре. А мы, неименитая московская интеллигенция, постепенно смещаемся на окраины. И так хочется погулять по старым, знакомым с детства улицам.
Словом, к Бороде ходят охотно.
Кончаем обедать. И тут появляются и шумно приветствуют нас два старых хороших знакомых: Дезик Кауфман, он же известный поэт Давид Самойлов, и его ближайший друг Борис Грибанов135. Я знаю обоих еще с ифлийских времен.
С ними молодая девушка. Постояв немного около нас, они устремляются к свободному столику, просят, когда расплатимся, подойти к ним. Мы подходим, присаживаемся. Девушку зовут Светланой. Дезик явно ухаживает за ней, шепчет что-то на ушко, обнимает, время от времени повторяя: «Запомните ее фамилию (кажется, Евсеева136), она будет большим поэтом».
Однако основная тема нашего пятиминутного разговора иная: почему мы, такие-сякие, получив (купив) несколько лет назад кооперативную «роскошную квартиру», не пригласили их на новоселье. Мы отвечаем, что новоселья не было. 11риходите, милости просим, когда угодно. Можно и сегодня.
Борис записывает адрес и говорит, что они непременно придут. И мы расходимся. У нас какие-то дела «в городе». Тогда наша улица на Ленинском проспекте казалась нам далекой окраиной. Дезик и Борис собираются на вечерний сеанс в кино.
В одиннадцать вечера мы входим к себе домой.
Мы с мужем живем теперь в огромном, тринадцатиэтажном доме – всего в нашем кооперативе на улице Дмитрия Ульянова три корпуса и только в одном нашем корпусе «Б» шесть парадных. И мы нашей квартирой страшно горды. В ней три комнаты, но мы поделили одну – и теперь у детей, у Алика и Аси, по комнате, а у нас целых две – столовая и кабинет. В столовой стены по обоям выкрашены в разные цвета: две стены терракотовые, две – темно-серые. А в большом кабинете мы спим на широкой зеленой тахте из чешского гарнитура. Стенка тахты стала столешницей самодельного письменного стола, которым мы особо гордимся: говорят, такой стол привез из США Симонов. И наконец, еще один предмет гордости – телефон на письменном столе. Получить телефон в новой квартире через полгода после вселения – это как выиграть миллион в лотерею!
С порога я бросаюсь к телефону – мама требует регулярных звонков: отец старый и больной, и мама ежеминутно опасается за его жизнь. Говорю с мамой и слышу звонок в дверь. Пришли Дезик и Борис. Они, как и в Доме актера, втроем, с какой-то молодой женщиной, которую опять же зовут Светлана. Несмотря на близорукость, я понимаю, что это уже другая Светлана, рыжеватая и постарше первой. Она очень хорошо одета и особых восторгов по поводу нашей квартиры и даже по поводу стен, выкрашенных в разные цвета, не высказывает. А то, что она хорошо одета, я понимаю только по тому, что Тэк зимой ездил в командировку в Швецию и купил мне дорогущее платье из какой-то диковинной шерстяной ткани, черной с серым начесом. Я бы такого платья ни в жизнь не купила, жаба заела бы. Но Светлана номер два, так я ее мысленно окрестила, была в похожем платье.
Гости тут же объявляют, что они голодны. А у нас в доме, как на грех, хоть шаром покати. Даже хлеба нет. В пустом холодильнике непочатая бутылка армянского коньяка (позже узнала, что коньяк охлаждать не положено) и две котлеты. Было еще, кажется, печенье. Муж тут же варит во всех имеющихся джезвах кофе по-турецки, который при жизни Сталина успели переименовать в «кофе по-восточному». И все эти яства мы выставляем на низенький неудобный столик перед зеленой тахтой.
Однако по каким-то причинам разговор не клеится. Мне, как хозяйке, неприятны и позднее вторжение гостей, и отсутствие еды. Ведь тогда магазины работали только до восьми или девяти. А в нашем новом районе их вообще почти не было. И еще раздражало, что поэт все время приставал к Светлане номер два, то гладил ее, то обнимал, то хватал за коленки. Я – родом из патриархальной семьи, и ласки на публике меня смущают. К тому же мы в дружеских отношениях с женой поэта, красивой Лялей Фогельсон137, и мне кажется, что прийти в дом к общим друзьям с незнакомой дамой и довольно грубо приставать к ней – не очень-то красиво. Тем более что такие же ухаживания поэт Давид Самойлов продемонстрировал нам несколько часов назад в Доме актера, только Светлана была другая.
Словом, в тот поздний вечер я взвинчена. И то, что сидело в подкорке, вылезает наружу. Громко вспоминаю день, когда объявили о смерти Сталина. Вспоминаю, как пришли друзья мужа, принесли пол-литра и сказали: «Хуже не будет. Умер Тиран. Радуйся, Тиран умер. Ненавистный всему миру Тиран».
И это только начало. А дальше я уже не могу остановиться. С одиннадцати до трех ночи поношу Сталина, почти не отвлекаясь от этой темы. Впрочем, нет, один раз отвлеклась. Вспомнила Аджубея, с которым мы познакомились у наших приятелей на новоселье, и удивилась, что у нынешнего генсека такой прекрасный зять. И тут же добавила: «Сталин бы такого парня не потерпел».
Так, повторяю, продолжается до трех ночи. Меня, правда, несколько удивляет: отчего гости столь молчаливы? Дезик Самойлов – человек очень остроумный и большой говорун. А тут он помалкивает, усмехается…
Но вот гости прощаются, и муж идет их провожать к нашему тогдашнему старомодному лифту, который на этажах открывался только ключами постоянных жильцов. Муж, дама и поэт выходят на лестничную площадку, а Борис Грибанов слегка замешкался и говорит мне примерно следующее:
– Ну и выдала ты текст насчет Сталина. Вот это да!
Я спрашиваю, что особенного было в моих речах. Он отвечает:
– Ну, все-таки сказать дочке Сталина в глаза такое про ее папашу…
Только тут до меня доходит, что рыжеватая, хорошо одетая Светлана – Светлана Сталина.
Не буду рассказывать, как я провела ту ночь. С трудом узнав телефон Светланы у Бориса Слуцкого, я позвонила ей утром, часов в девять. И, разговаривая с ней по телефону, вдруг взглянула на откидной календарь. Взглянула и вздрогнула: на календаре была роковая дата «5 марта». 5 марта – день смерти Сталина.
Когда Светлана взяла трубку, я сказала буквально следующее:
– Светлана Иосифовна, сожалею о том, что произошло вчера в нашем доме. Приношу свои извинения. Я понятия не имела, что вы дочь Сталина, если бы шала, никогда не позволила бы себе бранить отца в вашем присутствии. Очень прошу забыть это…
Она ответила буквально следующее:
– Ну что вы, я не обиделась. Я к этому привыкла. Мне у вас очень понравилось. Ваш муж варит вкусный кофе. Я с удовольствием приду к вам еще раз.
– Обязательно, – заверила я ее, – мы вас непременно пригласим.
И, кладя трубку, подумала: «Никогда в жизни!»
Эту сценку я запечатлела на бумаге еще в прошлом веке, чтобы повеселить больного мужа. Сценка со Светланой Сталиной была, кажется, первой из записей-«фитюлек».
Прошло еще лет десять, и я написала следующий конец к этой зарисовке…
Очень долгое время я возмущалась нашими друзьями, без предупреждения приведшими к нам в дом Светлану Сталину. Обидней всего было то, что у Самойлова и у Грибанова нашлась бы тысяча возможностей остановить меня – кто-то из них выходил одновременно со мной на кухню, оба они могли вызвать меня под любым предлогом в соседнюю комнату и т. д. и т. п.
Я решительно не могла простить этот казус ни Дезику, ни Борису. Про саму героиню я, как ни странно, вообще не думала. Но потом вдруг поняла: просидеть четыре часа с каменным лицом и слушать поношения собственного отца в канун годовщины его смерти – Светлана наверняка не забыла эту дату – могла только дочь этого самого отца. Ей ничего не стоило назваться, сказать, что разговор ей неприятен.
И только дочь этого отца могла убежать за границу, бросив двоих детей, даже не подумав, что они рискуют подвергнуться жестоким репрессиям. И только дочь этого отца, вернувшись снова на родину, удивилась, что дети не встретили ее с распростертыми объятиями.
Сейчас, много лет спустя, я думаю иначе – мне Светлану жаль. Она такая же жертва своего отца, как и все мы.
В конце 2011 года по телевидению сообщили, что Светлана Сталина умерла в США. Умерла в бедности, а главное, в полном одиночестве. А ведь у нее было трое детей, а стало быть, и внуки. Для нас, совков, она сделала немало уже самим фактом своего бегства из СССР. Книги Светланы я вспоминаю со смешанным чувством. Из них явствует, что свою дочку Сталин все же любил. А в русском языке понятие «любовь» тождественно понятию «жалость». Но ни любовь, ни жалость не вяжутся со страшным именем «Сталин».
4. Семен Николаевич
Нижеследующую историю рассказал мужу и мне Семен Николаевич Ростовский, человек чрезвычайно небанальной судьбы. Рассказал в начале 60-х. О самом Ростовском позже. Но и история, поведанная им, любопытна как один из вариантов пенитенциарных игр в нашем царстве-государстве.
Прежде чем выслушать Семена Николаевича, мы усадили его на лоджии, которая выходила на весьма оживленную улицу Дмитрия Ульянова. Таким образом, мы были не в закрытом помещении, где предполагались микрофоны. И наши голоса заглушал уличный шум. Вот как крепко у нас в костях засел страх. Хотя разговор с Ростовским был спустя лет десять после смерти Сталина, в эпоху «реабилитанса», то есть в сравнительно безопасное время.
Привожу «новеллу» С.Н. Ростовского в том виде, в каком я ее запомнила.
«Вы, наверное, знаете, что меня посадили в феврале 1953 года. И сразу же отвезли на Лубянку во внутреннюю тюрьму. Допрашивали каждую ночь. Нет, никаких избиений не было. Не было ни пыток, ни побоев. Только ругань и очень яркая лампа. Свет бил прямо в лицо. И допросы длились до утра. А спать в камере днем не разрешали.
Через несколько дней я попросил бумагу и карандаш. Мне дали и то и другое. И я начал писать записки следователю. Я писал: “Расстреляйте меня. Никаких показаний я дать не могу, поскольку ничего достойного Вашего внимания не знаю”. Да, я все время писал: “Расстреляйте меня”. И на самом деле ничего так горячо не желал, как расстрела.
Я, как вы знаете, человек здоровый и выносливый, но понимал, что пыток не выдержу. Сойду с ума, оговорю ни в чем не повинных людей.
Расстрел представлялся мне единственным приемлемым выходом.
Дней десять длилась эта мука. А потом меня вдруг перестали вызывать на допросы. Шли ночи, шли дни. Ночью я спал, днем вышагивал по камере и мучительно размышлял, какие страдания меня ожидают? И как к ним подготовиться? А главное, как заставить их убить меня сразу?»
На секунду прерву рассказ Ростовского. Чрезвычайно искушенный политик, он, безусловно, умственно превосходил своего следователя. По вопросам этого гэбэшника Семен Николаевич довольно скоро догадался, что его хотят использовать в деле… самого Молотова… Ростовский много лет жил в Англии, был знаком с советским послом в Лондоне Майским и, видимо, должен был фигурировать на процессе как английский шпион – связной между Майским и Молотовым. В любом случае ему грозила высшая мера. Просьба о быстрой смерти была вполне логичной…
Продолжаю рассказ Ростовского: «Итак, меня больше не допрашивали. По моим расчетам, месяц. Потом опять появился конвойный и привел меня в ту же комнату. Только следователь был другой и проклятую лампу не включали. Незнакомый следователь вежливо предложил сесть, а сам довольно долго листал какие-то бумаги. Все это время меня сотрясала дрожь. Я решил, что сейчас начнется нечто ужасное. И слова следователя: “А теперь говорите правду. Только правду” – показались мне зловещими: что я мог ответить? Ведь я все время говорил правду. И я взмолился:
– Расстреляйте меня.
Долго бился со мной следователь. Но я стоял на своем. Прошло несколько дней, меня вызывали снова и снова. Однако диалог не менялся: следователь просил говорить правду, я молил о расстреле…
И вдруг следователя осенило, и он сказал:
– Вы знаете, что Сталин умер?
Тюрьма на Лубянке была совершенно отрезана от мира. Я существовал в вакууме. Вопрос следователя поначалу испугал меня, но потом в моей голове что-то забрезжило. Следователь дал мне почитать газеты. И я поверил, что Сталина нет и что я выйду на свободу… Через короткое время меня отпустили».
А теперь о самом Семене Николаевиче Ростовском. Имя, отчество и фамилия этого человека выдуманы. Только после того как он умер, мы с мужем – и то случайно – узнали его настоящую фамилию – Хентов138. А звали его Леонид Аркадьевич. Ну пусть Ростовский. Но зачем менять имя и отчество «Леонид Аркадьевич» на «Семен Николаевич»? А может, и «Леонид Аркадьевич» – тоже выдумка? Непостижим для меня этот страх профессионалов-революционеров-коминтерновцев или профессионалов-разведчиков (черт их разберет!) перед собственной идентичностью. Какое-то сверхъестественное желание быть не тем, кто ты есть на самом деле. Не самим собой. В книге К. Хенкина «Охотник вверх ногами» я прочла, что полковник Абель, как писали на Западе, «один из величайших шпионов XX века», был не Рудольф Иванович Абель, а немец Вильям Генрихович Фишер. Но он так и похоронен под именем Абель.
Все равно для меня Ростовский по-прежнему Семен Николаевич Ростовский или Эрнст Генри. Под именем Эрнст Генри он издал в Англии в середине 30-х две публицистические книги: «Гитлер над Европой» и «Гитлер над Россией». Книгу «Гитлер над Россией», под заголовком «Гитлер против СССР», перевели в 1937 году на русский и напечатали огромным тиражом. Родители, да и я читали эту книгу взахлеб, ведь в книге было впервые написано, что гитлеровцы могут вторгнуться в пределы Советского Союза и тогда танки Гудериана пройдут по Белоруссии… Без Сталина такую крамольную книгу не выпустили бы никогда, ведь нам внушали, что война будет вестись на чужой территории. Стало быть, косвенно Сталин хотел подготовить советских граждан к тому, что война может идти и на нашей земле!
Перо у Ростовского было блестящее. И он был международником от бога. В дни «оттепели» он кроме множества опубликованных статей сочинил одно или два самиздатовских письма против воскрешения сталинизма. Их подписали масса известных людей – от Капицы до Плисецкой! А в 1967 году, как вспоминал А.Д. Сахаров в своей автобиографии139, он с Э. Генри написал для «Литературной газеты» статью о роли интеллигенции и об опасности термоядерной войны. Однако статью зарубили в ЦК КПСС. Но она каким-то образом, по словам Сахарова, попала в вышедший за рубежом сборник «Политический дневник»140.
Позже власти то запрещали статьи Ростовского, то опять он бурно печатался. Для меня Семен Николаевич вынырнул из небытия уже вскоре после войны. Что мы о нем знали? Ничего.








