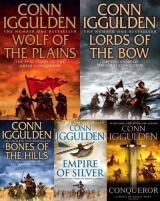
Текст книги "Чингисхан. Пенталогия (ЛП)"
Автор книги: Конн Иггульден
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 102 (всего у книги 133 страниц)
*
Было холодно. Медно-золотая луна заливала местность бледным отчетливым светом. Ямской гонец во весь опор гнал по пыльному большаку. Он был измотан. Глаза слипались, а поясницу то и дело простреливала резкая боль. На миг его охватил внезапный страх: он забыл, сколько станций проскакал за сегодня – две или три? Каракорум остался далеко позади, но гонец помнил, что драгоценное содержимое сумки должен передать в целости и сохранности. Что ему дали, посланец не знал, пояснили только, что эта вещь дороже всей его жизни. Человек в Каракоруме, прибывший из темноты, подал письмо и непререкаемым тоном отдал приказания. Он еще не успел договорить, как гонец уже отправился в путь.
Внезапно дернувшись, гонец понял, что сейчас чуть не соскользнул с седла. Тепло лошади, дробная ритмичность копыт, звяканье бубенцов – все это убаюкивало. Это уже вторая ночь без сна, и в компании только дорога да эта вот лошадь. Посыльный молча прикинул. Он миновал уже шесть ямских станций, на каждой из них меняя лошадь. На следующей надо будет передать сумку с рук на руки, или есть риск упасть прямо на тракте.
Вдалеке показались огни. Колокольчики там, разумеется, услышали. Уже ждут его со свежей лошадью, сменным гонцом, бурдюком архи и медом для подкрепления сил. Да, надо, чтобы был сменщик. А то усталость такая, что впору свалиться. Сил больше нет.
Въезжая на каменный двор среди бог весть какой глуши (вот сколь велики сила и могущество хана), посланец замедлил галоп до рыси. В окружении работников яма он перебросил ногу через седло и устало кивнул своему сменщику, совсем еще мальчишке. Помимо письма в сумке, надлежало передать еще и устное указание. Как там ему говорили? А, вспомнил.
– Скачи, не щадя ни себя, ни лошадей, – передал он приказ. – В руки лично Гуюку, и никому более. Повтори.
Гонец выслушал наказ, который новый ездок повторил взволнованным голосом. Сумка перешла из рук в руки – священный груз, раскрыть который до прибытия в конечное место назначения немыслимо. На дворе стоял какой-то камень, служащий, очевидно, подпоркой при усаживании на лошадь. На него посланец опустился с отрадной расслабленностью, провожая своего сменщика сонным взглядом из-под полузакрытых век. Так быстро и далеко в своей жизни он еще не ездил. Что же там такого уж важного? На этом гонец упал, раздавленный сном.
Глава 28
Погребальный костер хана был сооружением грандиозным, высотой в половину стоящей позади дворцовой башни. Возвели его споро, из огромных запасов кедрового дерева, что хранились по подвалам дворца. Обнаружились они там в соответствии с письменными указаниями Угэдэя. К своей смерти хан готовился загодя, и каждый этап церемонии расписал во всех подробностях. В запечатанном пакете, который Яо Шу предоставил Дорегене, были и другие письма. Одно из них, личного характера, оставило ее в слезах. Его Угэдэй написал перед отправлением в цзиньский поход, и оно ранило вдову в самое сердце своим веселым, слегка бесшабашным духом. К смерти он готовился, но кому из нас дано понять, каково оно – уходить в мир иной, а другим, тем, кто остается, доживать потом свой скорбный век уже без твоего голоса, запаха, прикосновения. Все это теперь – только в письмах Угэдэя и воспоминаниях Дорегене. Могилой хана должен был стать сам Каракорум, а пепел Угэдэя предстояло поместить в хранилище под дворцом, где он и останется навек. Темугэ стоял на зеленой траве в одеянии золотистого шелка с синим подбоем. Неотвязно болела спина, и чтобы глядеть на верхотуру костра, ему приходилось напрягаться. По сыну своего брата он не убивался, а когда побежало первое пламя, обугливая дерево и пуская в воздух ароматный дым кедровых ветвей, разносящийся на множество гадзаров, он сцепил за спиной руки и глубоко задумался о сущем.
Ум Темугэ бродил в прошлом, а сам он сейчас состоял при исполнении долга, под тысячами взглядов. Бурное изъявление горя в традиции его народа как-то не входило, хотя в толпе работного люда, сошедшегося сюда со всего Каракорума, у многих были заплаканные глаза. Город лежал опустевшим, как будто жизнью не был наделен никогда.
На этом кострище возлежал сын Чингисхана – сын брата, которого Темугэ любил и страшился, ненавидел и одновременно боготворил. Он уж толком и не помнил, как им в детстве приходилось скрываться от своих преследователей. Это было давно, хотя до сих пор иногда во сне являлся тогдашний холод и неутолимый, грызущий голод. Мысли старика частенько возвращались в юность, но уютом она не отличалась. Тогда у него было четверо братьев. Тэмуджин, что назвался выспренним именем Чингисхан; Хачиун, Хасар и Бектер. Темугэ пытался припомнить лицо Бектера, но все никак не получалось. Была еще сестра Тэмулун, но и ее образ стерся из памяти.
Темугэ подумал о ямском письме, которое утром показал ему Яо Шу. Оно извещало о смерти Хачиуна, и Темугэ попытался заглянуть внутрь своего горя, попробовать его на глубину. Но горя там не было. Они уже много лет как жили порознь, разлученные и затерянные в трудностях, заботах и досадных мелочах жизни, что замутняют чистоту отношений. Теперь лишь они с Хасаром остались живыми свидетелями невзгод, окружавших тех семерых совсем еще детей, что прятались в тесной норе урочища. Только они и могли сказать, что там было с самого начала. Теперь они оба старики, у Темугэ вон все косточки ломит каждый день.
Он поглядел мимо набирающего силу и яркость огненного столпа и увидел Хасара, стоящего с поникшей головой. Когда-то в молодости они вместе перешли границу Цзиньского царства и повстречали Яо Шу. Тот был всего лишь странствующим монахом, ждущим предначертанной ему будущности. Теперь уж и представить сложно, как они тогда были сильны и полны жизни. Темугэ отметил, что Хасар сильно сдал. Из-за оплывших брыл и шеи голова его кажется чересчур большой. И вид явно нездоровый. Сам не зная почему, Темугэ пошел к брату, и они кивнули друг другу, два старика, задержавшиеся на этом свете.
– Никак не ожидал, что он уйдет прежде меня, – пробормотал Хасар.
Темугэ поглядел на него с грустным пониманием, и Хасар под его взглядом пожал плечами.
– Стар я, а те комья в плече у меня все растут. Не ожидал, что он, молодой еще, уйдет раньше, чем наступит мой черед. Только и всего.
– Надо тебе их вырезать, брат, – заметил Темугэ.
Хасар поморщился. Он уже больше не мог носить доспехи, чересчур прилегающие к больным местам. Каждую ночь эти наросты, казалось, все взбухают под кожей, как гроздь винограда. Про те из них, что под мышкой, он уж и не говорил. К ним лучше и не притрагиваться, чтобы не завыть волком. Хотя мысль о кромсающем плоть ноже была еще невыносимей. «И дело здесь не в трусости», – внушал он себе. Просто со временем это все должно или пройти, или окончательно доконать, третьего не дано.
– Прискорбно, прискорбно мне было услышать о Хачиуне, – сказал Темугэ.
Хасар прикрыл глаза, превозмогая боль.
– Стар брат уже был для похода, – признался он. – Я ему это говорил. Ну да он уперся, ни в какую. Как бог, говорит, положит… Ох, как я по нему тоскую!
Темугэ с пытливым интересом на него посмотрел:
– Ты не христианином, часом, заделался на старости лет?
Хасар с грустинкой улыбнулся:
– Для меня уже поздненько. Просто слушаю иногда их россказни. И знаешь, что я обнаружил? Шибко уж много они пригрожают. То за то, то за это – сразу в ад. А рай у них, по рассказам, какой-то скучный. Пресный. Я как-то спросил одного из монахов, есть ли в раю лошади, а он знаешь мне что ответил? Их, говорит, тебе там
самому
не захочется. Нет, ты представляешь? Мне там что, на их ангелах верхом ездить, что ли?
Темугэ видел, что брат говорит, чтобы как-то приглушить свою тоску по Хачиуну. Он еще раз вгляделся в свое сердце на предмет какого-нибудь сочувствия, и опять обнаружил там лишь пустоту. Это настораживало.
– Я тут как раз думал о том урочище в холмах, где мы все прятались, – поделился Темугэ.
Хасар покачал головой:
– Трудные то были времена. Но мы выжили и всё преодолели. – Он оглядел город за рыжими космами огня, скрывающими тело хана. – Если б не наша семья, этого дворца не было бы и в помине. – Старый воин вздохнул. – Странно и вспоминать: ведь были времена, когда не было ни державы, ни нашего единого народа. Для жизненного срока одного человека это, должно быть, многовато. Все-таки видали мы, брат, и славные дни, несмотря на наши расхождения.
Темугэ предпочел отвернуться, чтобы не ворошить не вполне безоблачное прошлое. В пору своей молодости он несколько лет был завзятым сторонником того, кто принес родне великую боль и чье имя в державе больше не упоминалось. В те годы Хасар был ему чуть ли не врагом, но теперь это все схлынуло, позабылось.
– Тебе бы надо все это записать, – неожиданно сказал Хасар, кивнув в сторону погребального костра. – Как ты сделал про Тэмуджина. Вот так взять все и изложить, для памяти.
– Сделаю, брат, – сказал Темугэ. Он снова поглядел на Хасара и отчетливо, без прикрас увидел, какой у него вид. – Ты выглядишь больным, брат. Я бы на твоем месте их вырезал.
– Да? – хмыкнул Хасар. – А ты-то что в этом смыслишь?
– Я знаю, что лекари могут усыпить тебя черным зельем, и ты не будешь чувствовать боли.
– Я боли не боюсь, – сердито отмахнулся Хасар. Но при этом в его взгляде сквозило любопытство, и он даже повел здоровым плечом: – Может, так и поступлю. А то бывают дни, когда у меня правая рука вообще не шевелится.
– Если Чагатай нагрянет сюда, в Каракорум, она тебе понадобится, – усмехнулся Темугэ.
Хасар кивнул, потирая левое плечо.
– Вот кого я хотел бы видеть со сломанной шеей, – мечтательно проговорил он. – А ведь я присутствовал при том, как Тулуй расставался с жизнью. И что мы за это получили? Всего несколько жалких лет. Если мне доведется увидеть, как Чагатай с победным видом въезжает в эти ворота, то лучше бы мне до этого умереть во сне.
– Он будет здесь раньше, чем Гуюк и Субэдэй, – кисло заметил Темугэ. – Это единственное, что нам известно наверняка.
Он тоже не пылал любовью к этому выпестованному братом невеже. Уж при ком, а при Чагатае библиотек здесь не будет, равно как духа учености и благовоспитанных книгочеев на улицах. Такому город спалить – сущий пустяк, только бы лишний раз себя проявить. В этом отношении Чагатай был сыном своего отца. Темугэ зябко поежился, внушая себе, что это от ветра. Пора бы всерьез задуматься над тем, как до приезда Чагатая вывезти наиболее ценные свитки и книги, пока не будет уверенности, что они в безопасности и к ним проявляется должное почтение. Сама мысль о Чагатае бросала в пот. Нет, второго Чингисхана мир не потянет. Он едва оправился от первого.
*
Половецкий хан Котян переправлялся через Дунай на небольшом ялике, на веслах которого сидел угрюмого вида лодочник. Ялик несся, едва касаясь темной воды. От пронзительной сырости холодного сумрака половец плотнее кутался в плащ и все думал, думал. Похоже, от судьбы и впрямь не уйдешь. Требовать у Котяна людей король имел все основания. Венгрия дала ему прибежище, и хан какое-то время думал, что и вправду спас свой народ. Когда горы остались позади, он посмел надеяться, что монгольские тумены так далеко на запад не пойдут. Прежде они этого действительно не делали. И вдруг Золотая Орда с ревом перекатывается через Карпаты, а от мирного пристанища не остается камня на камне…
За приближением берега Котян наблюдал с неприязнью: сейчас ступать с лодки в гадкую чавкающую жижу, черпая полные сапоги. Он спрыгнул в прибрежное мелководье; ноги, само собой, тут же увязли. Лодочник буркнул что-то неразборчивое и взыскательно изучил поданную монету, намеренно демонстрируя свое неуважение. Рука Котяна под плащом непроизвольно потянулась к ножу: сейчас взять и чиркнуть по этой роже, чтобы знал, как и с кем разговаривать. Но затем он свою попытку неохотно оставил. Лодочник погреб прочь, поглядывая с надменно скривленным ртом. С безопасного расстояния он что-то выкрикнул, хотя что именно, Котян не разобрал.
Такая вот история и с Будой, и с Пештом. Половецкий народ пришел сюда с незлобивым сердцем, принял по требованию своего сюзерена крещение, и все усилия прилагал к тому, чтобы эту новую веру воспринимать как свою собственную, хотя бы ради выживания. Как народ, половцы понимали: ради того, чтобы остаться в живых, и не на такое пойдешь, – и к своему хану отнеслись с доверием. Никто из христианских служителей здесь не счел странным, что вот так целый народ вдруг в одночасье загорелся желанием принять сердцем Христову веру.
Тем не менее этого для обитателей городов короля Белы оказалось недостаточно. Уже с первых дней поползли слухи и пересуды, что эти пришельцы тащат за собой одни несчастья. У кого-то из селян издохла свинья, а виной тому, понятно, одна из темноволосых смуглых женщин, что навела на нее порчу. Перепрыгивая по камням вдоль берега, Котян презрительно сплюнул. Или вот с месяц назад местная девушка-венгерка обвинила двоих половецких парней в том, что они поймали ее и обесчестили. Поднялся шум, за ним бунт, который со всей безжалостностью подавили солдаты короля Белы, но ненависть так и осталась кипеть под покровом. Мало кто полагал, что та девица врет. В конце концов, ничего иного от этих гнусных кочевников люди в своей оседлой среде и не ожидали. Ведь у них, половцев, нет корней, и верить им нельзя: только и умеют что воровать, убивать да еще осквернять нечистотами чистую реку.
Приютивших его хозяев Котян ненавидел почти так же, как те ненавидели его, причем прилюдно, перед его соплеменниками. Оглядывая сейчас становище из шатров и лачуг, жмущихся к реке, он желчно подумал, что занять меньшее по площади место у них все равно не получилось бы. Король обещал, что выстроит новый город или, может, расширит два или три из уже существующих. Он что-то говорил об особом поселении для половцев, где они смогут спокойно жить сами по себе, не мешаясь с местными. Быть может, Бела и сдержал бы свое обещание, но тут, как назло, нагрянули тумены монголов. А впрочем, Котян уже начинал сомневаться в искренности слов короля.
Каким-то образом угроза со стороны монголов лишь усилила напряжение между венграми и народом Котяна. Нынче его соплеменники и по улице не могли пройти без того, чтобы им не плюнули под ноги или не толкнули кого-нибудь из их женщин. Что ни ночь где-нибудь в канаве находили труп с перерезанным горлом, а то и не один. Если убитый оказывался половцем, от наказания преступники как-то уходили, но если это был венгр, то соплеменников Котяна местные судьи и солдаты вешали в назидание парами. Неважнецкая награда для двухсот тысяч новоиспеченных христиан. Иной раз Котян просто недоумевал: что же это за вера, которая на словах исповедует добро, а на деле столь жестокая?
На загаженном берегу вонь действительно стояла такая, что не продохнуть. Зажиточные горожане Буды вопросы слива и удаления отходов решили очень хорошо. Даже в бедных кварталах Пешта на углах стояли полубочки, которые ночами вывозили золотари. У половцев с их шатрами не было под рукой (или под другим каким местом) ничего, кроме реки. Они старались поддерживать в ней чистоту, но на таком коротком ее участке их здесь просто слишком много. Среди соплеменников уже расползались болезни: целые семьи мерли от красной сыпи на коже (в родных краях такого недуга не встречалось отродясь). Вообще жизнь тут – как в неприятельской осаде. Но король попросил помочь армией, а это дело чести, Котян ведь дал свое ханское слово. В этом король Бела рассудил о нем правильно. Однако, спинывая в воду камешек, Котян подумал, что есть пределы и его ханской чести. Отправлять ли ему свой народ под вражеские стрелы за столь сомнительную плату? За всю жизнь он не нарушил данное слово ни разу. Временами, когда хан мучился от голода или недомогал, это было единственное, чем он мог подпитывать свою гордость.
Котян направлялся в город Пешт. Сапоги были тяжелы от налипшей глины и нечистот. Жене он обещал, что на обратной дороге купит мяса, хотя торговцы наверняка вздуют цены при виде половецкого хана. Котян пошел быстрее, придерживая рукоять меча. В такой день задевать его самолюбие было опасно. Следующий день наверняка сложится иначе, но пока в свои движения и действия можно допустить немного гневливости: она согревает.
При подъеме на грязный взвоз, из которого выходила череда купеческих лавок, образующая собой улицу, Котян услышал, как недалеко о землю что-то треснуло. В ушах гудел ветер, и он с зоркой настороженностью поднял голову, прислушиваясь. Перед мясной лавкой задыхалась в чаду лампа, но деревянные ставни раздаточного окна уже закрывались. Котян выругался и перешел с шага на бег.
– Эй, погодите! – выкрикнул он.
Хан не сразу заметил двоих возящихся мужчин, пока те не упали ему буквально под ноги. Котян машинально выхватил меч, но мужчины сейчас сосредоточенно тузили друг друга. У одного был нож, а другой удерживал противника за руку. Что именно здесь происходит, понять нельзя. Котян настороженно вскинул голову, когда невдалеке послышались еще какие-то крики. Голоса были злые, и в Котяне ответно тоже всколыхнулся гнев. Кто знает, что здесь произошло в его отсутствие? Еще одно изнасилование, или там просто поносят кого-то из его соплеменников? Пока он колебался, мясник наконец окончательно замкнул ставни, накинув с внутренней стороны засов. Котян загрохотал по ставням кулаком, но безуспешно.
В ярости хан повернул за угол. Там он увидел линию людей – точнее, небольшую толпу, шагающую по слякотной улице в его сторону. В два быстрых шага он сдвинулся обратно за угол, но его увидели на фоне уже севшего солнца. При виде испуганно юркнувшей за угол фигуры толпа тут же разразилась воплями и улюлюканьем.
Котян двигался с максимальной скоростью. По опыту он знал, что опасность очень даже нешуточная. Что бы там ни свело этих людей в стаю, для него все может закончиться проломленной головой или разбитыми пинками ребрами. На бегу к темной реке хан явственно слышал возбужденный гомон. Ноги преследователей стучали по деревянному уличному настилу, звук шагов неуклонно приближался.
Поскользнувшись на мокрой земле, Котян выронил меч, упавший и исчезнувший в мягкой грязи совершенно бесшумно. Встать ему помешал обжигающий и потрясающий удар. На беглеца с тяжким сопением навалилась толпа. Смутный незнакомец, выказавший свою вину уже тем, что пустился наутек, заслуживает того, чтобы его как следует проучить. Котян, как мог, сопротивлялся, но под пинками и ударами коротких ножей, уже бездыханный, все глубже вдавливался в грязь, пока не стал с ней вровень, и его темная кровь сливалась с чернотой. Последний хрип умирающего булькнул в пузырьках жижи.
Наконец черные тени отхлынули. Мстители, переводя дух и постепенно остывая, отошли от изломанного тела на берегу реки. Некоторые залихватски хлопали друг друга по спине: бока чужаку намяли что надо, знай наших. Имени уделанного бедолаги они не знали. На расстоянии уже слышалась тревожная перекличка голосов королевской стражи; пора было исчезать в тенях купеческого квартала. Ко всему происходящему кочевники прислушивались с опаской. Пройдет еще много, ох как много лет, прежде чем по улицам городов приютившей их страны они начнут ходить без страха. Многие из мужчин были отцами и теперь расходились по своим домам и семьям, пробираясь глухими проулками, чтобы не попасться стражникам: беды не оберешься.
*
Армия, что собралась возле Пешта, была огромна. Король Бела проводил дни в некоем сладостном неистовстве, которое находило на него всякий раз, когда он размышлял, что привело на поле такое множество людей. Солдат не может таскать с собой запас провизии больше чем на несколько дней, иначе это начнет отнимать у него силы, необходимые для боя. Поэтому на обозы ушли все телеги и тягловый скот, какие только были по стране, и в итоге обоз растянулся почти на такое же расстояние, что и густые ряды воинства, сосредоточенного возле Дуная. Сердце короля Белы буквально рвалось из груди от той гордости, какую он испытывал, оглядывая свое войско. Свыше ста тысяч ратного люда, рыцарей и пехотинцев откликнулись на послание с разосланными по всей Венгрии окровавленными мечами. По его примерным подсчетам, монгольская армия могла насчитывать от силы половину – а скорее всего, меньше – того, чего, по общему мнению, ему следовало ожидать. Король сглотнул некстати подступивший к горлу комок желчи. Похоже, ему предстоит сойтись в сражении всего с половиной Золотой Орды: вторая рыщет в других местах. Однако реляции, подошедшие с севера, сообщали о разрушениях, в которые верилось, честно говоря, с трудом. Прежде всего, помощи от Болеслава или Генриха ждать теперь не приходилось. Из того, что узнал Бела, они сами едва дышали под чудовищным натиском монгольских туменов. Люблин однозначно пал, а из Кракова пришло всего одно сообщение о том, что он разделил столь же печальную участь и был сожжен, хотя уму непостижимо, как такое могло произойти. Оставалось лишь уповать, что сведения преувеличены: ведь, как известно, у страха глаза велики. Со своими офицерами и союзниками Бела этими сведениями, разумеется, не поделился.
С этой мыслью он поглядел на тевтонских рыцарей справа от себя – две тысячи во всем своем боевом великолепии. Их кони были нисколько не запачканы грязью, которую поднимала за собой пехота. Под светом тусклой остывающей зари они матово блестели и, топоча копытами, пускали из ноздрей бледные султаны пара. Бела очень любил боевых коней, а у тевтонцев, как известно, они самого благородного происхождения, все как один с безупречной родословной.
Общую гордость слегка омрачал лишь левый фланг. Половцы хотя и хорошие конники, только их пока очень уж бередит смерть хана Котяна, неизвестно как и кем убитого в непонятной заварухе у реки. Ропщут так, будто в этом личная вина короля. Действительно невозможные люди. Когда монголы убегут обратно за горы, надо будет как следует подумать, стоит ли терпеть у себя такое множество половцев. Может, дать им немного денег, чтобы не так обременительно для королевской казны, – пусть подыщут какую-нибудь новую родину поприветливей.
Бела вполголоса выругался, увидев, что конница половцев покидает отведенное ей в построении место. Через поле он послал к ним гонца с жестким приказом держать место. За передвижением посланца король наблюдал, задумчиво почесывая подбородок. Было видно, как половцы вдалеке скопились вокруг какого-то одного человека – видимо, предводителя, – но останавливаться не думали. Бела ерзнул в растущем неудовольствии и, повернувшись в седле, обратился к ближайшему из рыцарей:
– Скачи к половцам и напомни им о данной мне клятве повиновения. Мой им приказ: оставаться на позиции до моих дальнейших указаний.
Рыцарь в знак почтения опустил копье и величаво поскакал вслед за первым посланцем. К этому времени половцы окончательно нарушили аккуратную симметрию рядов, а их кони рассеивались по полю без всякой видимости какого-либо построения. Беда с этими кочевниками: дисциплина им неизвестна. Бела попытался вспомнить имя Котянова сына, который вроде как должен ими командовать, но оно упорно не шло на ум.
Прибытие рыцаря половцев тоже не остановило, хотя теперь они оказались близки к Беле настолько, что видели его расставленные руки: стоять, назад! Можно вмешаться и остановить их позорный отток, так как они движутся без видимой спешки. Бела выругался вслух: половцы, судя по всему, едут непосредственно в его расположение. Явно хотят что-нибудь выторговать – может быть, частично поменять свою клятву или выклянчить еду и оружие получше. До чего же гнусный народец: пытаться выгораживать себе выгоду, как будто он не король, а какой-нибудь чумазый торгаш с рынка. Только и знают, что свою меновую торговлю. Дочерей своих готовы выменять, если это хоть отдаленно пахнет горсткой монет.
Король Бела гневно смотрел, как половецкие всадники с нарочитой ленцой продвигаются вдоль общего строя. Как раз сейчас к нему с сообщением насчет монголов прибыли посыльные, и он намеренно их подле себя удерживал, тем самым выказывая половцам свое пренебрежение. Когда один из его ординарцев громко кашлянул, король наконец поднял глаза: на него пристально смотрел сын Котяна (как его все-таки звать? Совершенно вылетело из головы. Столько дел все последние дни, впору и собственное имя позабыть).
– Что у нас такого срочного, что ты рискуешь всем построением? – сердито напустился монарх. Действительно, невозможно более такое терпеть.
Сын Котяна нагнул голову так резко, словно хотел боднуть.
– Король Бела, – уныло сказал он, – нас связывала клятва моего отца. Отца теперь нет, а я ею не связан.
– О чем ты говоришь? – возмутился Бела. – Для таких обсуждений сейчас не время и не место. Возвращайся на свою позицию. Придешь ко мне вечером, когда переправимся через Дунай. Тогда и потолкуем.
Король Бела намеренно отвернулся к своим посыльным и взялся читать очередное донесение. Через минуту он удивленно вскинулся: молодой дерзец заговорил снова, как будто и не получал никакого приказа.
– Это не наша война, король Бела. Оно ясно всем. Желаю тебе счастливо разделаться с врагом, а моя задача сейчас – подобру-поздорову увести свой народ от Золотой Орды.
Щеки Белы запунцовели, на бледной коже выступили набрякшие жилы.
– А ну, марш обратно в строй! – рявкнул он.
Сын Котяна качнул головой:
– Прощай, твое величество. Спаси тебя Христос за все твои труды.
Бела набрал в грудь воздуха, но выдохнуть даже забыл. До него сейчас дошло, что половецкие всадники все как один смотрят на него. Их руки лежали на мечах и луках, лица были угрюмы. Мысли вскружились. Как-никак, их здесь сорок тысяч. Если приказать убить этого наглеца, то они вполне могут наброситься на королевских гвардейцев. Этот плачевный расклад на руку только монголам. Синие глаза короля метали молнии.
– Покинуть войско? – взревел он. – Когда враг считай что
уже на виду
? Да вы клятвопреступники! Изменники! Всем вам клеймо трусов и еретиков!
Сыну Котяна проклятие прозвучало уже в спину. Он отъезжал размашистой рысью. О господи, да как же его все-таки по имени? Хотя что толку окликать. Только пускать слова на ветер да кипеть бессильной яростью. Половцы всем скопом следовали за своим вождем. По тропе в обход огромного венгерского войска они уезжали обратно к своему поселению.
– Ваше величество, переживать нет смысла, – с ноткой презрительности внес успокоение Йозеф Ландау. – В наших рядах козьим пастухам не место.
Мрачным гомоном его поддержали братья-рыцари. Изменники-половцы все еще ехали мимо безмолвно застывшего войска. Король Бела, превозмогая удар по самолюбию, выдавил змеистую улыбку.
– Вы правы, брат Йозеф, – откликнулся он. – Нас здесь сотня тысяч, даже без тех… пастухов. Но после того как мы одержим победу, за такое предательство с ними надо будет поквитаться.
– Не без удовольствия преподам им урок, ваше величество, – глядя вслед уходящей коннице, брезгливо улыбнулся Йозеф Ландау.
Король на эти слова отреагировал такой же, а может, и еще более уничижительной ухмылкой.
– Вот и замечательно. Сообщите по войску, брат Йозеф, что половцев с поля услал я сам. Не хочу, чтобы мой народ руководствовался их предательством как примером. Передайте, что я оставил драться только своих подданных с истинно венгерской кровью. Это поднимет им боевой дух. Что же до этих бродяг-кочевников, то вы сполна покажете им ту меру, коей им воздастся за предательство. Уверен, они понимают только такое обращение. – Чтобы успокоиться, Бела сделал еще один вдох. – Ну да ладно, я уже утомился топтаться на месте и слышать нытье трусов. Давайте приказ выступать.
Глава 29
За армией венгерского короля Субэдэй наблюдал с возвышенности из-за реки. Переправа внизу шла полным ходом: мурашами копошились люди, на мостах было черно от всадников и лошадей. Вместе с орлоком за неприятельским войском следили Бату и Джэбэ, оценивая качество воинства, которому предстоит противостоять. Под ними, помахивая хвостами, мирно щипали травку лошади. На здешние равнины уже пришла весна. Сквозь оплывшие шапки последнего снега вовсю пробивалась зелень. Воздух был по-прежнему холоден, но в яркой синеве уже разливалось солнце и мир готовился к тому, чтобы разродиться новой жизнью.
– Они хорошие всадники, – вслух заметил Джэбэ.
Бату пожал плечами, но Субэдэй решил ответить.
– Их слишком много. И через эту реку слишком много мостов, которые надо бы заставить на нас поработать.
Бату поднял голову, как всегда улавливая, что эти двое разделяют меж собой некое сокровенное понимание, из которого он исключен. Все это бесит, и все это, безусловно, намеренно. Молодой человек отвернулся, зная, что спутники без труда улавливают его рассерженность.
Все, чего достиг Бату, давалось ему по жизни лишь упорным трудом без всяких поблажек; не жизнь, а постоянное отвоевывание. Затем его протащил вверх хан Угэдэй, в память об отце повысив до звания темника. В итоге Бату получил общее признание, но теперь, вытянутый из привычной ненависти к миру, он лишь оказался ввергнут в новую борьбу, едва ли не мучительнее прежней. Ему приходилось постоянно доказывать, что он
способен
быть первым, вести за собою людей, что у него есть опытность и дисциплина, которую такие, как Субэдэй, воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Пожалуй, в стремлении себя проявить никто так не старался и не добился большего, чем Бату. Он молод, его пыл и энергия в сравнении со стариковским темпераментом казалась поистине неиссякаемыми.
При взгляде на орлока Бату разрывался от невыносимой раздвоенности. Какая-то мелкая, слабая его часть отдала бы что угодно, если б Субэдэй хотя бы раз, хотя бы мимоходом хлопнул его по плечу и похвалил, просто одобрил как мужчину и вожака. Остальное же его существо ненавидело эту слабость так страстно, что ненависть из Бату так и перла, от чего в глазах окружающих он смотрелся сумрачным, желчным и злобным. Сомнений нет, что отец когда-то уважал Субэдэя, взирал на него чуть ли не снизу вверх. И доверял, безусловно доверял.
Бату отдавал себе отчет, что ему необходимо израсти и избыть из себя эту постыдную слабость. Доверия Субэдэя ему никогда не удостоиться. И одобрения его не получить ни за что. Остается лишь утвердиться в глазах народа всей державы, чтобы, когда багатур одряхлеет и лишится зубов, он оглянулся и вдруг увидел, как ошибался, как недооценивал юного военачальника, отданного под его опеку. И тогда он поймет, что не воздавал по заслугам тому единственному, кто мог взять наследие Чингисхана и обратить его в золото.








