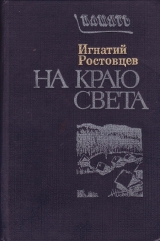
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 50 страниц)
Это, видимо, и было тем важным государственным делом, которым Ананьев занимался по приезде к нам первое время. Не прошло и двух недель со дня появления его в Коме, как к нам в волость приехал из Минусинска какой-то начальник в красивом мундире с погонами, с толстым плетеным шнуром на левом плече. Это был, оказывается, жандармский начальник.
Приехал он как-то незаметно, без шума, без грома, и стал с глазу на глаз беседовать с волостными начальниками, помощниками волостного писаря, с ходоками и даже со сторожами. А один раз он вызвал в судейскую и меня и завел речь насчет Павла Михайловича. Говорил он со мной очень ласково, вроде я приходился ему родным племянником, просил меня ничего не пугаться, говорить только правду и, главное, никому ничего о нашем разговоре не рассказывать.
Дальше он завел со мной разговор о том самом, чем запугивал нас Ананьев: видел ли я у Павла Михайловича запрещенные книги или подметные листки, не давал ли он мне читать их или печатать на гектографе, когда и с кем он вел злонамеренные разговоры.
Я не мог подтвердить все эти наветы на Павла Михайловича.
Переговорив со всеми с глазу на глаз, жандармский начальник так же незаметно уехал к себе в Минусинск. А нам стало ясно, что он приезжал в Кому по доносу Ананьева и что этот Ананьев очень зловредный человек и может в любое время оговорить кого угодно перед начальством.
После отъезда жандармского начальника мы со дня на день ожидали ареста Павла Михайловича, но, к общему удивлению, его никуда не забрали, а только уволили из чернокомских писарей. Видимо, донос Ананьева насчет того, что он кого-то мутит, не подтвердился. Не подтвердился, видать, его донос и о том, что у нас в волости со дня на день можно ожидать какие-то беспорядки.
Несмотря на это, Ананьев продолжал и продолжал сочинять свои государственные бумаги. Всех посетителей, которые приезжали в волость за справками или по почтовым делам, он подробно расспрашивал о том, как мужики настроены у них против войны, как они не хотят платить податей и всячески уклоняются нынче от новой раскладки, как они ругают высшую власть и собираются взяться за начальство и как гласники, которые устроили на волостном сходе бунт против начальства, продолжают ехидничать и подзуживать мужиков, настраивают их не туда, куда надо.
А потом Ананьев додумался допрашивать об этом ходоков, которые развозят нашу почту по волости. Он напирал при их опросе главным образом на то, как старосты распустили у себя мужиков, не торопят их с раскладкой и вместо того, чтобы пришпандорить как следует особенно рьяных брехунов и бузотеров, сами подпевают им насчет больших податей и тяжелых повинностей.
Старшине и заседателю он говорил, что по делу Коваленкова к нам приезжал не тот начальник. Он ограничился только одной Комой, опросом наших ходоков и сторожей и не заглянул ни в одну деревню в волости. А волость находится в весьма опасном положении. Волостной сход в таком важном вопросе, как выбор главного писаря, пошел прямо против начальства. Но это только начало. Сегодня пошли против начальства в найме волостного писаря, завтра откажутся платить подати, а дальше, чего доброго, подожгут волостное правление или подложат под него бомбу, как было в Абакане в 1906 году. Беда в том, что нет строгости. Коваленков настроил волостной сход против начальства, а его отпустили в Черную Кому. А в Проезжей Коме, в Теси, в Анаше, по другим деревням сидят свои Коваленковы и мутят мужиков. Знают, что им все сойдет с рук. Страшно подумать, чем все это кончится.
Вскоре Ананьев нашел у нас себе единомышленника. Им оказался ходатай по мужицким делам Белошенков. При Иване Иннокентиевиче его в волостном правлении не привечали. Сам Иван Иннокентиевич старался его не замечать. А теперь он с утра являлся к Никифору Карповичу (так звали и величали нашего Ананьева), слушал его россказни о том, как плохо обстоят дела по всей Комской волости, и старался ему во всем поддакивать.
От этих разговоров старшина и заседатель не находили себе места. Особенно старшина. Ему ведь все время надо было ездить по волости, и он лучше других знал, как мужики обозлены против начальства, как они озлоблены раскладкой и что раскладочных приговоров из деревень все еще нет. А время-то, оно ведь идет. Того и гляди, потянут в Новоселову к крестьянскому. Значит, надо как-то вывертываться. Ехать, торопить старост и писарей. И ехать надо, и ехать боязно. Уж больно обозлен народ.
А заседатель Болин слушал Ананьева молча. С первых дней приезда в волость он не переставая думал о том, что эта служба не доведет его до добра. А теперь окончательно уверился в том, что пропадет здесь ни за грош. На бумаге он начальник, имеет большую власть, а на деле – сторож около железного ящика. Но все равно за все в ответе. Тут в случае чего и ухлопают его около этого железного ящика.
После отъезда Ивана Иннокентиевича в волости у нас стало как-то пусто и безлюдно. Раньше к приходу почты из Новоселовой по понедельникам и четвергам у нас было многолюдно, весело, шумно. После приезда Ананьева эти посещения прекратились.
Мужики тоже реже стали навещать волостное правление. Писаря и старосты были заняты по своим деревням раскладкой.
Из-за этого волость наша на некоторое время обезлюдела, и мы целыми днями сидели одни, выполняя повседневную работу. Из Новоселовой продолжали поступать разные распоряжения от крестьянского, от мирового, станового пристава. Поступали разные бумаги и из наших деревень. Иван Фомич и Иван Осипович составляли на них ответы и относили их Ананьеву. А тот, не говоря ни слова, учинял на них свою подпись. Расписывался он очень медленно, не то что Иван Иннокентиевич, и украшал свою кривобокую подпись каким-то замысловатым росчерком с бантиком. Подпишет таким манером все бумаги и передает их Ивану Осиповичу, а то прямо Петьке Казачонку для рассылки куда следует. А с Иваном Фомичом о волостных делах не говорит, ни о чем с ним не советуется, хотя и знает, что Иван Фомич был главным помощником Ивана Иннокентьевича.
В один из таких дней к нам заявился комский писарь Родионов в сопровождении своего старосты. Вошли они веселые, довольные и, не задерживаясь в нашей большой комнате, сразу проследовали к Ананьеву. Оказывается, они принесли и вручили ему раскладочный приговор комского сельского схода и составленную на основе этого приговора податную ведомость на комских домохозяев.
Нам показалось странным, что Родионов не задержался после этого в нашей канцелярии, не поговорил с нами о своих комских и о волостных делах. Тем более что последнее время он почти совсем перестал у нас бывать. Но обсуждать это странное поведение Родионова нам было некогда, так как Ананьев вручил Ивану Фомичу комский раскладочный приговор и податную ведомость и попросил немедленно заняться их проверкой. Тут Иван Фомич, Иван Осипович и я вместе с ними стали выборочно проверять: правильно ли произвел Кирилл Тихонович все податные начеты и не нарушил ли в чем-либо принятого волостным сходом порядка раскладки казенных и волостных податей.
А вечером Родионов сообщил нам по секрету о том, что завтра утром он покидает Кому и уезжает насовсем в Новоселову письмоводителем к инспектору народных училищ Талызину. Староста об этом пока не знает, и он заявит ему об этом только завтра при отъезде, а то, чего доброго, тот побежит к старшине с жалобой и Ананьев живо состряпает из этого какое-нибудь очередное кляузное дело.
Мы очень жалели, что Кирилл Тихонович покидает нашу Кому, а с другой стороны, радовались за него, даже завидовали ему. Он будет работать с таким умным и обходительным начальником, как инспектор Талызин. Около такого человека есть чему поучиться. И по работе, и особенно по части образованности.
А я особенно жалел об отъезде Родионова. Я терял в нем старшего товарища, к которому мог запросто в любое время обратиться за советом по моей работе. А потом, с его отъездом я лишался доступа к книгам. Последнее время это дело у нас немного наладилось. Дело в том, что Кириллу Тихоновичу удалось хорошо познакомиться с сисимским учителем Барановским, которому все время идут по нашей почте книги и газеты. И Барановский оказался таким хорошим человеком, что стал давать Кириллу Тихоновичу свои книги для чтения. Книги он посылал ему с нашим комским ходоком, который два раза в неделю бывает в Сисиме с волостной почтой. Кирилл Тихонович получал от него книги, читал их, а потом передавал мне. Я таким манером получил от него и прочитал роман писателя Достоевского «Униженные и оскорбленные», несколько сочинений писателей Шеллера-Михайлова и Мольера.
Роман Достоевского оглушил меня, возбудил массу каких-то неясных вопросов и не дал на них никаких ответов. Роман звал меня куда-то, но не указывал, куда мне идти, что делать. Я уходил за село, бродил и бродил там по лесу, думал и думал. Мысли роились в голове, но все какие-то неясные, беспорядочные. Не покидало ощущение острой боли за людей, жалости к людям, сочувствие их горю и беде.
А комедии Мольера показались мне скучными и непонятными. Кириллу Тихоновичу они тоже не понравились. Сисимский учитель, когда Кирилл Тихонович рассказал ему об этом, сильно рассердился и сказал, что эти комедии написаны Мольером для сцены и что мы еще не научились читать такие вещи.
А раскладка податей в этом году действительно затянулась. Волостной сход давно уже прошел, а раскладочный приговор и податные ведомости представила только одна Кома. От остальных деревень ни ответа ни привета. У таких писарей, как в Безкише, в Витебке, в Убее, в Медведевой – это дело понятное. Писаря там малограмотные, не могут вовремя справиться со своим делом. Но в Кульчеке, в Проезжей Коме, в Теси, в Улазах писаря хорошие. А от них тоже нет ничего. У Ивана Иннокентиевича старшина и заседатель после волостного схода сразу же ездили по волости, нажимали с этим делом на старост и писарей. И волостное правление было в курсе с положением этого дела на местах. А нынче они безвылазно сидят около Ананьева, и он изо дня в день вбивает им в голову, что дела в волости идут плохо, что волостной сход устроил бунт против начальства и теперь волостные гласники настраивают мужиков по своим деревням не туда, куда надо.
Но все-таки в конце концов они решили, что сидеть сложа руки да ждать, когда старосты со своими писарями раскачаются с этим делом, не годится, что надо что-то делать, пока в это дело не вмешалась высшая власть. И начинать надо с Черной Комы.
Положение в Черной Коме Ананьев считал особенно опасным. Ведь там отсиживается Коваленков, который был главным подстрекателем гласников волостного схода против начальства и настропалил их против Ивана Иннокентиевича. Теперь он продолжает там это вредное дело.
И вот после длительной инструкции Ананьева старшина спешно выехал в Черную Кому, а на другой день уж возвратился обратно и рассказывал нам о чернокомских делах. По его словам, дела там обстоят из рук вон плохо. Коваленкова из писарей вытурили, а нового писаря еще не нашли. Так что общество осталось без писаря. А сельское общество без писаря все равно что человек без головы. Особенно если староста неграмотный, как это получилось сейчас в Черной Коме. Собирал сход два раза насчет этой раскладки. Поговорили, поспорили, поругались, покричали, но так ничего и не решили. А может, что и решили, но все равно без общественного приговора решения нет. Попробуй узнай без приговора, что они решили. Один говорит одно, другой другое. И прямо наоборот. Так и застопорилось дело. Просили Коваленкова помочь, а он наотрез отказался. Написать обо всем этом староста по своей неграмотности не мог, а приехать в волость, рассказать обо всем – боится. Сидит и ждет, когда начальство приедет к нему и начнет трясти его за шиворот с этим делом.
Тут мы стали расспрашивать старшину насчет Павла Михайловича. Что он и как он там. Но рассказывать что-нибудь о Павле Михайловиче старшина не стал и начал перепевать насчет него все то, чего он наслушался от Ананьева, что такой он и разэтакий, настраивает мужиков против начальства, возмутил волостной сход, чтобы сесть на место Ивана Иннокентиевича, и что из-за этого у нас в волости расстроились теперь все дела и может произойти какая-нибудь заваруха.
Тут Иван Фомич не вытерпел и заступился за Павла Михайловича. Он прямо заявил старшине, что все это неправда и что следствие, произведенное минусинским начальником, эти обвинения не подтвердило.
Но тут старшина, к нашему удивлению, довольно внятно стал говорить о том, что дыма без огня не бывает и что хотя непойманный и не вор, но может статься, что он тоже нечист на руку и что бабушка еще надвое сказала, чем все это кончится, так как на Павла Михайловича и еще кое на кого поступил куда следует новый материал, и что теперь ему уж не выбраться сухим из этого нового дела.
А на другой день с новоселовской почтой Ивану Фомичу пришло требование немедленно явиться в камеру мирового судьи по делу, предусмотренному какой-то важной статьей какого-то важного закона.
Иван Фомич, конечно, очень перетрусил. Судя по всему, его с какой-то стороны замешали в дело о бунте комского волостного схода против начальства.
Ананьев, оказывается, уже знал, по какому делу Фомича вызвали в Новоселову, и потирал руки от удовольствия. Он был уверен, что на этот раз там заварилось такое дело, которое «попахивает тюряхой». И дальше он под большим секретом сообщил нам, что дело идет о чтении Павлом Михайловичем и Иваном Фомичом запрещенных книг, в которых поносится государь император, вся царская фамилия и святая православная церковь. А потом Ананьев стал проезжаться насчет Ивана Фомича:
– Я сразу сообразил, чем он дышит… Только у меня ничего в руках против него не было. Но спасибо добрым людям. Они сделали то, что надо.
А старшина стал рассказывать о том, что Павла Михайловича в Черной Коме ему увидеть не удалось. Его спешно вызвали в Новоселову к мировому судье. Жена, говорят, отправляла его туда со слезами, как в тюрьму. Даже салом и сухарями снабдила. На всякий случай, если там его посадят.
Старшина и Ананьев были очень довольны таким оборотом дела. Особенно Ананьев. На мирового судью, разъяснил он, по существующим законам возложена в сельских местностях обязанность следователя по политическим делам. «Дело ясное, что тут дело темное, политическое… – ехидничал Ананьев. – Всыпались наконец, голубчики. Может быть, мои письма возымели силу, а может, кто-нибудь другой сообщил насчет их все, что следует».
А через день из Новоселовой возвратился Иван Фомич. Он сразу же прошел к Ананьеву и долго сидел у него за закрытой дверью. А потом вышел к нам и стал рассказывать, по какому делу его и Павла Михайловича вызвал мировой судья.
Оказывается, на них поступил из Комы чей-то донос о том, что они читали книгу какого-то французского писателя под названием «Жизнь Иисуса». В этой книге доказывается, что Иисус Христос совсем не бог и не сын божий, а самый что ни на есть простой человек. Но только очень умный и добрый, который за всех болел и всем хотел добра.
– Ну, мы с перепугу, – рассказывал Фомич, – стали было запираться. Но запираться нам оказалось очень трудно. Мировой судья уж знал, что эта книга шла бандеролью через нашу волость сисимскому учителю Барановскому, что люди видели, как мы вскрывали эту бандероль. Ко всему этому и сам Барановский обратился с жалобой к начальнику Новоселовской почтово-телеграфной конторы на задержку у нас в волости его корреспонденции. И эта жалоба какими-то путями тоже оказалась у мирового.
– Тогда нам ничего не оставалось, – рассказывал дальше Иван Фомич, – как признаться во всем. Действительно, мол, было такое дело. Виноваты, ваше высокоблагородие, читали такую книгу. И сами этому не рады, потому что она перевернула у нас все вверх тормашками. Дальше мы хотели рассказать ему, что нас особенно смутило в этой книге, но мировой судья слушать нас не захотел. «Книга эта, – говорит, – написана французским ученым Ренаном и напечатана у нас с разрешения цензуры. Что вы в ней вычитали, мне не интересно. А вот распечатывать чужую бандероль и задерживать ее на целую неделю вы не имели права. Это, – говорит, – нарушение такой-то статьи почтовых правил, и я вынужден оштрафовать вас за это…»
Тут мы, понятно, очень обрадовались, что вышли сухими из такого дела, и стали просить мирового судью не взыскивать с нас этот штраф здесь, в Новоселовой, а выдать нам на него исполнительный лист сюда, в Кому… Ну, мировой судья сразу сообразил, для чего нам это надо, и приказал своему письмоводителю написать нам исполнительный лист. Я только что вручил его сейчас господину Ананьеву вместе с полагающимся с нас штрафом. И тут же обрадовал его тем, что решил уйти из волости. Пойду, говорю, в Кому сельским писарем вместо Родионова. А то, чего доброго, говорю, вы состряпаете на меня еще новое дело… Ну, он помычал, помычал, а делать нечего. «Как, – говорит, – хотите… Решили уходить – уходите»… И произвел со мной полный расчет. Так что я теперь у вас уж не работник…
Услышав такое, мы с Иваном Осиповичем сильно расстроились. Я и представить не мог, как останусь в волости без Ивана Фомича.
А Иван Фомич повел дальше речь о том, где и у кого он был в Новоселовой. Сначала рассказал о своей встрече с Кириллом Тихоновичем. Он действительно письмоводительствует у инспектора Талызина. Сидит у него на квартире в отдельной комнате и пишет разные бумаги. Работа несложная, но ответственная. Составляет ведомости на жалование учителям всего района. А район у инспектора большой – вся северная часть Минусинского уезда от реки Тубы – больше девяноста школ. И много работы со снабжением школ учебниками, школьными пособиями и письменными принадлежностями. А текущую переписку с учителями ведет сам Федор Никанорович.
Дальше мы поинтересовались, разумеется, тем, где Родионов живет в Новоселовой, у инспектора в доме или квартирует у кого-нибудь. С квартирой, оказалось, он устроился хорошо. Получает у инспектора сорок пять рублей, за комнату со столом платит десять рублей, на работу ходит по часам, как и у нас. Можно жить. И работать интересно. Весь дом забит книгами. Даже в канцелярии стоят шкафы с книгами. Читай в свободное время, что хочешь. Только курить в доме нельзя. Но Родионову это не в тягость. Он у нас ведь из некурящих. В общем, и местом, и работой наш Кирилл Тихонович доволен. И одного только боится – как бы его не забрили в солдаты, так как по своим годам он подлежит очередному досрочному призыву новобранцев.
И еще Иван Фомич узнал, что скоро у нас в Коме откроется почтовое отделение. Вопрос об этом, оказывается, уж окончательно решен. И дело немного затянулось из-за кредитов.
А потом Иван Фомич рассказывал еще что-то о знаменском волостном сходе, что там у нашего начальства тоже были какие-то неприятности, но не с волостным писарем, как в Коме, а с раскладкой. Но о чем там сыр-бор возгорелся, Иван Фомич не рассказывал.
Таким образом, вопреки предположениям Ананьева Павел Михайлович опять вышел сухим из воды и вместе с Иваном Фомичом спокойно приехал в Кому. В волость к нам он, конечно, не заходил, а заглянул к Ивану Фомичу на комскую сборню. Там я и встретил его, когда зашел туда после занятий посоветоваться с Фомичом о своих делах.
Они сидели в писарской каморке за ведром пива и обсуждали наши волостные дела. Говорили о том, как будет выкручиваться с податными делами Ананьев. Со дня на день из деревень пойдут раскладочные приговора сельских сходов и податные ведомости. Их надо проверять. Особенно расчеты по бойцам, по пашне и по домашнему скоту. Сам Ананьев еле тянет и способен только сочинять доносы. Иван Осипович запурхался с текущей перепиской. Петька еле-еле справляется на входящем и исходящем. Остается один Иннокентий. И Иван Фомич не то в шутку, не то всерьез спросил меня:
– А как ты? Справишься с этим делом? Выручай Ананьева. Тебе так нравится с ним работать…
– Неужели тебе нравится Ананьев? – удивился Павел Михайлович.
– Он с первого дня мне не понравился, – решительно ответил я. – Совсем лысый, с толстыми моржовыми усами, с какими-то шнурками вместо галстука. Всем грозит, всех пугает. А пишет какими-то корявыми буквами. Еле ворочает пером. Даже расписываться как следует не умеет. Приставит к своей фамилии какой-то дурацкий бантик и думает, что это хорошо. Разве настоящие писаря так расписываются…
– Что верно, то верно, – рассмеялся Иван Фомич. – Вот и помоги ему разделаться с этими податными делами.
И хотя я помогал Ивану Адамовичу подсчитывать подати на кульчекских домохозяев и слышал, как сам Иван Фомич обучал этому делу безкишенского писаря Кожуховского, но сразу же заявил им, что эти ведомости и приговора проверять мне пока еще не под силу, так как это дело очень сложное и трудное. И кроме того, я все еще боюсь некоторых писарей – Шипилова, Альбанова, улазского писаря Брехнова и коряковского Потылицына. Они много лет пишут ведомости и приговора и разбираются с этим делом лучше меня.
Но все-таки с проверкой раскладочных приговоров и податных ведомостей, решили Иван Фомич и Павел Михайлович, Ананьев обойдется. Сам он этим заниматься, конечно, не будет и, наверно, возьмет себе в волость Белошенкова. Тот хоть и кляузник, но человек толковый, много лет работал в писарях и дело это знает.
– Лучшего заместителя на твое место, – сказал Павел Михайлович Фомичу, – Ананьеву не найти. На худой конец, он утвердит раскладку в некоторых деревнях и с ошибками. Начальство это не заметит. А мужику к таким вещам не привыкать. Он все выдюжит.
Дальше Иван Фомич и Павел Михайлович повели разговор о том, как трудно будет Ананьеву справиться с теми обществами, которые начнут бузить с раскладкой. Ну, с Черной Комой и Ивановкой, где раскладка еще не проведена, они как-то справятся. Народишко живет там более или менее сносно и бунтовать не будет. А как быть с Витебкой и Александровкой? Живут там сильно плохо и давно уж доведены этими раскладками до озлобления. А тут еще война. На волостном сходе они опротестовали раскладку по бойцам. И ничего не добились. Теперь хотят провести раскладку по-своему, ни по бойцам, ни подушно. Но не знают, как это сделать. У них, оказывается, хлопочет со всем этим Ян Бижан. Был в Проезжей Коме у Шипилова. Тот отсоветовал ему заводить с этим делом историю. Приезжал в Черную Кому к Павлу Михайловичу. Тот тоже отговаривал его начинать это дело. Бижан очень обиделся на Павла Михайловича. «Все вы, – сказал он, – сговорились с начальством. Действуете с ним заодно. Поеду, – говорит, – в Беллык, в Солбу, в Абаканск. Может, там найду порядочных людей, которые присоветуют, как нам выбраться из этой податной петли».
А на другой день в волости появился урядник Чернов и, как всегда, стал хвастливо рассказывать о том, где он был и что он видел во время своих поездок по волости. Оказывается, сразу после волостного схода он ездил по нашим деревням, ко всему присматривался, прислушивался и принюхивался.
– Расспрашивал я их, – говорил Сергей Ефимович, – не как должностное лицо. Чинам полиции, как известно, вмешиваться в раскладку запрещено. Поэтому я дознавал все это как бы из простого любопытства. И в каждой деревне мне в один голос твердили: мужики обозлены. И насчет начальства, и насчет податей, и особенно насчет войны. На сходах открыто ругают власть. Поносят ее на чем свет стоит.
Особенно тревожным урядник считал положение в Витебке и Александровке. От старост ничего вразумительного урядник не добился, а писарь Великолуцкий от прямого разговора увиливал, говорил что-то о неправильном начислении на них губернского земского сбора и волостной подати и о том, что витебское и александровское общества хотят все это переиначить по-своему.
– А как они собираются это переиначить и когда они все это переиначат, я так и не понял, – говорил Сергей Ефимович. И стал сожалеть о том, как раньше с этим делом было все легче и проще. И раньше мужики настроены были бузливо, и ругались, и кряхтели, а раскладку все-таки делали. Знали, что от нее никуда не денешься. А нынче дело дошло до того, что, может быть, придется подключать к этому делу полицию. В Витебке и Александровке без этого определенно не обойтись.
Старшина Безруков и заседатель Болин вместе с нами слушали россказни Сергея Ефимовича и все время сокрушенно качали головами. А потом повели его к Ананьеву, закрылись в его комнате и до самого конца занятий советовались с ним об этих делах.
На другой день Ананьев, старшина и урядник с утра выехали в Новоселову за указанием, что им делать и как себя вести дальше.
Без Ананьева и старшины в волости было как-то свободнее.
На следующий день наши волостные начальники возвратились. Ананьев сразу же сочинил очередное приказание всем сельским старостам в трехдневный срок, под страхом строгой ответственности, представить волостному правлению раскладочные приговора своих сельских сходов и составленные на основании этих приговоров податные ведомости. Сочинил это приказание, передал его Ивану Осиповичу и попросил сейчас же напечатать на гектографе и с нарочными разослать по волости. А старшину распирало желание рассказать нам скорее о своей встрече с крестьянским начальником и становым приставом, какого страха они там натерпелись и какие новости узнали.
Сначала они заявились к приставу. Хотели подробно обсказать ему о том, как у нас обстоят дела с раскладкой и все такое. А он, вместо того чтобы выслушать их, набросился на старшину и на урядника и начал ругать их последними словами. И такие они, и разэтакие. Довели волость до опасной черты. Раскладка не делается. Мужики обозлены и точат зубы на начальство. Того и гляди, начнут поступать приговора с отказом платить подати. Сверху жмут, требуют каких-то сдвигов с раскладкой, а он ничего вразумительного сказать не может, кроме общих слов, что дело обстоит неблагополучно.
– Внапоследок становой начал грозить мне судом, – рассказывал старшина. – Ты, говорит, с этим делом помогаешь нашим внутренним врагам, этим самым сицилистам, которые везде нюхтят и мутят, настраивают народ против начальства и подзуживают не платить податей и не выполнять повинностей. Теперь, говорит, время военное и тебя, говорит, могут судить за такое дело даже военным судом. А от пристава мы пошли к крестьянскому, – рассказывал старшина, – и все честь честью ему обсказали, что раскладка идет пока туго, что раскладочные приговора получены только от комского общества, что другие деревни с этим делом еще не раскачались, а в Витебке, Александровке к этому делу еще не приступали. И о том доложили, что мужики по всем деревням сильно бузуют, ругают раскладку податей и высказывают недовольство войной… Ну, тут крестьянский стал так ругаться, что его пришлось отпаивать водой. А когда он немного пришел в себя, то набросился на меня и тоже стал грозить мне тюрьмой. Внапоследок он немного успокоился, поблагодарил Никифора Карповича за его сигналы и заявил, что дела наши обстоят хуже всех. Во всех соседних с нами волостях раскладка закончена, говорит, а у вас только началась. Губернское правление бьет тревогу и по моему ходатайству, направляет к вам своего человека с особыми полномочиями. Он разберется с вашими делами. Его приказы для вас обязательны. Он будет представлять у вас нашу высшую власть. Подготовьтесь как следует к его приезду. Наймите заблаговременно хорошую квартиру, чтобы он не мотался на земской. А теперь отправляйтесь к себе. Жмите и давите на старост. Чтобы за две недели раскладка была закончена. Иначе придется отправиться на отдых в Минусинсо, а может, даже в Красноярсо на казенную квартиру, на готовые харчи. Вот, значица, до чего дошло, – подвел итог старшина своей встрече с начальством. – Управляем, проверяем, жмем и гнем – все вместе, а в ответе один старшина. Впятили меня на три года на эту службу, пропади она пропадом… – И старшина отправился в сторожку отвести свою душу в разговоре с ходоками и ямщиками.








