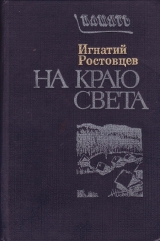
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 50 страниц)
– А чего не верить-то. Что мы, не знаем Гарасима.
– Напьется до того, что в грязи валяется. А какую силу человек имеет!
– А не слышали, что он со мной вытворил? – спросил недавно подошедший Кустей Лабадов. Он только что выслушал рассказ Ехрема об охоте, и ему не терпелось рассказать всем какую-то новую историю про Гарасима.
– А чего он мог с тобой вытворить? Вы ведь друзья-приятели. Водой не разольешь.
– Да ведь вас недавно вместе пьяных видели. Когда это было?.. Вроде на спасов день.
– Вот-вот, как раз на спасов день это и случилось. Засиделись мы тогда с ним у Филиных допоздна. И пошли домой дивствительно пьяненькие. Вот спускаемся мы на мост через Барсуков лог… Темень, хоть глаз выколи. Держимся друг за друга, чтобы, значит, это не упасть. Вдруг мой Гарасим остановился и что-то слушает. «Чего ты это, – спрашиваю, – остановился в самой грязи? Пойдем, – говорю, – поздно уж». А он мне в ответ: «Тише ты, – говорит. – Не слышишь, что ли?» – «Ничего, – говорю, – не слышу…» – «А ты, – говорит, – слушай как следует». Тут я прислушался. «Чего-то, – говорю, – мельтешит в ушах. А что, к чему – понять не могу». – «А ты еще раз, – говорит, – послушай. Вот и поймешь». Вот стали мы прислушиваться вместе. «Слышишь, – говорит, – ведь петухи это поют». Тут я прислушался как следует – дивствительно где-то поют петухи… «С чего бы это, – говорю, – они с вечера запели?.. Ведь рано им еще петь-то». – «Да ты слушай, – говорит, – где они поют-то. Ведь в Барсуковом логу поют. Неужто не слышишь?» Тут я опять прислушался – дивствительно поют в Барсуковом логу. Где-то на самой вершине. И поют все громче, все сильнее. «Что за оказия? – спрашиваю его. – Какие могут быть петухи на вершине Барсукова лога? Да еще с вечера… С чего бы это такое?» А он стоит, варнак, да ухмыляется. А петухи эти так и заливаются. Аж в ушах звенит… Гляжу я опять на него, и вдруг меня сразу как бы осенило, что это за петухи с вечера запели в Барсуковом логу… Вот так друг, думаю, так тебя расперетак. Надо, думаю, уносить поскорее ноги от такого друга. И сразу, не говоря ни слова, подался домой. Иду это к себе, а петухи эти самые поют все сильнее и сильнее. Прямо в уши кукурекают.
Вот прибегаю я домой, стучу изо всей мочи своей Кустеихе, вваливаюсь в избу – сам не свой. А ей, конечно, невдомек, что со мной делается, и она завела старую волынку: опять-де нализался в стельку. И все такое. А потом видит, что со мной что-то неладно, и спрашивает: «Чего это ты зубами-то дробь выколачиваешь?» – «Не шумаркай ты, – говорю, – христа ради. Мне и без тебя тошно. Зажигай, – говорю, – скорее свечи перед образами да молись». И сам начинаю читать молитву: «Господи Сусе, помилуй нас». А Кустеиха моя зажгла на божнице свечи, да с перепуга-то, видать, перезабыла все молитвы. Стоит, крестится да только бормочет: «Сукрест-накрест, сукрест-накрест!» – «Читай, – говорю ей, – дура ты разэтакая, как следует», а сам крещусь изо всей силы. Молюсь, молюсь и замечаю, что петухи эти со своим кукуреканьем стали вроде как бы отдаляться. А потом и совсем заглохли. Ну, тут я немного успокоился, улегся на печку, прогрелся как следует и помаленьку заснул.
А на другой день мой Гарасим как ни в чем не бывало заявляется опохмеляться. Мне бы его взашей гнать, с крыльца спустить боком… И не смею. Еще не такое может вытворить. Вот и приходится принимать да угощать. А ему только это и надо. Вот он какой у нас, Гарасим-то Кузьмич. Он все может…
Тут все стали дивиться, какие номера вытворил Гарасим с Ехремом и Кустеем, какой он дошлый человек по этой части и какой хороший совет может он преподать в трудном случае. И долго продолжали бы судачить об этом, если бы с «лужка» не повалила большая толпа народа. Посредине толпы несколько здоровых парней несли на плечах длинные, сделанные из жердей, носилки. На носилках восседал седой бородатый мужик. Он громко кричал своим носильщикам:
– Чего замолчали? Песню давайте!
Ребята дружно затянули:
Среди лесов дремучих
Разбойнички идут,
А на плечах могучих
Товарища несут…
– Опять Матюша Ефремов закуролесил.
– Ведь надо же такое удумать!
Все тучки, тучки принавесли,
Эх, с моря пал туман.
Скажи, о чем задумал,
Скажи, наш атаман?
– На носилках несут… Как раненого.
– Нализался опять в стельку и смешит народ. Стыда нет!
А бородатый мужик с пьяными слезами жаловался с носилок:
– Смотрите, люди добрые, до чего довели Матвея Ефремова. Смотрите! – Потом вдруг на всю улицу закричал: – Гаврило Родивонович – богач! Гаврилу Родивоновичу – почет и уваженье! А на чьем горбу у Гаврила Родивоновича богатство держится? На чьем, я спрашиваю?! На моем горбу. Двадцать лет на него спину гну, а что заработал? Заработал грош да на гайтане вошь!
– Дураков работа любит! – послышалось из толпы.
– Заработаешь у него.
Тут Матюша Ефремов увидел у ворот Сычевых Сашу Баранко и пришел в сильное волнение.
– Стойте, ребята! Стойте! – закричал он и попробовал подняться на своих носилках, но сразу же потерял равновесие и под общий хохот повалился на руки окружающих.
– Стойте, ребята! Я хочу поговорить с Сашей Баранко. С моим дружком залетным.
Саша Баранко, подобно Матюше Ефремову, тоже был бобылем из поселенцев и вот уж несколько лет жил у Ермиловых на птичьих правах. Сегодня он вместе со всеми вышел на улицу и молчаливо сидел на лавочке, наблюдая праздничную толпу.
Под добродушный смех окружающих Матюшу общими силами поставили на ноги. Почувствовав себя крепко на земле, он вполголоса запел:
Прощай, прощай, Одеста,
Славный карантин…
Меня угоняют
На остров Сахалин!..
Но тут Матюша вспомнил, для чего он снизошел со своих носилок на грешную землю, и неуверенно двинулся к Саше Баранко.
Саша сидел на лавочке и не подавал вида – доволен он или недоволен встречей со своим дружком. Все с интересом ждали, какой оборот примет неожиданное свидание двух бобылей-поселенцев.
А Матюша медленно подошел к Саше и уставился на него, как будто не видел его много лет.
– Ах, Саша, Саша! – сокрушенно произнес он наконец. – Хоть и дружок ты мне, а все равно дурак. Вроде меня. Оба мы дураки! Люди после нас на поселенье пришли, обзавелись семьями, хозяйством. А мы – двадцать лет горбы гнем на чужих. Ты на Ермиловых, а я на Родивоновых.
– Я на Ермиловых не жалуюсь. Живу, слава богу, не обижают, – неохотно процедил Саша.
– Вот я и говорю, что дурак ты. Тебя нахваливают да выставляют вперед. А ты цветешь да лезешь из кожи. «Саша у нас молодец!», «У нас, Саша, все на тебе держится!», «Без тебя, Саша, все хозяйство пойдет прахом!» Эх, Саша, Саша! Ты думаешь, тебе одному это говорят? Мне эту песню уж двадцать лет поют.
Саша встал, выколотил трубку и недовольно сказал:
– Сам ты дурак, Матвей. Сегодня ты кочевряжишься, поносишь Гаврила Родивоновича, а завтра опять на него спину гнуть будешь. Уж если молодые мы не сумели с тобой на ноги встать, так кому мы нужны на старости. Спасибо, хоть со двора не гонят, как бездомную собаку…
И, не говоря больше ни слова, вышел из толпы. Озадаченный резким ответом дружка, Матюша Ефремов некоторое время стоял молча. Потом сокрушенно покачал головой и медленно направился к своим носилкам.
– Эх, Саша! Друг ты мой залетный! – бормотал он. – Спасибо, говоришь, что со двора не гонят? А двадцать лет за что работал? Двадцать лет горб гнул. За спасибо, выходит, за это. Нет, Саша! Не хочу я больше на него за одно спасибо спину гнуть. Не буду! А то – Родивоновы первые отсеялись! Первые отжались! Пусть попробуют поживут без меня. – После этого Матюша обратился к своим носильщикам: – Несите меня по всей улице. Да песню давайте!
Тут ребята дружно взяли носилки на плечи, и Матюша опять вознесся выше всех.
– Песню давайте. Чтобы все слышали, что Матвей Ефремов гуляет.
Носилки качнулись и медленно тронулись вверх по улице. Послышалась песня:
Носилки не простые,
Из ружей сложены,
А поперек стальные
Мечи положены…
Все тучки, тучки принавесли,
Эх, с моря пал туман.
Скажи, о чем задумал,
Скажи, наш атаман?
После того как Матюша Ефремов отвалил на своих носилках вверх по улице, разговор около Сычевых переключился на его отношения с дедушкой Гаврилом. Действительно, Матюша живет у него уж двадцать лет. Ни родственник, ни работник. И в родню не вышел, и за работу ничего не получает. Живет вроде как бы свой, но время от времени у него прорывается на дедушку какая-то обида. Тогда он напивается и начинает с ним ссору. Уж много раз Матюша уходил насовсем от дедушки, но всегда почему-то возвращался обратно. Побунтует, побунтует и опять, глядишь, живет у них по-старому. И теперь всех занимает вопрос – долго ли на этот раз будет бунтовать Матюша Ефремов и когда он снова возвратится на жительство к Родивоновым?
– Нелегко ему у них. Что верно, то верно, – заметила Парасковья Абакурова. – Раньше он был у Гаврила вроде за старшего. Во все вникал, за работниками наблюдал, везде был нужен. Все успевал. А теперь… и годы не те, и здоровье не то. В дом зять пришел. За старшего теперь он, а Матюша уж нехорош стал. Кабы хорошо жилось, не стал бы уходить. А куда пойдешь, кому он теперь нужен.
– А чего ему у них не жить-то, – возразил дядя Илья. – Сыт, одет, обут, обстиран. Гаврило Родивонович – хозяин, конечно, строгий. Тут ничего не скажешь. Но напрасно никому слова грубого не скажет. А про Анну и говорить не приходится. С работой особенно не принуждают. Пусть за скотишком ходит. А что люди разное болтают, так ведь на чужой роток не накинешь платок. Сколько пес ни лает, его все равно обдерут на доху.
Но тут в спор вступил Сергей Семенович Ворошков. До этого он сидел да помалкивал. А как зашел разговор насчет того, надо ли Матюше Ефремову уходить от дедушки Гаврила, тут Сергей Семенович стал доказывать, что Матюше давно пора уйти от Родивоновых.
– Конечно, первое время ему будет трудно, – говорил Сергей Семенович, – но только первое время. А потом у него все наладится. Летом будет скот пасти, а зимой можно людям снасть шить, сапожничать, шерсть бить. Что, у нас в деревне работы нет, что ли? Прокормиться у нас не трудно.
– Эх, Сергей Семенович! – сокрушенно сказал дядя Илья. – Ты обо всех по себе судишь. Ты человек умственный, мастер на все руки. До всего сам доходишь. И плотник ты, и овчинник, и шерстобит, и слесарь, и тиятр можешь представлять, и вечный двигатель придумываешь, а живешь как свинья. Немыт, нестрижен. Все время в грязи, в вони. Кормишься тоже плохо. Сидишь на одной картошке да хлеб с квасом хлещешь. Вот и весь твой харч. А что будет с Матюшей, если он уйдет от Родивоновых? Да он грязью зарастет, вроде тебя, опаршивеет, оголодает совсем.
– Я хоть на одной картошке сижу, а сам себе хозяин. Никто меня куском хлеба не попрекнет. А Матвею каждый день в глаза тычут, что он приживальщик. Разве это жизнь!
– Подумать, беда какая, если и скажут иной раз что-нибудь наперекор. Разве можно из-за этого бросать хозяина.
– Не нам судить об этом, – решил их спор Архип Кожуховский. – Матюше это виднее. Да и сам Гаврило знает, отчего его Матвей на рожон лезет. Вон он идет со своими дружками. Спроси его об этом.
Действительно, к толпе, собравшейся около Сычевых, подходил дедушко Гаврило. Одет он был сегодня по-праздничному – в яркую кашемировую рубаху, в плисовые темно-синие штаны. На ногах у дедушки были дорогие городские сапоги со скрипом, на голове новенький картуз. Как всегда, дедушко был навеселе.
– Гаврило Родивонович! – лениво канючили, следуя за ним, Еремей Павлович Грязнов, Тереша Худяков, Матюгов и Ивочкин. – Угости по рюмочке!
– Ишь, чего захотели! – нарочито громко отвечает дедушко. – А за что про что должен я вас угощать?
– Гля-ради праздника, – мрачно пробасил Матюгов.
– Выпить хочется. Голову прямо разломило, – ноет Еремей Павлович.
– Выпить? Гля-ради праздника? – удивляется дедушко Гаврила и медленно извлекает из кармана бутылку водки. Он долго, с нарочитым вниманием рассматривает свою бутылку и вдруг неожиданно произносит: – Ну что же. Это можно.
– Давно бы так, чем кочевряжиться, – удовлетворенно говорит Тереша Худяков.
– Гля-ради праздника можно и выпить, – повторяет дедушко и энергично взбалтывает бутылку. Потом привычным приемом опытного пьяницы ловко ударяет ею о ладонь левой руки. Пробка с характерным звуком вылетает из бутылки. Из толпы кто-то услужливо подает ее дедушке.
А дедушко вынимает из кармана большую рюмку, медленно наливает ее и выжидательно смотрит на своих дружков.
Тереша Худяков, Еремей Грязнов, Матюгов и Ивочкин не отрываясь уставились на заветную рюмку.
А дедушко стоит, задумавшись, с бутылкой водки и с полно налитой рюмкой и как будто взвешивает, кому из них поднести эту рюмку. Наконец он принимает какое-то решение.
– Да, да! – говорит он. – Надо непременно опохмелиться.
И под оглушительный хохот толпы медленно, со смаком выпивает водку и прячет рюмку в карман. Потом тщательно затыкает бутылку пробкой и тоже сует ее в карман.
Обескураженные дружки не знают, что сказать на эту выходку.
А дедушко очень доволен, что растравил их на выпивку. Теперь он уж в самом центре толпы и начинает похваляться перед всеми своим богачеством, рассказывать о том, как он всю жизнь недосыпал, недоедал, все в работе, все в ходу да в поту. Барки с хлебом в Енисейско плавил, скота на прииска гуртами гонял – все капитал свой наживал. А теперь он может и выпить с устатку, и опохмелиться как следует. Уж что-что, а на выпивку-то ему как-нибудь хватит.
Тут дедушко вынул из кармана свой «партаманет», достал из него сторублевую бумажку с портретом Екатерины Великой и стал всем ее показывать. Смотрите, дескать, какой я богатый, не вам, дуракам, чета.
Глядя на эту «катюшу», все стали ахать и удивляться. Шутка ли сказать – одна бумажка сто рублей стоит. Целый капитал. Каждому хотелось посмотреть на нее, подержать в руках или потрогать. Офимья Крысина даже перекрестилась, прежде чем взять ее в руки. А дедушко опять доволен. Теперь он доволен тем, что утер всем нос своим богачеством.
– Чего это у тебя Матюша-то опять забузовал? – спросил дедушку дядя Илья. – На всю деревню тебя поносит. Говорят, совсем уходит от тебя?
– Куды он уйдет? Кому он нужен? Покочевряжится да и заявится обратно.
– И чего только человеку надо, – в тон дедушке рассудил дядя Илья. – Обут, одет, на готовых харчах. Чем не жизнь? А ему, видишь, не ндравится. Вот язвенский калахтер! Люди как люди, а он удумал на носилках по деревне ездить.
А дедушкины дружки начали между тем уж по-настоящему заводиться и крестить его на все лады. И зверь он полосатый, и волк идринский… Такой капитал имеет, а по рюмке людям подать не хочет. Тогда дедушко идет на уступку.
– Ладно, – говорит, – подам и по две. Но только заработайте. А задарма угощать не интересно. Давай, Ивочкин!
– Чаво тебе, кажу, собак окаянный?
– Смотри на солнце! Не мигнешь, пока я считаю до двадцати пяти – пей рюмку. Мигнешь – не взыщи.
– А не обманешь?
– Мой товар налицо.
Дедушко вынимает из кармана бутылку и наливает полную рюмку водки.
– Ладно! – соглашается Ивочкин, оборачивается, принимает позу и смотрит на солнце. Дедушко стоит рядом и начинает медленно считать:
– Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мигнул! Не подам!
– Как это мигнул! – завопил Ивочкин. – Я даже бровью не повел!
– Бровью не повел, а мигнул. Значит, проиграл!
И дедушко под общий хохот опять сам выпивает налитую рюмку.
Ивочкин стоит багровый. Потом начинает ругаться на чем свет стоит:
– Зверь, кажу, полосатый! Варнак! Разбойник! Награбил чужого капиталу, и теперь изгиляешься над людьми! Надо было тебя еще в третьем году зарезать. Напрасно тогда, кажу, пожалел.
Тут все начинают уговаривать Ивочкина:
– Не так споришь, Иван. На солнце только орел может смотреть не мигая. А ты хоть и орел у нас, только по другой части.
Но вот Ивочкин немного поостыл, и дедушко снова вступил с ним в спор. На этот раз он решил свести его с кем-нибудь на борьбу. Однако никто из наших кульчекских не хочет бороться с Ивочкиным. И побороть его трудно, да, кроме того, и боязно. Побори его, а он потом еще ножом при случае пырнет. Что с него возьмешь. Тогда дедушко стравил его бороться с одним анашенским мужиком, который приехал в Кульчек к кому-то по своим делам и вместе со всеми дивился на это представление.
Противник Ивочкина оказался плотным, высоченного роста. Ивочкин был ему только до плеча. Сначала анашенский мужик даже обиделся, что ему предлагают бороться с таким сморчком, да еще на одну бутылку.
– Не стоит мараться, – пренебрежительно процедил он.
– Не хочешь на бутылку – выставляй четверть али ведро, – предложил дедушко. – Я вношу пай за Ивочкина.
– Ну, на четверть еще куды ни шло, – согласился анашенский мужик. – А если я его нечаянно зашибу – кто будет в ответе?
– Борьба – дело полюбовное. Все будем в ответе, – сказал дедушко.
Ударили по рукам. Деньги, как полагается, на кон. Тут сразу сам собой образовался большой круг. Откуда-то появились кушаки. Борцы подпоясались и под поощрительные возгласы схватились друг с другом.
Анашенский мужик оказался действительно большим силачом. Он сразу легко поднял Ивочкина за кушак и стал ходить по кругу, приговаривая:
– Смерти али живота? Говори сразу, а то зашибу, как куренка!
– На миру и смерть красна! – крикнул кто-то из толпы.
А Ивочкин боролся молча. Да и что скажешь – человек с такой силищей. В самом деле может зашибить насмерть…
А дедушко Гаврило, тот все подбадривал Ивочкина:
– Держись, Иван! Да не зевай смотри! Живой останешься – от себя бутылку еще прибавлю.
– Берегись, Гурьян! – кричал кто-то анашенскому борцу. – А то он подсекет тебя.
У всех захватило дух. Вот борьба так борьба!
– Не допускай его до земли, – опять послышался предостерегающий крик из толпы.
– Бей его торчком! Прямо в землю, – подначивал кто-то Гурьяна. – Чего с ним вошкаться!
Гурьяну и самому, видать, не хотелось долго валандаться с Ивочкиным. Он еще раз кружанул его, а потом изо всей силы опустил вниз, как будто в самом деле хотел воткнуть его в землю. Но тут случилось такое, чего никто не ожидал. В какой-то момент, когда ноги Ивочкина едва коснулись земли, он подвернулся под Гурьяна и, падая, бросил его через себя. Гурьян тяжело грохнулся на землю.
Оглушенный падением Ивочкин тоже лежал какое-то время на земле. Потом вскочил и приготовился бороться дальше. А его распростертый противник оставался неподвижным.
– Человека убили! – завопил кто-то из толпы.
– Чего базланишь! Заткнись!
– Войлока тащите! Откачивать надо!
Кто-то бросился к Сычевым за войлоками.
– Дурачье! – презрительно сказал дедушко. – Чего его откачивать? Что он, утопший, что ли. Ну-ка, Матвей, посади его как следует, – обратился он к Матюгову.
Матюгов подошел к Гурьяну и приподнял его за плечи в сидячее положение. Тот медленно открыл глаза.
– Ты чего это, брат? Перепужал всех, – сказал дедушко. Потом запрокинул ему голову, сунул в его рот свою бутылку и стал вливать водку. Гурьян медленно стал делать глотательные движения.
– Вот так-то будет лучше. А то надумали, дурачье, откачивать тебя. Укачали бы насовсем. Пей, милок! Пей как следует! Ну-ко, шевельни ручкой, теперь ножкой. Вот так. Еще раз! Действуют? Ну, значит, все в порядке. Никанор! – крикнул он кому-то в толпу. – Чего рот разинул? Твой гость. Помогай!
При помощи Матюгова и подбежавшего Никанора Гурьян медленно встал и неуверенно направился к сычевским воротам. Он тяжело опустился здесь на скамейку и осмотрелся. Кругом стояли незнакомые люди и с интересом ждали, что он будет делать дальше.
– Вот тебе и сморчок!
– Мал, да удал! Вон какого быка подвалил!
– Ну как, Гурьян, узнал наших кульчекских борцов?
Гурьян вытащил из кармана трубку и молча дрожащими руками стал набивать ее табаком. Кто-то услужливо подал ему зажженный кусочек трута. Он медленно раскурил трубку и принялся жадно сосать свой чубук. Потом поглядел по сторонам и увидел в стороне Ивочкина.
– Хитер, сука! Ловко он меня подсек.
Тут Гурьян встал во весь свой богатырский рост и не торопясь стал отряхиваться от пыли. А потом обратился к Никанору:
– Пойдем. Мне ведь сегодня в ночь надо ехать домой.
– Стой, кажу, обожди! – сказал подошедший Ивочкин.
– Чего тебе еще надо? – недовольно спросил его Гурьян.
– Может, кажу, выпьешь с нами за конпанию?
Гурьян смерил Ивочкина недружелюбным взглядом.
– Обманкой взял, – процедил он. – Ну, благодари бога, что я немного обмишурился. А то унесли бы тебя отседова на войлоках.
– На то, кажу, и борьба. В борьбе все, кажу, на обманке держится, – примирительно сказал Ивочкин. – Так как, кажу, выпьешь с нами за конпанию?
– Выпить неплохо бы. Только мне конпания ваша не ндравится.
– А чем плоха наша конпания?
– Жмурики все какие-то. Бараба, в общем.
– Ты нашу конпанию не страми! – вспылил Ивочкин. – Ишь, кажу, какой нашелся!
– Не ерепенься, Иван, – сказал подошедший дедушко. – А ты, Гурьян, знай свой край да не падай. Чего на тын брюхом лезешь! С тобой по-хорошему говорят. Хочешь выпить за конпанию – милости просим. Не хочешь – иди подобру-поздорову откедова пришел. А на драку не навязывайся. Ты наших мужиков плохо знаешь. Тебе хуже будет.
– Да какая тут драка, – сразу стушевался Гурьян. – Это я так…
– Ну, если так, то и иди с богом, пока тебе здесь бока не наломали. А мы и без тебя обойдемся. Ну как, орлы? – обратился он к своим дружкам. – К кому сегодня пойдем?
– Ко мне пойдем, – пригласил всех Еремей Павлович. – У меня рыбешка есть. Привез вчера из Убея немного. А медок у нас всегда водится.
– К тебе так к тебе. Пошли, ребята!
И дедушко Гаврило затянул:
Эх, пить будем
И гулять будем,
Когда смерть придет —
Помирать будем…
После ухода дедушки и его дружков разговор около Сычевых как-то сам собой пошел насчет его богатства, какой он капитал имеет и кому из зятьев приоделит после смерти все свое имущество.
Одни говорили, что у дедушки припрятано не меньше тысячи рублей, другие доказывали, что, может быть, даже до трех тысяч. Только за Парасковью он отвалил Кирюше пять сотен. Не весь же свой капитал он всучил ему. Правда, скотишком он после того торговать уж перестал, но две барки хлеба в Енисейско сплавил. Тысячи две на этом деле, надо думать, выручил. Каждый год продает по десятку голов скота. Трех коней нынче продал. А много ли он пропьет со своими дружками? Он хоть и хороводится с ними, но по части угощения не особенно горазд. Сам больше норовит на чужой счет.
– Пить-то пьет, а голову не теряет, – заключил эти споры дядя Илья. – А кому приоделит он после смерти свое богатство – это одному богу известно. Человек он с калахтером, живет по правилу: чего хочу, то и ворочу. Может, все между зятевьями разделит, а может, все Парушиному Лаврушке откажет. Он души в нем не чает.
А осенью, сразу после Михайлова дня, дедушко слег в постель. Может, лишнего перепил на празднике, а скорее всего, простудился по пьяному делу. Как слег, так больше уж и не вставал. Ослабел, распух… Но пить не переставал.
Как только дедушко заболел, из Подкортуса заявилась тетка Парасковья. Поначалу, когда дедушко выдал ее за Кирюшу, он запретил ей показываться на глаза. А как у нее родился да подрос Лаврушка, так она привезла его в Кульчек и подослала к дедушке. Ну, Лаврушка и тронул его родительское сердце. У старшой-то дочери были только одни девчонки. А тут как-никак все-таки родная дочь приехала, да еще с внучонком. Ну, он и махнул рукой на все.
С того времени тетка Парасковья довольно часто стала наезжать в Кульчек и все старалась изо всех сил чем-нибудь угодить дедушке. А главное, стала добиваться от него завещания на свой капитал и домашность. Но дедушко никакого завещания не делал, а капитал свой от дочерей и зятевей по-прежнему скрывал.
Теперь, когда дедушко сильно заболел, тетка Парасковья снова стала донимать его насчет завещания. И сама с ним говорила об этом, и сестру настропалила, и бабку Анну заставила требовать от него завещание. Пристали к нему, чтобы он немедленно посылал за старостой и писарем и по всей форме сделал с ними эту бумагу.
А дедушко, как только с ним заводили разговор об этом, начинал матюгаться. «Вы что, – говорит, – меня раньше времени хороните. Вы, – говорит, – силком в могилу меня не загоняйте. Я, – говорит, – сам, когда придет мое время, без вашей помощи туда сойду». – «Тогда, тятенька, скажи хоть, где у тебя деньги спрятаны? – стала добиваться у него тетка Парасковья. – Мало ли, что может случиться. Все под богом ходим. Как бы не пропали». – «Ты что же, еще раз хочешь меня обворовать? – спросил ее дедушко. – Ишь ведь что удумала: „Как бы не пропали“. Не беспокойся, голубушка, не пропадут. Я не такой дурак, чтобы раньше времени обсказывать вам, где они у меня лежат. А если уж вам, – говорит, – непременно надо от меня родительское завещание, то завещаю похоронить меня во всем холщовом. Довольно, – говорит, – пофорсил я на своем веку. Перед богом на том свете, – говорит, – форсить не хочу. В холщовом-то к нему являться будет сподручнее».
Так они и не добились от него завещания.
А дедушко знал, конечно, что он уж не жилец, а все равно был веселый. Песни петь он уж не мог, но любил теперь их слушать и все время посылал за тятенькой да за дедушкой Федором. Позовет их, велит бабушке Анне напечь им блинов, поставить по шкалику водки да принести из погреба шайку пива, а потом и заставляет их петь разные старинные песни. А сам сидит на постели да вспоминает, как эти песни пелись в прежние времена и какие были тогда голосищи. Таких голосов, видать, больше уж не будет.
После масленицы дедушке стало хуже. Он стал забываться и заговариваться. Тогда тетка Парасковья опять начала приставать к нему насчет денег. За эту зиму она обшарила у дедушки все потайные места, перерыла все темные углы и в подполье, и в подвале, и на подволоке, и во всех амбарах. Даже на гумне в риге, говорят, шарила. Но так нигде ничего и не нашла. И вот когда дедушке совсем стало плохо, она со слезами стала просить его пожалеть хоть ее Лаврушку, у которого вся жизнь еще впереди, и сказать, где наконец искать эти деньги.
– Ну что же, – говорит дедушко. – Теперь можно и сказать. Только я скажу вам это каждой по отдельности.
И тут он начал что-то говорить шепотом сначала тетке Олене, а потом тетке Парасковье. И наказал им деньги эти искать весной, когда оттает как следует земля. Что касается домохозяйства, то составлять завещание со старостой и с писарем дедушка опять отказался. «Дом и вся постройка, – наказал, – пусть остаются на месте за Оленой, ну а скотишко, хлеб и все обзаведенье делите пополам. Не такое это уж мудреное дело, чтобы ввязывать в него чужих людей».
После этого дедушко честь честью простился со всеми и начал отходить. Тут сразу на божнице зажгли свечи. Бабушка Анна, тетка Олена, тетка Парасковья, зятевья Степан и Кирюша и все сродственники стали причитать над ним в голос. А соседи, которые с утра ждали на дворе его смерти, стали отвешивать земные поклоны.
Скоро во всем околотке разнеслась весть, что дедушко Гаврило преставился. А он, на удивление всем, вдруг взял да ни с того ни с сего и ожил. Сначала открыл глаза, потом пошевелил рукой, выматюгался и позвал бабушку Анну. Когда перепуганную бабушку подвели к нему, он не особенно громко, но довольно внятно сказал: «Не будет мне, видать, Анна, хорошей дороги. Трубку забыл… Где она? Куда я без трубки в такую дорогу». Ну, тут взяли скорее его трубку, набили табаком, раскурили как следует и вложили ему в правую руку. Когда дедушко почувствовал свою трубку в руке, он тихо сказал: «Теперь другое дело. А то куда я без трубки-то».
И умер уже по-настоящему.
Хоронили дедушку так, как никого у нас в Кульчеке не хоронили. Привезли из тайги несколько возов пихтовых веток и устлали ими всю дорогу от его дома до самого кладбища. За гробом шел весь причт комской приходской церкви. На могиле поставили первый каменный памятник на нашем кульчекском кладбище. На этом памятнике сделали надпись: «Здесь покоится прах Гаврила Родивоновича Калягина. Скончался 12 февраля, 80 лет, 1913 года».
Поминки справляли целых три дня. Вся деревня перебывала на поминках, и всех поили пивом и вином. То ли сам покойник наказал это, то ли зятевья решили побахвалиться.
На похоронах и во время поминок тетка Олена и тетка Парасковья, Степан Федосеич и Кирюша старались показать всем свое горе и оделись во все рваное.
А как похоронили дедушку и отвели по нему поминки, тут Олена и Паруша со своими мужьями стали делить дедушкино наследство. С этой дележкой у них сразу же начались ссоры и раздоры. Парасковья требовала от Олены то одно, то другое, что было, а чего, может быть, и не было. И если это в доме не находила, то обвиняла сестру в краже. А Олена тоже не оставалась у ней в долгу. От этой их ругани бабушка Анна слегла в постель, перестала соображать, что к чему, и на последней неделе великого поста отдала душеньку богу.
Поделить по согласию наследство Олена и Парасковья так и не смогли. Делились всю весну и все лето, а с осени начали судиться. Судились много лет, несколько раз ездили в Красноярск в окружной суд. Из-за чего тянулась у них тяжба, никому уж было не интересно. Всех занимало только одно – найдут они дедушкины деньги или не найдут.
Умирая, дедушко сказал, чтобы его деньги искали под каким-то тринадцатым столбом. А где этот столб стоит, он им не сказал. Вот и попробуй найти. Везде на усадьбе стоят столбы, а который из них тринадцатый, знал только дедушко.
Как только подошла весна, Степан и Кирюша начали перекапывать на дедушкиной усадьбе вокруг всех столбов. Копали везде – и во дворе, и в стаях, и в огороде, и на гумне, и даже на заимке. Все перекопали, а денег так и не нашли.
А потом додумались обтесывать эти столбы. Узнали, что в Коме один богатый мужик прятал свой капитал в столбы. Провертит напарьей большую дыру, засунет в нее золотые монеты, забьет в ту дыру крепко-накрепко спицу, обрежет ее аккуратно по столбу, затрет это место грязью, и стоит себе этот столбик на виду у всех как ни в чем не бывало. И никому в голову не приходит, что в нем спрятано, может быть, пятьсот, а может быть, целая тысяча рублей. Вот Степан с Кирюшей и решили, что дедушко тоже упрятал свой капитал в столбы. И стали их сначала тесать, потом пилить и колоть, но дедушкиных денег так и не нашли. Может быть, дедушко сказал им об этом тринадцатом столбе только так, для отвода глаз, а на самом деле спрятал свои деньги в другом месте. А может быть, Степан с теткой Оленой или кто другой еще при жизни дедушки нашли где-нибудь его деньги и прибрали их к рукам. Но только после смерти дедушки у нас в деревне никого с таким большим капиталом уж не было.








