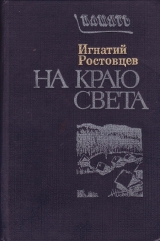
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 50 страниц)
Глава 2 БРОДЯЖКА
Но вот прошла яркая, шумная и многоцветная троица, и наступили петровки. Весенние работы уже закончены, а сенокос еще не подошел. Природа в торжественном уборе. Все цветет и зеленеет. Заморенная за зиму скотина с утра до ночи отъедается на выгоне. А люди, как всегда, заняты работой. Одни загодя готовятся к сенокосу – делают вилы, грабли, приводят в порядок косы, другие гнут березовые полозья для саней, третьи вьют веревки, вожжи, арканы.
Словом, все заняты делом. Мы тоже стараемся не отставать от взрослых. С утра я бегу к своим соседям – Спирьке и Гришке, чтобы вместе с ними пойти на речку посмотреть, как там наша Чуня отбеливает на лугу холсты, которые мама выткала зимой.
Через несколько минут я уже с гиком скачу на паре лихих коней. Спирька в моей упряжке коренной. Он бежит крупной рысью, позванивая надетыми на шею шеркунцами. А Гришка подпрыгивает рядом, изображая лихого пристяжного.
Мы бодро выбегаем на берег нашей речки. Перед нами мельничий пруд. За прудом большой зеленый луг, на котором пасутся гуси. На нем же бабы отбеливают холсты. А по берегу, со стороны деревни, виднеется несколько низеньких бань. И тут я замечаю, что из нашей бани вьется тонкий дымок.
«Странно, – соображаю я, – мы топим баню только по субботам. Мамы дома нет, Чуня на речке, бабушка вываривает свои кадки для огурцов. Кто бы мог топить сегодня нашу баню? Может быть, посмотреть?»
Наша баня, как все деревенские бани, устроена «по-черному». Это крытый четырехстенный сруб без окон, без запоров. Когда в бане топится каменка – огромная, грубо сложенная из булыжника печь, дым выходит через дверь и через маленькую квадратную отдушину в стене, рядом с дверью. Когда каменка достаточно прокалится, баню «кутают» – промывают пол, скамейки, полок, заливают непрогоревший уголь и тщательно проветривают. После дверь закрывают, а отдушину затыкают куделей. И можно идти мыться…
Мы с гиком и звоном подбегаем к бане. После некоторого колебания я открываю дверь и сразу же испуганно закрываю ее. В бане какой-то чужой человек с длинной седой бородой. На его лбу я разглядел широкий багровый рубец, который придавал ему какое-то суровое, страдальческое выражение.
– Кто это? – шепотом спросил меня Спирька.
– А я знаю? – так же шепотом ответил я.
– Пойдемте отсюда. Я боюсь его, – заныл Гринька.
Мы осторожно отошли от бани и стали издали наблюдать. Через некоторое время неизвестный вышел из бани. Он поглядел сначала на солнце, как бы желая поточнее определить время, а потом долго смотрел в сторону Шерегеша.
Мы тоже стали смотреть на Шерегеш, но ничего там не увидели, кроме легких перистых облаков, тянувшихся над его высокой вершиной.
Вдруг человек резко повернулся и, как нам показалось, направился в нашу сторону.
– Пойдемте домой, – снова заныл Гринька.
Мы не менее Гриньки боялись встречи с неизвестным стариком и побежали домой. Через две-три минуты, возбужденный и запыхавшийся, я врываюсь к себе во двор и нахожу бабушку около погреба. Она сидит на скамейке возле большой кадки, в которую только что спустила несколько докрасна накаленных в печи камней. Вода бурлит и клокочет. Так у нас вываривают кадки для засолки огурцов и греют воду в бане для мытья.
– Баба, бабонька! – кричу я, подбегая к ней. – У нас кто-то в бане поселился. Страшный такой, бородатый старик.
– Ну так что же, – спокойно говорит бабушка. – Бродяжка какой-нибудь обосновался. Поживет немного да и уйдет. Сегодня только вторник. А баню нам топить в субботу. Пусть себе живет.
– А кто он, этот бродяжка? – допытываюсь я у бабушки. – Что он у нас делает?
– Поселенец какой-нибудь или бобыль бесприютный, вроде нашего Ворошкова. Шел, шел своей дорогой да и остановился в нашей баньке немного отдохнуть.
Я знаю – если кто поселенец, то он убил кого-нибудь или ограбил. Его за это осудили на каторгу, а потом пригнали жить к нам в Кульчек. У нас если кого хотят сильно обругать, то обзывают его поселюгой, варнаком, бродягой, катом.
– Бабушка, – допытываюсь я, – а кого он убил?
– А кто его знает, – отвечает бабушка. – Может, никого и не убивал. Видать, из острога бежал. Да нет. Где ему, если старик. Отсидел, поди, свой строк и ходит теперь по белу свету, побирается христовым именем да смотрит, куда бы лучше преклонить свою голову.
– А он нас не зарежет? – не отстаю я от бабушки.
– Что ты, милок. Да за что же он нас с тобой резать-то будет? Теперь не те времена. Это раньше беглые каторжники людей резали, народ грабили. А теперь, слава богу, давно уж об этом не слышно.
– И у нас в Куличеке грабили?
– Да… бывало и у нас в Кульчеке.
Тут я вижу, что бабушка знает что-то интересное, и спешу воспользоваться подходящим случаем:
– Расскажи, бабушка, расскажи о разбойниках…
– А кадки кто за меня будет вываривать? Скоро ведь огурцы пойдут.
– Я тебе помогу, бабонька. Ты только рассказывай, а я буду вываривать.
– Ишь помощник какой нашелся. Не мужицкое это дело – кадки вываривать. Иди лучше играй. Потом как-нибудь расскажу. – Бабушка с трудом поднялась со скамейки. – Ох, ох, ох! – тяжело вздохнула она. – К дождю, что ли, меня сегодня ломает. Моченьки моей нет. Пойти подбросить в печку.
Она взяла лежавшую около кадки клюку и пустое ведро и поплелась в дом. Я ждал, ждал ее около кадушек и, не дождавшись, побежал к Спирьке и Гришке.
На этот раз мы пошли играть в Барсуков ключ. Барсуков ключ начинается под Шерегешем и впадает в нашу речку прямо посредине деревин. Весной Барсуков ключ шумит и бурлит, а летом почти совсем пересыхает. Берега его крутые, обрывистые, с узкими щелями, ямами и даже пещерами. Удобное место для игры в разбойников.
Сегодня атаманом был сначала я. Спирька был купцом, а Гришка ямщиком. Потом атаманом сделался Спирька, потом Гришка. Все по очереди были и разбойниками, и купцами, и ямщиками. Чтобы быть разбойником пострашнее, я вымазал себе лицо и руки красной глиной и нарисовал на лбу широкий рубец. Спирька и Гришка, разумеется, тоже раскрасились.
Возвращаясь с Барсукова ключа, мы неожиданно наткнулись на нашего бродяжку. Он переходил от дома к дому, останавливался под окнами и негромко, но достаточно внятно просил милостыньку.
И в каждом доме ему непременно что-нибудь подавали.
Мы издали следили за бродяжкой, стараясь рассмотреть его как следует. Его лоб до самых глаз был повязан ситцевым платком, благодаря чему багровый рубец не привлекал к себе внимания. В остальном бродяжка ничем не отличался от наших деревенских стариков. Он был в коротком поношенном шабуре. На опояске с левой стороны, как у всех наших мужиков, у него висел небольшой нож в деревянных, обтянутых кожей ножнах, а на плече большая холщовая сума.
Когда бродяжка направился к нашему дому, я побежал предупредить об этом бабушку. И через некоторое время под окнами у нас послышался негромкий голос:
– Подайте милостыньку, христа ради, прохожему человеку.
– Сейчас! – отозвалась бабушка и сунула мне калач белого хлеба и два яйца. – Вынеси ему за ворота и подай. Да обязательно скажи: не взыщи, мол, дедушка… Иди, иди! Не бойся.
Я вышел с милостынькой за ворота, подал ее бродяжке и, немного оробев, сказал:
– Не взыщите, дедушко.
– Во имя отца, и сына, и святого духа, – сказал бродяжка, снял картуз и перекрестился. – Спасибо, сынок, спасибо, люди добрые. Дай вам бог здоровья.
Он пристально посмотрел на меня, поправил повязку на лбу и устало пошел к следующему дому.
После встречи с бродяжкой мне никуда уж не хотелось идти из дома, и я до самого вечера крутился около бабушки в надежде услышать какой-нибудь рассказ о разбойниках. Но бабушка все охала, все жаловалась на то, что ей разломило суставы, что она не может двинуть ни рукой, ни ногой. А сама все ходила и ходила и все что-то делала.
Тем временем погода стала меняться. К вечеру из-под Тона потянулись свинцовые тучи. Загудел Шерегеш, и, когда начало темнеть, вдали над тайгой стало сверкать и погромыхивать. Приближался весенний грозовой дождь. Было тихо и душно. Только изредка прохладной волной накатывался легкий ветерок, принося с собой ощущение какой-то тревоги от надвигающейся грозы.
В ожидании большого ливня бабушка и Чуня убрали с подамбарья хомуты, потники и прочую снасть, сняли и отнесли в дом развешанный на заборе холст. Даже вываренные под огурцы кадушки перекатили на всякий случай под навес.
Вечером бабушка попросила Чуню закрыть как следует окна. Когда Чуня, притворив ставень, проталкивала в избу железный засов, бабушка заставляла меня закреплять его на железную чекушку.
– Так-то будет лучше, – говорила она и три раза крестила закрытое окно. – Береженого бог бережет.
Наконец сели пить чай. За чаем бабушка заявила нам, что ляжет спать сегодня в прохладные сени, а не в жарко натопленную избу, а ночью, видать, отдаст свою душеньку богу, настолько она умаялась за день. Мы с Чуней, разумеется, устроились на ночь тоже в сенях.
Перед сном бабушка долго молилась. Потом закрыла дверь на щеколду и потушила лампу. В сенях сразу сделалось темно, и с улицы стал доноситься тревожный лай собак. Теперь, решил я, можно попросить бабушку рассказать обещанную историю про разбойников.
– Ты помнишь, Чуня, эту курицу рябу, – начала бабушка, устраиваясь на полу рядом с нами, – замухрыжистая такая. Я опять нашла ее на яйцах. Устроила себе гнездышко в коробу на санях, под самым облучком, сидит себе и парит. Уж я куряла, куряла ее в кадке с водой, да разве в кадке накуряешь! Ее на речку надо нести, в пруду курять. А то высидит нам цыплят. А какие могут быть у такой курицы цыплята. Одна видимость!
– Ты, бабонька, о разбойниках рассказывай, а не про курицу, – взмолился я.
– Обожди, милок. Сначала надо с курицей с этой дело решить. А потом уж и о разбойниках, – говорит бабушка и долго молчит, как бы собираясь с мыслями.
Я толкаю Чуню под бок, чтобы она тоже слушала бабушку.
– В та поры я была еще маленькая, – неторопливо повела она свой рассказ. – В твоих примерно годочках. А хорошо помню, как все говорили об этих варнаках. Как придет лето, так они и начинают тут баламутить. То коней из табуна угонят, то корову на мясо себе зарежут. А то и в деревню нагрянут. Да в самый сенокос норовят, варнаки, али в страду, когда все от мала до велика на пашне. А Кульчек наш в та поры был еще маленький. Малолюдство еще было. Вот в такую пору они и заявлялись к нам, и старались вломиться, конечно, к тем, которые побогаче. А летом дома известно кто – старики да дети малые.
Вот проходят они один раз среди бела дня всей оравой прямо к Меркульевым и заставляют стариков перво-наперво варить им полный обед, подавать пива и выставлять на стол все, что имеется. Да мало того, еще свечи требуют. Все свечи, говорят, давайте, сколько есть! Уставили ими стол, зажгли и гуляют, варнаки, днем при свечах. А напоследок забрали из дома все масло, сало, всю одежонку, которая получше. Да еще наказали никому ничего не сказывать. «Смотрите! – говорит ихний атаман. – За хлеб, за соль спасибо. А если пикнете насчет нас кому-нибудь хоть одно слово, тогда уж не взыщите. Не пожалеем ни старых, ни малых».
Я слушаю бабушку и отчетливо представляю себе разбойников вместе с их атаманом. Сидят себе днем при свечах у Меркульевых и пируют. И еще песни поют. Тут я вспомнил разбойничью песню, которую поют у нас поселенцы Матюгов и Ивочкин, когда бывают пьяными:
Ты скажи мне, младый юнош,
Сколько душ ты загубил?
Восемнадцать православных,
Девяносто шесть татар…
Я хочу спросить у бабушки – не эту ли песню пели разбойники, когда пировали у Меркульевых, но бабушка опять переводит разговор на свою курицу:
– Ты смотри, Чуня, за этой рябой. Как бы она у нас под амбаром не обосновалась…
– Я, бабонька, завтра попрошу Акентея слазить под амбар да все там оглядеть, – успокаивает ее Чуня.
Я, вслед за Чуней, тоже стараюсь успокоить бабушку насчет этой рябой курицы и обещаю ей непременно слазить завтра под наш амбар и все там осмотреть.
– Вот и хорошо, – говорит бабушка и продолжает рассказ о разбойниках: – «А то всех вас перережем, – говорит этот ихний атаман, – если хоть одно слово скажете о нас добрым людям». С тем и ушли.
Ну, старики, понятно, и молчат после этого. Как в рот воды набрали. Только плачут да ахают. А в субботу, когда вся семья съехалась с покоса, они и объявили обо всем, что у них приключилося. Обсказали все, как было. Ну, тут, понятно, все пришли в полное расстройство, особливо женщины. Шутка ли – безо всего остаться. Обзаводились-то годами.
На другой день Меркульев ни свет ни заря отправился в волость к начальству. Обсказал там все как следует, что ограбили его, догола обчистили. «Да кто вас ограбил-то?» – спрашивает его волостной начальник. «А из Шерегеша, – говорит ему Меркульев, – они заявились. Там, – говорит, – эти варнаки обосновались». – «Опять этот Шерегеш! Уж который раз, – отвечает волостной начальник. – Это, – говорит, – идринские каторжане с казенного завода бегут, так они у вас там и пошаливают. Вы сами, – говорит, – с ними ведите расчеты. А нам, – говорит, – это дело несподручно. Жизнь не надоела еще – в ваш Шерегеш соваться».
Я слушаю рассказ бабушки, и меня вдруг осеняет неожиданная догадка насчет бродяжки, который поселился в нашей бане. Почему он так долго смотрел сегодня на наш Шерегеш? Может быть, он тоже был в той шайке? Эта догадка кажется мне настолько убедительной, что я хочу поделиться ею с бабушкой. Но она опять обращается к Чуне с неожиданным вопросом:
– Чуня! А половики-то мы с тобой ведь не убрали. Так и оставили их на поленнице, за амбаром. Что же делать-то? Ах ты, беда какая!
– Да дождя-то не будет, бабонька. Вроде все пронесло.
– Какое там пронесло. Разве не слышишь, как погромыхивает. Того и гляди, польет. Придется ведь вставать да идти. – Бабушка с трудом поднялась и засветила лампу. – Того и гляди, сорвет их ветром да в грязь. Опять в пруд придется тащить. Ну совсем памяти не стало, – причитала она, надевая откуда-то появившийся в ее руках шабур.
Тем временем Чуня подошла к двери и осторожно приоткрыла ее. Со двора глянула на нас непроглядная тьма. Ослепительная вспышка молнии ярко высветила амбар, телегу против амбара и опрокинутое вверх дном ведро на крыльце. На небе что-то перекатывалось и рокотало.
– И как это я их забыла? Пойдем, Чуня, отнесем их хоть под крышу.
Тут бабушка убавила свет в лампе и вышла с Чуней во двор. Я остался один в пустом доме, в полутемных сенях, и сразу почувствовал себя беззащитным.
«Ушли… бросили меня, – с горечью думал я и тут же почему-то вспомнил бродяжку, который поселился у нас в бане. – Вот где страшно-то. А может, он и не в бане вовсе, а где-нибудь по деревне ходит?.. Может быть, он у наших ворот стоит?..»
При мысли об этом мне сразу сделалось страшно. И чем дольше я ждал бабушку и Чуню, тем сильнее росла уверенность в том, что бродяжка непременно стоит у наших ворот.
Вдруг резкий порыв ветра сорвал с крыльца ведро и с грохотом покатил его по двору.
– Бабушка! Чуня! – закричал я и вскочил на ноги, чтобы бежать на двор. Но тут яркая вспышка молнии ослепила меня, и раздался такой сильный удар грома, что лампа мигнула несколько раз и погасла. Оглушенный, я упал на постель, уткнулся в подушку и накрылся с головой шубой. Я забыл уж и бродяжку, и разбойников. Я все забыл, кроме одного – чтобы скорее пришли бабушка и Чуня.
Наконец на крыльце послышались возбужденные голоса, и почти одновременно зашумел сильный дождь.
– Ну, слава богу, успели. И как это я, старая, про них забыла, – говорила бабушка, зажигая лампу. – Ну, а ты-то как тут? Перепужался?
– Бросили меня, – захныкал я. – А он тут. У ворот стоит.
– Кто у ворот стоит? – встревоженно спросила Чуня.
– Да он. Бродяжка этот.
– Что ты, милок, опомнись, – сказала бабушка. – Это тебе от страха втемяшилось. Спит он сейчас, твой бродяжка, без задних ног. В нашей бане.
Вдруг ослепительная молния опять прорезала темноту. И почти сразу над самым нашим домом раздался оглушительный удар грома.
– Мне страшно! Я боюсь! – закричал я, падая на постель.
– Свят, свят, свят восподь Саваоф! – забормотала бабушка и начала поспешно крестить потолок, двери и углы сеней. – Не бойся, милый. Ничего не будет, только молитву читай. Как ударит молонья, ты сразу: «Свят, свят, свят!» Как гром грянет, ты опять: «Свят, свят». Не надо бояться.
«Свят, свят, свят! – повторяла она при последующих ударах грома. – Теперь уж ничего. Не страшно. И дождик, слава богу, пошел. Хлеба польет как следует».
При бабушке и Чуне мне уже не страшны ни гром, ни молния. Тем более что громыхало все реже и реже. Однако я все еще не мог удержать слез и, уткнувшись в подушку, продолжал хныкать.
– Да не плачь ты! Не плачь!.. В самом деле нехорошо вышло – оставили ребенка одного. Это я во всем виновата. Забыла про эти половики, пропади они пропадом… Ты уж не сердись на меня на старую, а я тебе про разбойников доскажу. Спать-то, поди, не хочешь?
– Нет, не хочу.
– Ну вот и хорошо. На чем мы остановились-то? Ах да… Поехал наш Меркульев в волость жаловаться, что ограбили его, а волостной начальник послал его обратно ни с чем. Сами, говорит, управляйтесь с этими разбойниками, а у нас, говорит, и без этого мороки много. С тем Меркульев и домой приехал…
Ну, тут собрались наши мужики. Поговорили, посудачили об этом, поахали всем обчеством и разошлись… Так бы и дальше терпели этих грабителей, если бы не наш дяденька Антип.
Дяденька Антип богатырь был у нас. Осилок! Все знали это. Идет он как-то раз весной вечерком по улице и видит: около Сычевых целая толпа народу. Одни борются, другие с двухпудовой гирей балуются, третьи за веревку тянутся. Увидели дяденьку и зовут его силенкой помериться. «Ну что ж, – говорит дяденька Антип, – давайте, – говорит, – потягаемся немного за веревочку… Беритесь с того конца, а я с этого». Схватились тут человек десять за один конец, а дяденька за другой. Уж они его и так, и этак. Куда там! Он как каменный. Ни с места. А потом взял да и потянул их. Они упираются изо всех сил, а он знай тащит их волоком по улице. Смеху-то сколько было. А опосля того взял у них гирю двухпудовую, помахал ею да через всю улицу в огород к Лупановым и забросил. Шутка ли такое дело!
Бабушка замолчала, как бы собираясь с мыслями. Воспользовавшись этим, я спрашиваю ее:
– А какой он был, дяденька Антип? Большой?
– Да не так чтобы уж особенно большой. Вроде Ефима Ларионовича или Григория Щетникова. Не больше. Только в плечах пошире… Раз поехал дяденька Антип на целую неделю на пашню. Вечером, после работы, выпряг коней, отвел их на ночь на траву и идет себе к стану. Вдруг навстречу ему три человека. Все хорошо одеты, обворужены. «Стой! – говорят. – Где кони?» Тут повел их дяденька Антип к лошадям. Забрали они у него пару коней, привели на стан, запрягли в его же телегу, а потом и советуются между собою, что им с дяденькой делать – пришибить его или живого оставить.
«Пусть он накормит нас сначала как следует, – решил один из них, видать, атаман ихний. – А там видно будет. Убить его мы всегда успеем. – А потом обратился к дяденьке Антипу и говорит: – Вари нам скорее похлебку! Да погуще! Хорошо накормишь – живого оставим».
«Ну, – думает дяденька Антип, – попал в переплет… Как кур во щи… Ладно, – думает, – двум смертям не бывать, одной не миновать».
Потом берет баранью лопатку, режет в котел мясо, чистит картошку, крошит лук, все как полагается. Наливает из лагушки в котел воду и ставит на огонь.
А разбойники следят за ним да все выхваляются. «От ваших кульчекских мужиков, – говорят, – никакого прибытка. Только из-за харчей к вам и наведываемся. То ли дело, – говорят, – в татарах, за Енисеем. Там не тот фарт. Вот заглянули мы там последний раз к одному хозяину, дай бог ему царство небесное. Чего только у него не было… Двадцать рысей, четыре выдры, шесть соболей, две лисицы черно-бурых, три шапки камчатского бобра, десять аршин сукна кармазинского, пятнадцать аршин парчи – по зеленой земле цветы серебряные, две шубы тонкого сукна на волчьем меху, опушены выдрой, не говоря о другой мелочи. Да денег без малого две тысячи. Вот это фарт был, не то что в вашем Кульчеке руки марать».
Ведут такой разговор, а дяденьку все торопят: «Тебе что, – говорят, – жизнь надоела, что ли, так долго валандаешься?» Тут вынимает этот ихний атаман свой нож, берет этим ножом из котла кусок мяса и пробует прямо с ножа. «Не готово, – говорит. – Вари еще! Да поторапливайся. Нам ждать тебя некогда». Тут дяденька Антип что-то смекнул. Притащил еще дров, пристроился рядом с этим атаманом и шурует под котлом. А атаман подождал немного и опять берет своим ножом из котла кусок мяса. Только поднес он нож с мясом ко рту, дяденька как стукнет его по руке. Атаман сразу запрокинулся и захрипел. А дяденька схватил котел с кипящей похлебкой и выплеснул ее прямо в лицо другому разбойнику. Третий видит, что ему несдобровать, бросился было бежать. Ну, куда там. Дяденька Антип схватил его и так ударил, что и дух из него вон. Вот как оборотилось это дело. Атаман, тот, конечно, сразу богу душу отдал. Третий, которого дяденька зашиб насмерть, оказался податаманьем. А второй – ошпаренный – остался живой. Но как бы не в себе. Ну, какой уж он после этого воитель. Тут дяденька погрузил их всех на телегу да и привез прямо в Кульчек.
Я слушаю бабушку и все больше и больше уверяюсь в том, что бродяжка, который поселился в нашей бане, из той же шерегешенской шайки. Мне хочется сказать об этом бабушке, но я боюсь прервать ее.
– Ну, тут сбежалась, конечно, вся деревня, – продолжает бабушка. – Видят, такое дело, решили всем обчеством кончать скорее эту шайку. Просят дяденьку: «Веди нас, Антип Евтифеич. А мы уж как-нибудь все за тобой». – «Да куда же я поведу? – отвечает им дяденька Антип. – Пусть этот ошпаренный ведет вас. Он знает к ним дорогу».
Оседлали наши мужики тут коней, взяли, у кого были, ружья, и повел их этот разбойник в Шерегеш. Приводит их в свое логово, а там уж никого нет. Видать, его товарищи уже унюхали, что дело-то не туда оборотилось, и смылись. «Куда они ушли? – спрашивает дяденька этого варнака. – Говори скорее, а не то и тебе будет крышка!» – «Пожалейте меня, несчастного, – говорит тот, – все скажу. Ничего не утаю. В Подлиственную гряду подались они. Там, – говорит, – у нас главное становище».
Вот приводит он наших мужиков в Подлиственную гряду, в самое глухое место, прямо к становищу. Там их всех и накрыли. Но только награбленного добра при них не оказалось. Сколько их там ни допытывали, все в один голос твердят: «Ничего не знаем. Не ведаем. Спросите об этом нашего атамана и его помощника. Они только и знают. А мы люди малые, подначальные. Мы ничего не знаем. Одно только можем сказать, что все наше богатство спрятано где-то у вас в Шерегеше».
Бились, бились с ними наши мужики, но так ничего и не дознались. Потом приехали в Шерегеш искать этот клад. Все обшарили, осмотрели, от устья до самой вершины. Но так ничего и не нашли. Потом клад начали комские мужики искать. Много раз наезжали к нам в Шерегеш. Но выкапывали все какую-то ерунду – медные да железные ножики да глиняные горшки. Так ничего и не нашли. А должен клад этот тут где-то быть. Вот только как до него дойти, никто не знает. Вон Кузьма Шахматов почти каждую весну какой-то огонь в Шерегеше по ночам видит. Клад – не иначе. А поедет в то место – ничего нет.
Вот какие дела, милок, водились в нашем Кульчеке. Теперь что. Теперь мы живем, благодаренье богу, тихо, спокойно. И поселенцев в деревне много, а ничего, живут себе, никого не трогают. Семьями обзавелись, занимаются рукомеслом. Некогда баловаться-то. А бродяжки? Те тоже никого не обижают. И их никто не трогает. Что возьмешь у бродяжки? Пустой кошель да участь горькую. Несчастные они люди. Ох, ох, ох… Наговорились мы с тобой сегодня. И спать пора. Чуня, Чуня! Ты спишь?
– Она, бабонька, давно уж спит, – спешу я сообщить бабушке. – Как ты про дяденьку Антипа начала рассказывать, она и уснула.
– Устала. Весь день в работе. Пусть спит…
– А бродяжка, который в нашей бане, был в тон шайке? – спрашиваю я бабушку.
– Куда ему. Это ведь давно было.
– Нет! Он был в той шайке, – уверяю я бабушку, – мы со Спирькой и Гришкой ведь видели, как он все на наш Шерегеш смотрел. И рубец у него на лбу. Это дяденька Антип его стукнул.
– Ну, ладно. Может быть, и дяденька, только другой. Спи пока!
И бабушка прикрыла меня шубой.
На другой день я с утра побежал на речку посмотреть бродяжку. Из бани вился слабый дымок. Значит, бродяжка был здесь. Я побежал к Крысиным, чтобы рассказать Спирьке и Гришке о шайке разбойников, о кладе, спрятанном в нашем Шерегеше, и о том, что бродяжка пришел к нам в Кульчек разыскивать этот клад.
Но Спирьку я дома не застал. Его рано утром отец увез на пашню боронить. А Гришка так боялся бродяжки, что рассказывать ему о разбойниках было как-то неинтересно.
Огорченный отсутствием Спирьки, я пришел домой и увидел на дворе бабушку. Она толкала в корзинку нашу рябую курицу.
– Опять устроилась парить, – ворчала бабушка, – ужо я тебе попарю.
И бабушка решительно направилась с курицей на речку. А я увязался за нею.
Мы пришли на пруд и спустились с крутого берега вниз к мосткам, которые были как раз против нашей бани. Бабушка вытащила курицу из корзинки и начала ее курять.
– Вот тебе! Вот тебе! – приговаривала она каждый раз, погружая ее в воду.
Курица с криком рвалась из рук бабушки, захлебывалась при погружении в воду, снова рвалась и снова захлебывалась. А бабушка все куряла и куряла ее до тех пор, пока она не замолчала и совершенно не обмякла.
– Что, милая, накупалась? Ну, отдохни теперь, очухайся. А потом я тебя еще раз покуряю, – говорила бабушка, заталкивая курицу в корзинку. – Ты, милок, посиди с нею здесь, а я пойду посмотреть, как у Чуни отбеливается холст.
И, поставив корзинку с курицей на берег около мостков, пошла к мельнице, чтобы там перейти на ту сторону пруда.
Я остался один у мостков. Надо мной, на высоком берегу, стояла наша баня, и из нее вился слабый дымок. Значит, бродяжка здесь. Через некоторое время он вышел из бани с котелком в руках, постоял, осмотрелся по сторонам и стал спускаться по дорожке к нашим мосткам. На этот раз он был без повязки, и страшный рубец отчетливо выступал на лбу.
Я вскочил и не знал, что мне делать: бежать или оставаться на месте около своей корзинки? Оставаться мне было страшно, ведь я же уверил себя в том, что он был разбойник и душегуб. Уходить же отсюда было некуда. В этом случае я должен был лицом к лицу столкнуться с ним на дорожке. И потом, не оставлять же ему нашу курицу? За это бабушка по головке ведь не погладит.
Бродяжка остановился, нарвал небольшой пучок травы и прошел мимо меня на мостки. Здесь он стал ополаскивать свой котелок и оттирать его травой. Он несколько раз взглянул издали на меня, а проходя обратно, остановился и спросил:
– За что это вы с бабкой курицу-то казните?
Я не знал, как объяснить ему, и испуганно ответил:
– Это бабушка ее куряет, а не я. Она знает.
– Вы лучше зарубите ее на похлебку. Хорошая похлебка будет.
Не дожидаясь от меня ответа, он пошел наверх и скрылся в бане. Я еще долго стоял около мостков со своей курицей и посматривал наверх. Но бродяжка не показывался. Наконец пришла бабушка.
– Он здесь, в бане, – спешу я сообщить ей о своей встрече с бродяжкой, – страшный такой. Посмотрел на нашу курицу да и говорит: «Вы лучше зарубите ее на похлебку, чем курять».
– Ишь, какой умник. На похлебку. Без него не знают. Нам надо, чтобы она яйца несла, – сказала бабушка.
На этот раз курица не рвалась, не кудахтала и после нескольких погружений в воду совсем обмякла и перестала трепыхаться.
– Она захлебалась, бабушка! – с испугом закричал я.
– Ничего, очухается, – сказала бабушка и затолкала курицу в корзинку. – Теперь будет знать, как яйца парить. Пойдем домой! Неси корзину.
Проводив бабушку домой, я пошел на луг помогать Чуне караулить ее холсты от гусей. Почти весь день я провел там, посматривая на нашу баню. Я видел, как бродяжка ушел с сумой в деревню, как он возвратился обратно в баню, развел там огонь и, видать, что-то варил себе на ужин. Потом он еще несколько раз выходил из бани и возвращался обратно. И издали мне казалось, что он все смотрит на Шерегеш, как будто обдумывает, в каком месте спрятан там клад и как лучше пройти к тому месту. И мне было теперь совершенно ясно, что бродяжка пришел к нам разыскивать клад. Мне очень хотелось поговорить с кем-нибудь об этом, узнать еще что-то о разбойниках. Но говорить, кроме бабушки, было не с кем. А она, я хорошо знал, рассказывать больше о шерегешенском кладе не будет. К тому же и бродяжка вел себя не так, как следует настоящему разбойнику и душегубу. Он никого не грабил, никого не резал, не убивал, а ходил мирно по деревне и спокойно жил в нашей бане.
Вечером, перед самым сном, я еще раз побежал на речку. Издали мне показалось, что бродяжка сидит на пороге открытой двери бани. Я постоял некоторое время в ожидании чего-то важного и неожиданного и ни с чем возвратился домой.
На другой день я с утра увязался за Чуней на пруд, куда она понесла отбеливать холст. По дороге я рассказал ей, как мы с Спирькой и Гришкой первыми увидели бродяжку, который живет в нашей бане.
– Нету его в нашей бане, – ответила Чуня, – ушел твой бродяжка…
– Как ушел? Он вчера еще был.
– Вчера был, а сегодня уж нет. Пойди посмотри.
Я побежал. Отдушина около двери аккуратно заткнута куделей. Я осторожно открыл дверь и заглянул в баню. Она была пуста. Никаких следов, никакого мусора. Ничего-ничего. Но тепло. Только это и говорило о недавнем пребывании здесь прохожего человека. Неизвестно, откуда он пришел к нам и куда от нас удалился. Мне думалось, что он пошел искать клад в Шерегеш. А бабушка говорит, что он подался в другую деревню и обосновался там, как и у нас, в бане.








