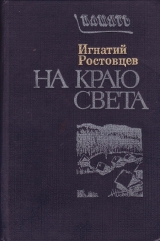
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 50 страниц)
Глава 18 ПОДАТИ
С болезнью Ивана Адамовича Финоген остался как без рук. Он каждый день с утра являлся к нему на квартиру и каждый день находил его в постели. На счастье, ничего особенного за это время из волости не поступало. Но болезнь болезнью, а время-то, оно идет. Уж скоро воздвиженье, а Иван Адамович все никак не может справиться со списками для сбора податей. Того и гляди, нагрянет старшина или заседатель по этим делам.
Ивана Адамовича это тоже, конечно, волновало. Он рад был бы просидеть несколько дней, чтобы как-нибудь свалить эти списки. Но как их сделаешь, если он и на полчаса не может встать с постели. Сядет за стол, попишет немного, потом схватится за голову и опять на кровать. Значит, опять у него стал подниматься жар и голова начала трескаться от боли. Только через две недели он кое-как справился и сразу же послал Ониску за мной.
У Ивана Адамовича я, как всегда, застал Финогена.
– Значит, так и решим, – наставлял он Финогена. – С завтрашнего дня займетесь этими проклятыми списками. Вот и помощник мой явился… Ты что же совсем забыл меня? – обратился он ко мне.
– На заимке был, – стал оправдываться я. – А потом дома помогал по хозяйству.
– А я, видишь, все хвораю. Сегодня первый раз посидел немного за своими делами. Работы накопилось… по горло. Чем ты сейчас занят?
– Послезавтра очередь на заимке пасти. А дальше вроде ничего… Так что-нибудь, по домашности.
– Ну, это дело я как-нибудь обмозгую, – сказал Финоген. – На худой конец, кого-нибудь наряжу отпасти ихнюю очередь. А ты, обратился он ко мне, – берись, братец, за дело. Видишь, Иван Адамович совсем у нас расклинился.
– А что делать-то? – спросил я.
– Да списки эти самые составлять. Того и гляди, нарочным потребуют. Ну, я побегу пока домой.
После ухода Финогена Иван Адамович объяснил мне, что для составления раскладочных ведомостей на подать обязательно требуются данные о посеве и о количестве домашнего скота у кульчекских мужиков. Это у него самая трудная, самая кляузная работа, так как все стараются и посев, и домашнюю скотину утаивать, чтобы меньше платить податей. Эти сведения мы добываем обычно на сельском сходе путем перекрестного опроса. Дня по три, по четыре валандаемся с этим делом. Все спорим да ругаемся, кому прибавить, кому убавить. А нынче, сам видишь, я на сход пойти не могу. Не знаю, как и быть. Дело важное, можно сказать, государственное. И так мы его с моей болезнью затянули. А это знаешь чем пахнет?.. Недаром Финоген так беспокоится. Умный мужик, хоть и неграмотный. Так что давай, брат, завтра вместе с ним на сход. Вместо меня. Выручай нас.
Я хорошо понимал, что должен делать для Ивана Адамовича очень важное дело, но только боялся, что мне не справиться.
– Справишься, справишься, – уверял меня Иван Адамович. – Тебе придется только записывать там со слов Финогена количество пашни, покосов и домашнего скота за каждым домохозяином. В споры и в ругань их на сходе ты не вмешивайся. Пусть спорят да ругаются. Твое дело сторона. А для начала познакомься с прошлогодней раскладочной ведомостью. – Тут Иван Адамович вручил мне толстый, довольно потрепанный список. – Посмотри его как следует. Потом поговорим.
Я с интересом стал читать раскладочную ведомость, так как сразу сообразил, что по ней с нас весь год выколачивали подати. В ведомости я, между прочим, натолкнулся на фамилии Абакурова и Бедристова.
Через некоторое время Иван Адамович спросил:
– Ну, разобрался?
– Немного разобрался.
– А что тебя смущает?
– Абакуров и Бедристов ведь поселенцы. А поселенцы, говорит Ворошков, на сходку не ходят, права голоса не имеют и подати не платят.
– Правильное твое замечание. Все ссыльнопоселенцы действительно не имеют права голоса на сельском сходе и податей не платят. Но на тех из них, которые, вроде Бедристова или Абакурова, имеют полное домообзаводство и наравне со всеми пользуются в деревне пашенными и покосными угодиями, на тех мы начисляем подати наравне со всеми. А ты понимаешь, кто такие в списке бойцы и полубойцы?
– Бойцы – это солдаты, которые на войне воюют.
– Но в нашем списке ведь не солдаты, а кульчекские мужики, которые имеют полное домообзаводство. Вот они и числятся у нас бойцами.
– А почему их числят бойцами?
– Я и сам, откровенно говоря, не знаю. Бойцы да бойцы. Так уж исстари заведено. Все мужики от двадцати до шестидесяти лет считаются бойцами и должны платить полную подать. А от шестидесяти до семидесяти числятся полубойцами и платят половинную подать. Дряхлых стариков свыше семидесяти лет податями мы не обкладываем. Понятно?
– Понятно.
– Теперь учти главное. Подати начисляются на каждого хозяина по числу имеющихся у него в семье бойцов, а также по количеству пашни, покосных паев и домашнего скота – рабочих лошадей, коров и овец. Данные о числе бойцов у меня имеются, а сведения о пашне, о покосах и о домашнем скоте вы с Финогеном должны будете получить на сходе путем перекрестного опроса. Но при опросе мужики будут безбожно утаивать и посев, и домашний скот. На этот случай вы с Финогеном держите при себе эту прошлогоднюю ведомость. Для нынешнего года она уж не годится, но всегда может потребоваться на сходе для справок во время спора. Поэтому тебе надо хорошенько разобраться с этой ведомостью, чтобы в любой момент дать там справку Финогену о посеве и домашнем скоте у каждого домохозяина.
А данные за нынешний год, которые вы с Финогеном будете дознавать на сходе, ты вноси в новую ведомость. Я давно уж заготовил ее на этот случай. Так что слушай там все споры и раздоры насчет каждого домохозяина, а сам будь начеку, смотри в нашу старую ведомость и говори Финогену, что там числилось у каждого хозяина для обложения в прошлом году. А новые данные со слов Финогена осторожно вноси карандашом в нашу новую ведомость. И все будет хорошо.
После этого Иван Адамович подробно ознакомил меня с прошлогодней окладной ведомостью, рассказал о том, как будет производиться на сходе опрос мужиков насчет пашни и скота, как они будут все это утаивать, спорить и ругаться между собою и как мне надо будет вести себя и правильно вносить в нашу новую ведомость цифры о пашне и о домашнем скоте, чтобы как-нибудь с этим делом не напутать.
Долго-долго, почти весь день, продержал меня Иван Адамович, обсказывая мне все это. Учит, учит меня, аж устанет. Полежит, отдохнет и опять начинает объяснять мне. Зато я в конце концов хорошо со всем этим разобрался и знал, как мне надо будет вести себя на сходе.
Перед вечером Никита Папушин объехал на своей лошаденке всю деревню и оповестил всех домохозяев непременно приходить на сборню.
Наша сборня стоит посредине деревни на небольшой площади. Она построена, видимо, очень давно и выглядит довольно ветхо. По виду сборня похожа на обычный крестовый дом под шатровой крышей, но только имеет не четыре, а три помещения. Крестовый дом делится обычно на сени, избу, горницу и казенку (кладовку). Богатые мужики вместо казенки устраивают себе еще вторую горницу.
На сборне сени соединены с избою в одно большое помещение, в котором и проводятся сельские сходы. Из кладовки в сборне устроена каталажка или, как ее называют еще, кутузка, а из горницы канцелярия для писаря.
Каталажка есть не что иное, как наша сельская тюрьма. Окон в ней нет. Вместо окна только маленькая отдушина, через которую едва можно просунуть руку. Дверь из сборни в каталажку сделана из толстых крепких досок и закрывается на замок. Посредине двери квадратное отверстие, вроде маленького оконца в четверть ширины. Оно крест-накрест перекрыто двумя железными болтами. При закрытой двери в каталажке совсем почти темно. Поэтому вместо слов «каталажка» и «кутузка» у нас говорят еще «темная». («Посадить его, варнака, в темную!»)
Каталажка на сборне обычно всегда открыта настежь. Закрывают ее только тогда, когда сажают в нее под замок пойманных воров, чаще всего конокрадов, и, потом, мужиков, которые не могут уплатить свою недоимку.
В сборне имеется большая голландская печь. Но она никогда не топится. Железная дверца в ней давно вывалилась, и ее выбросили, или кто-то унес ее себе домой. Зимой на сборне очень холодно, и она имеет очень запущенный вид. Поэтому наши писаря ведут свои дела у себя на квартире.
Сборня является у нас в деревне присутственным местом. На ее крыше прикреплена вывеска с выцветшей надписью: «Кульчекское сельское управление». Здесь должен находиться и вершить свои дела староста. На сборню вызывает мужиков по своим делам приезжее начальство. Здесь же созываются сельские сходы.
Сельские сходы бывают у нас довольно часто. На них производят раскладку государственных податей, волостных и сельских сборов, распределяют гоньбовую повинность, выбирают старосту, сотского, десятского, гласных на волостной сход, нанимают писаря, принимают кого-нибудь из приезжих на жительство в деревню, отводят усадебную землю под постройку новых домов, делят покосы, назначают на мостовые и дорожные работы на Минусинском тракте. Начальство приезжает в деревню выколачивать подати – собирают сход, надо гнать народ в тайгу тушить лесные пожары – собирают сход. И так без конца.
Каждому домохозяину в течение года приходится бывать на сходе не один десяток раз. Все привыкли к этому, и каждый имеет на сборне свое привычное место. Богатые мужики проходят обычно вперед и усаживаются на лавку или на единственную скамейку поближе к столу, за которым восседают староста и писарь. Мужики, которые погорланистее, тоже стараются пролезть вперед, поближе к начальству. А другие, наоборот, устраиваются куда-нибудь в сторонку, если даже на длинной лавке, протянувшейся около стены, есть свободные места. Они сидят там с таким видом, как будто хотят сказать: «Куды нам… Мы люди маленькие».
А есть и такие, которые прячутся во время схода в каталажку. Здесь нет ни лавок, ни скамеек. Даже нар нет. Но это мужиков не беспокоит. Они устраиваются на полу и весь вечер ведут между собой разговор, не обращая внимания на то, что происходит на сходе. В каталажку набиваются обычно самые никудышные мужичонки – Никишка Бузунов, Тереха Худяков, братья Ершовы и другие пустобрехи.
А кто пришел на сход позже, те устраиваются уж посредине сборни, кто стоит на ногах, кто пристроится на корточки, а большинство сразу садится на пол. Тут не до удобств.
Каждый мужик, как только он придет на сход и приоделит себя здесь к привычному месту, сразу же вынимает трубку и закуривает. Если на сход пришло десять человек – они дымят в десять трубок и ждут, когда подойдет остальной народ. Если придет двадцать-тридцать человек – то они дымят уж в двадцать-тридцать трубок. А если соберется полный сход – сто двадцать домохозяев, то на сборне дымит уж самое малое сто трубок. Все курят и еще непременно отплевываются.
Пока идет сход, а он почти всегда затягивается за полночь, на сборне стоит табачный дым до потолка. Освещается сборня одной семилинейной лампой. Эта лампа стоит на столе перед старостой и писарем и от духотищи еле теплится. Рамы в окнах сколочены намертво и не открываются. Так что дышать постепенно становится нечем. Даже самые заядлые курильщики не выдерживают этого. Посидят часок-другой, а потом выходят на крылечко немного отдышаться. Выйдут, закурят там свои трубки и отдыхают. А потом идут обратно в сборню на свое место.
Обыкновенно сход кончается за один вечер. Но когда приходится составлять окладные списки на пашню, на домашний скот и распределять потом подушно наложенную на общество подать, тогда сход тянется по нескольку дней.
На сборню мы с Финогеном пришли заблаговременно. Поначалу я опасался того, как примут меня мужики на сходе. Не будут ли смеяться над тем, что я явился к ним вроде как бы сельским писарем. Но в деревне все уже знали, что Иван Адамович сильно хворает и что я состою при нем вроде помощника. Поэтому никто не обратил на мой приход особого внимания, и я спокойно устроился за столом рядом с Финогеном.
При нашем приходе сборня была еще полупуста. Человек двадцать мужиков, которые пришли на сход первыми, вели разговор о том, что с раскладкой из года в год происходит какая-то непонятная ерунда. Целыми неделями каждую осень обсуждаем ее всем сходом, стараемся делать ее по справедливости, начислять на богатых больше, на бедных поменьше, а на деле каждый раз получается почему-то наоборот – богатые всегда остаются в выгоде и платят меньше бедняков.
Этот разговор продолжался до тех пор, пока сборня не заполнилась народом и сход не приступил к проверке пашни и домашнего скота у домохозяев в нынешнем году. Проверку начали по списку, а первым в окладном списке числился у нас Никифор Сивоплес. Он живет на самом выезде. С него начинается и на нем кончается наш Кульчек.
Сивоплес сидел где-то в дальнем углу и на вызов Финогена не подавал голоса. Но Финоген все-таки заставил его в конце концов выйти вперед и рассказать сходу о своем хозяйстве.
Сеял Сивоплес всего только одну четвертуху ржи. В хозяйстве имел одну лошаденку, одну коровенку и одну овцу. Раньше он держал две овцы, а нынче летом в табуне одну задрали волки, и пастух принес ему, как это полагается, уши от его овечки. Уши действительно с его меткой. А потом, еще у него есть свинья и пять куриц.
Тут одни стали жалеть Сивоплеса и ругать овечьего пастуха, что он зарезал у Сивоплеса почти последнюю овцу. А другие, наоборот, начали насмехаться над тем, что он имеет в своем хозяйстве одну-единственную овцу. О свинье и о курах ничего не говорили, так как свиньи и куры у нас в обществе податью не обкладываются. А в общем-то споров и ругани по поводу хозяйства Сивоплеса не было. Утайки у него от обложения по сравнению с нашим списком никакой не было, кроме этой несчастной овцы, которую, судя по всему, зарезал себе овечий пастух.
После Сивоплеса перешли к другим хозяевам и стали каждого спрашивать, сколько он в нынешнем году сеял, сколько у него коней, коров и овец. И тут сразу началась ругань, шум, споры и раздоры.
Каждый хозяин хорошо понимал, для чего делается этот опрос, и рад был бы заявить, что он вообще ничего не сеет и не жнет, а из скотишка держит одну только лошаденку да коровенку. Но как это заявишь, когда и в прошлом, и в позапрошлом году он имел полное хозяйство. И каждый год писарь со старостой при всем сходе записывали его пашню, и лошадей, и коров в свой список и по этому списку насчитывали ему подать. А потом, ведь рядом с ним сидят на сходе соседи, которые знают его пашню, все его хозяйство. И если он загнет тут что-нибудь несуразное насчет нынешнего года, то они сразу же его поправят, а то и на смех поднимут. Вот каждому и приходится утаивать свою пашню и свой скот с оглядкой на соседей да еще на старые податные списки. Если же кто тем не менее начнет упорствовать и убавлять слишком много, то тут все начинают его прижимать. Дескать, ты, кум Никанор али сват Савватей, имей перед обществом совесть. Пашешь ты десятин шесть-семь, не меньше, так уж десятники две-то покажи. Ну и коровенок прибавь. Так и урезонивают каждого, чтобы он утаивал и посев, и скотину по-божески. Но бывает, конечно, и так, что попадается мужик с характером. Ну, такому хоть кол на голове теши, а он все свое. С таким дело доходит до шума, до крика. В спор ввязывается чуть не весь сход. В одном углу кричат одно, в другом – другое. Все говорят скопом, ругаются и внапоследок этому хозяину все-таки что-то набавляют.
В свою очередь домохозяин, которого заставили добавить и пашню, и скотишка, сидит на сходе уж начеку. И когда дело доходит с кем-нибудь до такого же спора, как с ним, он тоже начинает того совестить и увещать добавить и посев, и поголовье. В общем, как ни крутись, как ни виляй, а все равно надо что-то добавлять.
Сложнее дело обстояло с богачами. Они пашут и скота держат помногу. Когда речь заходит о большой у них утайке, они начинают кричать о том, что их собираются разорить с этой надбавкой, что они горбом нажили свое хозяйство, покалечились на работе, лишились здоровья, а теперь лентяи и лодыри собираются за их счет уравниваться в податях. «Распелись: добавьте пашни, добавьте лошадей, коров, – кричал Кузьма Тимин, – потому что вы лучше нас живете, а мы добавлять не будем, потому что меньше вас пашем, меньше скота держим!.. А кто вам мешает больше сеять, больше косить, больше скота разводить? Кто мешает? Лень матушка мешает. Вот кто!..»
Но как ни кричали, как ни изворачивались богатые, сход в своем большинстве был на стороне тех, кто требовал от них прибавки и посева, и скота. Уж больно велика была у них утайка. В самом деле, Точилковы, как и в прошлом году, объявили четыре десятины посева, три лошади, три коровы и пять овец. А пашут они двадцать десятин, в упряжке у них восемь лошадей, доят по меньшей мере десять коров, и зимует у них до тридцати овец. А у Меркульевых и того больше. Ну и утайка при таком хозяйстве получается огромная. Если, к примеру, Ехрем Кожуховский от своих трех десятин показывает только одну, а Федот Меркульев от своих двадцати пяти десятин пишет четыре, то каждому ясно, что Меркульев утаивает в десять раз больше, чем Ехрем Кожуховский. Ну а со скотом у Меркульева счет получается еще более выгодный. Летом у него пасется в поскотине целый табун лошадей. И доит он больше десятка коров. А в списке показывает три лошаденки да три коровенки.
На этот раз Финоген попробовал прижать Меркульева. Но тот тоже не дурак и заявил, что он добавляет не меньше других. «Я, – говорит, – при одном бойце пахал в прошлом году четыре десятины и имел трех коней, три коровенки и пять овец. Теперь ты хочешь, чтобы я добавил еще четыре десятины, трех коней, трех коров и пять овец. Что ж, я согласен. Давайте добавлять вдвое. Но только всем обществом. Если все согласятся сделать себе двойную добавку, я против общества не пойду. Ну, как, мужики, вдвое будем набавлять али как?.. Решайте!»
Тут на сходе поднялся шум и гвалт пуще прежнего. Спорили, шумели, ругались и, наконец, сообразили, что если все вдвое увеличат свой посев и поголовье скота, то обществу наверняка вдвое увеличат казенную подать по окладному листу. Тогда всем сразу стало ясно, что лучше будет Федота с этим делом особенно не задирать. И так хорошо, что человек прибавил десятину пашни, одну коровенку и трех овец. А то в самом деле еще могут удвоить подать.
Пашенные земли у нас в обществе по дворам пока еще не делят. Земли пока хватает на всех. Кто где когда занял землю, тот там и пашет. Это считается уж его пашней. И под посевом, и под паром, и даже в залежи. Зато покосы делят каждый год и в списки пишут их по бойцам. Каждый домохозяин до шестидесяти лет получает полный покосный пай. А кому перевалило за шестьдесят, получает только половинный пай. Паи эти, конечно, никто не мерил. Определяются они не по площади, а по количеству накашиваемого сена и в зависимости от близости к деревне. Покос копен на сто, если он близко от деревни, идет за полный пай. А многие соглашаются взять такой покос за полтора и даже за два пая. А такой же покос где-нибудь у черта на куличках, в Ушманихе или, как у нас, на вершине Каменного, идет за половину пая.
В других деревнях, где земли меньше, там покосные паи пересматривают каждый год. Каждое общество устанавливает свой порядок их переделов, в зависимости от качества земли, отдаленности от деревни и от других местных условий.
У нас покосы делятся тоже каждый год. Делят их обычно в конце июня перед петровым днем. Но каждый год получается как-то так, что кто где косил, тот там и косит. Свободных покосных угодий пока еще много. И не было еще ни одного случая, чтобы у кого-нибудь отобрали старый покос и передали его какому-нибудь приезжему на жительство расейскому переселенцу. Так что весь передел сводится обычно к тому, что за людьми закрепляют покосы, которые они уже косят, и покосы, которые раньше ни за кем не учитывались.
В общем, вопрос этот не вызывал на сходе особых споров и раздоров. Тут проверялись, по сути дела, не покосные наделы, а количество бойцов у каждого домохозяина. Это действительно надо было проверить и точно установить, так как в течение года в обществе произошли некоторые перемены. У одного сыну перевалило за двадцать лет, и он, значит, вышел в бойцы. У другого выделился старший сын и сам стал полным хозяином. Там кто-то взял в дом зятя, кто-то умер, кто-то ушел в солдаты, а кто-то приехал на жительство.
Плохо ли, хорошо ли, но мы с Финогеном действительно заново пересмотрели на сходе наш список. И потратили на это четыре дня. Четыре дня мужики спорили и ругались до хрипоты, до зубовного скрежета насчет того, кому сколько добавить пашни, покосов, домашнего скота. Четыре дня я сидел около Финогена и записывал с его слов все данные на каждого домохозяина для обложения его податями. Как мне ни трудно было держаться эти четыре дня на сходе, но я старался выдюжить, чтобы не подвести Ивана Адамовича и Финогена.
Иван Адамович был, конечно, в курсе наших дел и очень повеселел, когда мы на пятый день принесли ему последние данные для наших окладных списков. Теперь оставалось только переписать их как следует, чтобы отвезти в волость. Сам он писать окладную ведомость все еще не мог и усадил за это дело меня. И все время наблюдал за мной.
Так из ученика и помощника Ивана Адамовича я на несколько дней сам сделался главным кульчекским писарем. А Иван Адамович стал вроде как бы моим помощником.
Наконец мы с грехом пополам закончили ведомость, и Финоген сразу же поехал в Кому сдавать ее волостному начальству. На этот раз он поехал в Кому один, без Ивана Адамовича, и сильно волновался. Вдруг что-нибудь неладно в этих списках, начнут спрашивать да дознавать, что к чему. А что он им ответит, неграмотный-то?..
Через два дня он приехал из Комы, зашел вечером к нам и стал рассказывать тятеньке, как он в волости утер нос всем старостам:
– Приезжаю это я туда, а там вся канцелярия уж забита народом. Шутка сказать – со всей волости съехались старосты с писарями. Сидят и все что-то мухлюют со своими списками. «Что это? – спрашиваю я безкишенского старосту. – Неладно что-нибудь?» А тот только махнул рукой: «Третий день, – говорит, – уж сидим тут. И так напишешь – неладно, и этак – нехорошо. Как ни поверни – все невпопад. Да вот сам увидишь».
А старший помощник уж подзывает меня, берет наш список и начинает его читать. Читает и все что-то прикидывает на счетах. А внапоследок, не говоря ни слова, понес наш список самому волостному писарю… Ну, думаю, хана! Засыпались! Что я буду делать здесь без Ивана Адамовича. Вдруг слышу – кличут меня к самому. Захожу к нему. Приготовился уж, что он начнет вздрючивать меня. А он вместо того поздоровался со мною за ручку и стал благодарить за наши списки. Тут я набрался смелости и начал рассказывать ему, что сам Иван Адамович покалечился у нас еще во время страды и все время лежит в постели. Так что списки эти, говорю, писал ему один наш кульчекский мальчонко. «Что ж, – говорит, – что мальчонко. – Потом подумал и сказал: – Не худо бы нам заиметь у себя такого мальчонку. Работенки у нас для него хватит». Я слушаю его и думаю: в самом деле, пусть возьмут парнишку в подписаренки. Может, он дойдет у них здесь до дела. Пока я думал это да соображал, как к нему с этим делом подступиться, он перевел разговор на подати. «А как, – говорит, – у вас дела с недоимкой? Страда кончилась, с работой все поуправились. Теперь пора, – говорит, – жать на мужиков. Волостные сборы мы у вас с грехом пополам вытрясли, а по казенным податям большой недобор. Учтите, – говорит, – что эти подати с вас будет выбивать теперь сам становой. Это вам не старшина, не заседатель. Он с вами цацкаться не будет».
Тут я хотел было сказать ему, что недоимки за нами не так уж много. Куды там… И слова не дает вставить. Кончил насчет старых податей, завел разговор о новых. И говорит, собака, вот ведь что она, наука-то, делает, как по писаному. Не запнется, не заикнется. «Скоро, – говорит, – мы вручим вам окладные листы на казенные подати и на волостные сборы, так вы, – говорит, – сразу же проведите по ним раскладку. И чтобы никакой задержки. Это, – говорит, – государственное дело!»
Не успел он закончить разговор насчет новой раскладки, как откуда ни возьмись старшина. И туда же, понимаешь, завел песню насчет податей. «Ты, – говорит, – Головаченков, с мужиками не умеешь обходиться. Уговариваешь их, урезониваешь. А их, – говорит, – гнуть надо в дугу, в кутузку сажать. С уговорами, – говорит, – ты в этом деле далеко не уедешь. Мы, – говорит, – на тебя крестьянскому начальнику напишем, чтобы он на протирку тебя в Новоселову вытребовал».
Ну, после этого, сам понимаешь, у меня в голове все стало навыверт. Ах ты, думаю, сукин сын… Ведь сам мужик, а туды же, на мужика гавкаешь… Я и без того с этими податями со всеми в деревне перецапался, а ему, шкуре, все мало. И так мне обидно на все это стало. Стою, понимаешь, как в тумане и сказать ничего не могу. Только уж по дороге домой немного очухался и думаю: что же это я насчет нашего парня-то не выспросил? В общем, не допетрил я с этим делом. Упустил подходящий момент… А теперича уж не до того. И недоимка эта, и волостной сход на носу, потом новая раскладка. Конца-краю этому не видно. Да и в волости у них сейчас тоже запарка. А с таким делом надо выбирать подходящий момент… Иначе всю обедню испортишь.
Финогену в самом деле было теперь уж не до меня. Он чуть не каждый день требовал недоимщиков на сборню и выжимал у них подати. А потом отправился с нашими гласниками на волостной сход. Гласников выбирали на сборне по одному от десяти дворов. Да их, собственно, и не выбирали, а послали прошлогодних. Дела на волостном сходе решаются, как и у нас на сборне, криком. Кто сильнее всех орет, тот и верх берет. Поэтому гласниками выбирают самых горластых, самых голосистых.
Через неделю наши гласники приехали из Комы домой. Волостной сход кончился, и им в волости делать было нечего. А старост и писарей задержали для получения окладных листов на казенную подать и на волостной сбор. В казенную подать входила государственная оброчная подать и какой-то губернский земский сбор. Так что Финогену и Ивану Адамовичу пришлось еще проваландаться там два дня. Зато они приехали домой с окладными листами и знали, сколько им придется раскладывать на общество волостных и казенных податей. Теперь оставалось еще подсчитать все сельские расходы на будущий год, чтобы предоставить все это на усмотрение сельскому сходу.
Сельский сбор идет у нас на жалованье Ивану Адамовичу, на оплату гоньбовой повинности, на страхование школы и сборни, на бланки и книги и на другие мелкие расходы. Главную статью сельского сбора составляет жалованье писарю. Но когда при составлении перечня сельских расходов на будущий год Финоген с Иваном Адамовичем дошли до этого пункта, Иван Адамович заявил, что он за старое жалованье – двадцать рублей в месяц – служить писарем в Кульчеке больше не желает и просит себе прибавки – пять рублей на месяц. А если общество не согласится на эту прибавку, то он поедет писарить к себе в Караскыр. Получать он там будет меньше, зато жить будет при своей семье, при своем хозяйстве.
Финоген сразу согласился на эту прибавку, а то, чего доброго, Иван Адамович в самом деле уедет к себе в Караскыр. Кульчек без писаря, конечно, не останется. Найдут кого-нибудь, вернее всего, из тех же расейских переселенцев, но что это будет за писарь… Вряд ли найдут такого, как Иван Адамович. И потом – когда найдут? До этого можно несколько раз угадать в Новоселову на отсидку, особенно с этими раскладками. Без писаря неграмотному старосте, пусть хоть у него семь пядей во лбу, все равно труба.
А потом, Финоген и сам решил просить себе у общества жалованье. Когда выбирали его, то обещали помогать ему. И в сенокос, и в страду. Лето прошло, хоть бы один человек заикнулся на сходе об этом. Разоренье, а не служба. Не дадут по пять рублей в месяц, решил Финоген, откажусь. Пусть сразу в тюрьму отправляют. Лучше на казенных харчах сидеть, чем цапаться со всеми.
Когда Иван Адамович учел прибавку себе и жалованье Финогену, сельских расходов получилось шестьсот шестьдесят восемь рублей тридцать шесть копеек. Если сход утвердит все намеченные расходы, то эту сумму придется раскладывать на отдельных домохозяев вместе с волостным сбором и казенными податями.
Теперь все было ясно. Так что можно было посылать Никиту Папушина гнать мужиков на сборню для раскладки этих податей.
А в деревне знали уж о том, что волостной сход в Коме закончился, что Финоген и Иван Адамович приехали домой и теперь со дня на день должен состояться сельский сход с раскладкой податей.
В общем, раскладку ждали. Ждали и говорили о том, что она всегда делается с большой выгодой для богатых и зажиточных.
На это больше других плакались многосемейные, в хозяйстве которых числилось по нескольку бойцов. Предстоящая раскладка очень их волновала, так как ничего не обещала им, кроме новой податной кабалы.
Богатые тоже ждали раскладку. И тоже волновались и беспокоились. Им не нравилось решение волостного начальства не вмешиваться в раскладочные споры и раздоры по деревням, пускать это дело на полное усмотрение сельских сходов. Им не нравились успокоительные наказы волостных начальников на волостном сходе о том, что раскладку надо делать по справедливости, по силе возможности, на богатых побольше, на бедных поменьше и все такое. Они опасались, как бы с такой раскладкой не произошло на сходе какой-нибудь заварухи. Если насчет пашни и домашнего скота спорили и ругались несколько дней, то с раскладкой податей дело, чего доброго, может дойти до прямой потасовки. Тут беды не оберешься.
На этот раз Никите Папушину не составило особого труда собрать полный сход. Финоген и Иван Адамович решили произвести раскладку прежде всего «мирских сборов» – волостной и сельской подати.
Раскладку начали с волостной подати. Ее по окладному листу волостного правления на кульчекское общество было начислено шестьсот двадцать четыре рубля тридцать девять копеек из расчета по четыре рубля тридцать копеек на бойца, с учетом тех поселенцев, которые имеют в деревне полное домохозяйство и наравне со старожилами пользуются пашенными и покосными угодиями.
В общем, это была раскладка по бойцам, а не по пашне, не по домашнему скоту. И сделана она была в волости. За это сразу же ухватились богатые и справные мужики и стали всячески оправдывать эту раскладку. В волости знают, что надо делать. В прошлые годы волостная раскладка делалась тоже по бойцам. Видать, закон на это такой. Так что как ни крутись, а раскладку эту придется принимать в таком виде и распределять ее потом на домохозяев по бойцам.








