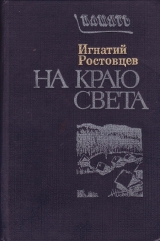
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 50 страниц)
Дядя Яков мне очень понравился своей приветливостью. С отцом у него сразу завелся живой разговор, конечно, об урожае, о сенокосе, о том, какова предвидится осень, какой будет умолот и все такое.
Бабушка тоже села с нами чаевать, но о сенокосе и об урожае с отцом не говорила, а все плакалась ему на свое здоровье. Ночью ее душит кашель, в ногах судороги и ломота, а днем с самого утра какое-то головокружение. Все плывет как в тумане. И поясница болит. Мочи нет. Приходится все время прогреваться на печке.
От этих жалоб и разговоров о своем здоровье у бабушки началось какое-то колотье в боку и что-то стало подкатываться под ложечку. И она, не допив свою чашку с чаем, полезла на печку прогреваться. А дядя Яков пошел спустить нашего Гнедка и подбросить сена своим конишкам.
После их ухода у нас за столом сразу стало как-то свободнее. Тетка Татьяна прямо сияла, что меня привезли к ним на всю зиму. Она расспрашивала нас о маме, о Чуне, о Кононе. Потом стала упрашивать отца непременно заезжать теперь к ним, так как старики, слава богу, болеют и жить стало немного вольготнее. «Сам-то, видите, все время лежит на печке. А она все еще хорохорится. Но прежнего пару-то уж не стало. Повыдохлась. Поерепенится с утра немного да и на бок. Это сегодня она что-то разошлась. Видать, с вашим приездом. Ну, завтра, значит, будет лежать весь день».
Теперь я на весь год остался у Малаховых. Но жить мне у них первое время оказалось трудно. Тетка Татьяна всю осень была на заимке и препоручила меня дяде Якову. А тот каждый день с утра до поздней ночи был занят по домашности. Так что я оставался на весь день со стариками.
Дядя Яков наказал, конечно, бабушке кормить меня утром перед уходом в школу и днем после возвращения с занятий и ни в коем случае не гонять куда-нибудь по хозяйству. И бабушка кормила меня и утром, и днем, и вечером. Но все равно жить мне с ними без тетки Татьяны не нравилось.
При возвращении из школы я находил за столом дедушку. Перед ним по всему столу были разложены спички. В одном месте маленькой поленницей лежали спички наколотые, на другом – спички, которые следовало еще колоть. Потом отдельно лежали спички, сломавшиеся при колотье, и отдельно спички, с которых облупилась горючая сера. Даже пустой коробок от спичек занимал на столе особое место. Дедушко очень осторожно колол острым ножом каждую спичку надвое, и весь вид его говорил о том, что он находится в собственном доме, сидит за собственным столом и занят важным делом по домашности. И никто в этом деле ему не указ.
Потом он пересчитывал наколотые спички и осторожно укладывал их в коробок. И все время сердился на то, что кругом пошло одно мошенство. Раньше в коробке бывало до семидесяти спичек, а то и больше, а теперь от силы пятьдесят. И спички пошли какие-то ломкие, и горючая сера на них очень плохая.
Тем временем бабушка водружала ему на стол еду. Теперь дедушко начинал пилить ее за то, что щи оказались пересоленными, каша недоваренной, сметана прогорклой, а в чайнике не чай, а какое-то пойло. Но все-таки за едой он немного успокаивался и начинал расспрашивать бабушку, куда сегодня уехал Яков по хозяйству и как у него обстоят дела с домашностью. Узнав, что крыша на гумне все еще не перекрыта, а каменка в риге не переложена, он начинал сильно ругаться и сокрушаться о том, что в доме нет настоящего распорядка и что ему теперь на старости лет легче в гроб ложиться, чем смотреть на то, как все им нажитое идет прахом.
После занятий в школе мне тоже хотелось есть, но я боялся садиться с дедушкой за стол. Да и бабушка кормила его всегда наособицу и меня к нему за стол не приглашала. А выходить из-за стола он не торопился.
Конечно, я мог бы все это время что-нибудь читать по своим учебникам или уйти к Миньке Обеднину, который квартировал у своей замужней сестры по соседству от нас. Но я не смел сесть за книгу и уйти к Миньке, так как понимал, что это не понравится и дедушке, и бабушке.
Наконец дедушко выходил из-за стола, очень долго молился перед образами и отправлялся на свою печку. Теперь бабушка наливала мне чашку щей, совала на стол сковороду с блинами и уходила в куть. А после того как я поем, она со стола ничего не убирала, а, наоборот, все расставляла к приезду дяди Якова. Так что стол оказывался опять занятым, и мне ничего не оставалось, как устраиваться со своими книгами и тетрадями к окошку. Конечно, читать и решать задачи можно было и у окна, но писать домашние задания тут было очень трудно.
Но бабушка не обращала на это внимания. Наоборот, ей очень нравилось, что я не лезу со своими книгами за стол и знаю в чужом доме свое место.
Спать вечером дедушко и бабушка ложились очень рано. Лампу из экономии керосина не зажигали. Вместе с ними и мне приходилось укладываться на полати и доделывать свои уроки уж утром, перед уходом в школу. Так продолжалось до тех пор, пока не вывалил большой снег и тетка Татьяна не приехала с заимки. Она сразу же решила все по-своему и усадила меня заниматься за столом.
Тут бабушка завела было разговор о том, что негоже сажать парня за стол с книгами да с тетрадями. Не для того стол поставлен в переднем углу под самыми образами, чтобы на нем писать какие-то уроки. Зайдет кто из добрых людей или из родни кто приедет – посадить некуда будет. А уроки эти и у окошка можно делать. У окошка-то даже светлее.
Но тетка Татьяна твердо заявила бабушке, что с этих пор я буду заниматься непременно за столом. «А что касается добрых людей, – сказала она, – то за десять лет, которые я прожила у вас, я не видела в вашем доме ни одного доброго человека. Живем как байбаки, какими-то отлюдками. Из соседей никого калачом не заманишь, и родню всю отвадили».
Тут как раз приехал откуда-то с работы дядя Яков. Узнав, о чем ведется речь, он даже расстроился, что из-за своих забот по домашности не пристроил меня в доме как следует.
– Придешь из школы, – сказал он мне, – поешь, а потом располагайся за столом, читай и пиши, что надо. А темнеть начнет – сам зажигай лампу и спокойно занимайся, пока не ляжем спать. Что касается папани, то он может на полстоле управиться. Не велико дело спички колоть. Стол большой – места хватит. Самовар только после чая надо относить в куть.
Услышав такое, бабушка просто ахнула. Она и подумать не могла о том, что я буду один целый вечер сидеть за столом с семилинейной лампой. Тут и керосину не напасешься…
– Ты, маманя, мне не перечь… – рассердился дядя Яков на бабушку. – Слава богу, что в доме появился живой человек. Все-таки немного стало веселее. И насчет керосину не беспокойся. Керосин у нас есть. Еще с прошлого года бутыль стоит на тридцать фунтов неначатая.
Дальше бабушке спорить с дядей Яковом было уж не о чем, и она сердито замолчала. А потом, глядя на то, как я устраиваюсь за столом заниматься, да еще с семилинейной лампой, совсем расстроилась, перевязала голову платком с уксусом и легла на кровать под шубу.
С приездом тетки Татьяны с заимки мне стало жить у Малаховых совсем хорошо. Первое время я побаивался дедушки. Все думал, что он начнет прогонять меня из-за стола или еще что-нибудь. Но ему становилось все хуже и хуже. Наконец он совсем скопытился и перестал слезать с печки даже до ветра. А дядя Яков с утра до поздней ночи был занят по хозяйству. Так что я мог теперь спокойно заниматься за столом.
Помогать по домашности Малаховым меня не принуждали. Редко когда попросят подбросить сена конишкам или принести дров со двора. Потом раза три за зиму я помогал им веять намолоченный на гумне хлеб. Но это разве работа. Крутить рукоятку веялки совсем не тяжело. Крутишь и наблюдаешь, как барабан равномерно качается в ней из стороны в сторону, как отвеянное зерно ссыпается по желобку на одну сторону, охвостье на другую, а мякина далеко за веялкой падает на землю. Но главное, мне было интересно слушать дядю Якова. Он любил за этой работой поговорить. Подает лопатой хлеб из вороха в веялку, а сам все что-нибудь рассказывает. Не про охоту и не про рыбалку, как у нас в Кульчеке. Дядя Яков, как и все комские мужики, не занимался ни охотой, ни рыболовством, а сидел в праздничные дни дома и что-нибудь шуровал по хозяйству или проводил время со своими соседями. Вот про соседей он мне больше и рассказывал, кто они, как живут и чем известны добрым людям.
Нефед Шабалин, мимо дома которого я каждый день ходил в школу, оказывается, славится на всю Кому обжорством. За обедом на поденщине у комского мужика Ерлыкова он на спор один выхлебал за обедом большой котелок щей и съел целую ковригу хлеба. А потом свалился под телегу. Не может ни охнуть, ни вздохнуть. Тут все решили, что на этот раз Шабалину не миновать беды и он, чего доброго, может окочуриться. Сам Ерлыков здорово перепугался. Случись что, еще отвечать придется. И тут кто-то надоумил посадить Шабалина на телегу и возить его на болоте по кочкам. Шабалину это было, конечно, невтерпеж. Его свело в три погибели. Он охал, плакал, упрашивал Ерлыкова оставить его в покое, а то он от этой тряски по кочкам может отдать душу богу. Но Ерлыков только подстегивал коня, пока не вытряс из Нефеда все съеденное. А при расчете за работу Шабалин потребовал от Ерлыкова полную поденную плату – пятьдесят копеек. И сам полдня не работал, и хозяина оторвал от работы, и перепугал всех с этим делом, а деньги требует сполна. И на Ерлыкова же под конец взбеленился. У тебя, говорит, хлеб был непропеченный. Я, говорит, в волостной суд могу на тебя пожаловаться за такое дело. Вот какие люди бывают.
А у Кузьмы Варсанофьевича, который живет со своей старухой напротив Малаховых, оказывается, есть дочь. Сейчас она живет в Глядене, а в молодые годы, вроде нашей тетки Парасковьи, убежала из дому с одним цыганом. Но только тот цыган был не приезжий, а свой – комский и жил у них в работниках. И тоже был красавец, и песельник, и на гармошке хорошо играл. Звали его Федей, по прозвищу Барабаш. И вот этот Федя увел Онисью в свой табор. И Кузьме Варсанофьевичу скрепя сердце пришлось соглашаться на их венчание. Но в дом к себе он их не пустил. После этого Онисья стала жить со своим Федей в таборе и сама сделалась цыганкой. Она научилась петь и плясать по-цыгански и вместе с другими цыганками ходила по Коме и просила милостыню. А потом этот Федя Барабаш отчего-то умер, и Онисья вернулась к своим старикам с маленьким цыганеночком. Они не прочь были взять себе в дом нового зятя, но Онисья жить с ними теперь не захотела. Всё винила их за смерть своего Феденьки. Пожила у них недолго и ушла замуж в Гляден за одного вдовца. Хороший мужик оказался. Живут не богато, но в достатке. И, главное, в полном согласии.
О ком бы из соседей речь ни заводил дядя Яков, разговор как-то сам собой переходил у него на Ондреяна Кириллова, с которым они жили рядом. Ондреян славился на всю Кому необыкновенной ленью. И сам не любил работать, и семья у него была такая же, на его образец.
– Вчера встречаю в переулке его Митьку, – рассказывал дядя Яков. – Поехал на своем Игреньке в Симистюль за дровами. Хомут без шлеи, гужи веревочные, перетяга с узлами. Все кое-как, на живую нитку. Сани, того и гляди, на ходу рассыплются. Смотреть тошно. Веревка на санях не замотана, волочится по снегу. «Подвяжи, – говорю, – веревку-то, обалдуй ты этакий!» А ему хоть бы что. Уставился на меня своими глазищами да и гогочет: «Чего, – говорит, – ее подвязывать. Приеду к дровам – все равно придется ее там развязывать». Так и поехал дальше. Да еще песню запел, сукин сын. А приедет домой с дровами, уму непостижимо, что делает. Поставит своего Игренька в санях с крежником у самого крыльца и уйдет в избу отогреваться. Уйдет и забудет и про дрова, и про своего Игреньку… А Игренька ждет у крыльца, когда хозяева его выпрягут. Ждет, ждет, а потом сам начинает распрягаться. Мотает головой, пятится да корежится в оглоблях и, глядишь, вытащит как-то голову из хомута. В общем, сам выпряжется да и уйдет в стаю. Только вожжи за ним волочатся.
Тем временем Митрей отогреется, напьется чаю и выходит выпрягать своего Игреньку. А Игренька давно уж в стае. А хомут и дуга валяются в снегу прямо в оглоблях. Так что бы ты думал? Вожжи у коня он, конечно, отвяжет, седелко с него снимет, а хомут и дугу, подлец, с земли не подберет. Вот какой лодырь.
И девки, понимаешь, у него такие же. Семь дочерей наплодил. Одна другой крепче да здоровее. А только жрать да песни петь. Песельницы оне дивствительно хорошие. Ничего не окажешь. Других таких в Коме, пожалуй, не найдется. А по домашности – не везут, не тянут.
Потом дядя Яков начинал рассказ про самого Ондреяна, или, как его в Коме зовут, Ряна Кириллова. Если Митька у него не подберет хомут с Игренька, не подвяжет на санях веревку, не поднимет с земли брошенную дугу, то и сам Ондреян этого тоже ни в жисть не сделает. Будет перешагивать и через хомут, и через дугу, а не нагнется, не подберет.
И то ведь удивительно, что на работу он и проворен, и сноровист. Жать насупротив него в Коме, пожалуй, никому не устоять. Любит по помочам ходить к богатым мужикам, так как на помочах, известно, хорошее угощение. Но всегда просит хозяина отвести ему для жнитья особую делянку. Выжнет ее раньше всех, серп на плечо и до дому. А вечером является к хозяину на гулянку. Старательному бы мужику да такая ловкость и проворство. Да он горы своротил бы. И хозяйство у него было бы в порядке, и от людей, значит, почет и уваженье. А Ряну хоть трын-трава. Ему наплевать на все свое хозяйство. Гори оно ясным огнем – он и не почешется.
Теперь придумал легкую ваканцию – служить сотским. Выберут обществом какого-нибудь справного мужика на эту службу – ему на такой службе, конечно, труба. Сиди весь день с утра до ночи на сборне около писаря и старосты. А хозяйство горит. Вся домашность идет прахом. Вот он и нанимает за себя нашего Ряна на эту общественную службу. И платит ему за это шестьдесят рублей в год, как настоящему работнику. Обчество не возражает, староста не против, а Ондреяну – хлеб. За такие деньги богатый хозяин дерет с работника три шкуры, гоняет его целый год день и ночь как каторжного. А Рян нацепит себе на грудь медную бляху – и не подступись. Начальство! Сидит себе весь день на сборне около писаря или ходит по селу с важным видом. Все знают – несусветный лодырь, а так сумел себя поставить, что почет ему от всех и уважение…
Глава 13 ОХОТНИКИ
Как ученик я, видимо, чем-то нравился своим комским наставникам, и они отмечали меня своим вниманием. У меня был чистый, звонкий голос, и я с упоением пел в церковном хоре. Уже к концу первого года мне стали доверять чтение на клиросе часов и шестопсалмия. В следующем году я был возведен отцом Петром на роль алтарного служки. В красивом стихаре я чинно прислуживал во время всенощной и обедни. Меня считали прилежным учеником и богобоязненным мальчиком.
К концу учебного года, когда мне вскоре надо было насовсем уезжать домой, отец дьякон стал выспрашивать меня, сможет ли мой отец отправить меня учиться в Минусинск в учительскую семинарию или в городское училище или, на худой конец, в Зеледеево под Красноярском, где, говорят, открывается какое-то ремесленное училище.
Когда же он узнал, что мой отец не может отправить меня по бедности ни в семинарию, ни в городское, ни в ремесленное училище, он утратил к моей дальнейшей судьбе всякий интерес и уж больше не заводил со мной разговор об этом. Так что после окончания комской школы мне сразу же пришлось возвращаться домой в Кульчек и по-настоящему впрягаться в нашу крестьянскую работу.
Лето после выпускных экзаменов я, как всегда, работал дома. Всю петровку мы с Кононом провели на пашне. Он орал, а я корчевал на старой залежи березовую подсочку. А по субботам к вечеру мы уезжали в Убей на рыбалку, и в воскресенье возвращались домой, чаще всего с хорошим уловом.
А потом начался сенокос и страда. Ну, тут уж знай повертывайся. С понедельника до самой субботы, от зари до зари, и в ходу, и в поту, и ждешь какого-нибудь захудалого праздника, чтобы немного передохнуть и отоспаться. Но почему-то летом, как назло, праздников совсем мало. Только во время страды два больших праздника – преображение господне и успение пресвятой богородицы. Но в эти праздники вся деревня бросается вперегонки в тайгу за ягодами. Глядя на других, мы тоже всей семьей отправлялись в тайгу. Хорошо было только то, что тятенька знал заветные, ему одному известные, ягодные места.
Во время страды и сенокоса я как-то не думал о том, что мне надо учиться дальше. Да и когда было думать об этом, когда спина гудела от усталости, когда руки одеревенели от натуги, когда пот каждый день заливал тело и застилал глаза. Но с наступлением осени, когда немного полегчало с работой, я впервые остро почувствовал свою неустроенность. Мои сверстники по школе поехали учиться в разные места. Исаак Шевелев куда-то в Красноярск, Васька Чернов в Минусинск в учительскую семинарию. А Мишка Обеднин пошел приказчиком к новоселовскому купцу Бобину торговать керосином и гвоздями. Мне тоже можно было попробовать поступить в приказчики к какому-нибудь купцу. Но отец понимал, что ничему путному я у них не научусь. А потом, он, видимо, сомневался, сумею ли я на такой должности угодить хозяину.
Сразу же после страды мы огораживали стога сена на наших покосах и скирды хлеба на пашне, потом молотили просо и коноплю, потом возили домой лен и посконь и сушили их в бане, а мама с Чуней мяли их на мялках, потом много раз ездили в Сингичжуль рубить крежник на дрова, потом перекрывали крышу на коровьей стае, ставили новые ворота на гумне… Да все и не перечтешь. По сравнению со страдой и сенокосом это, конечно, не работа. Но все равно каждый день во что-нибудь приходилось впрягаться.
Мои родные понимали, что я учился, учился, но так ни на кого и не выучился. Может быть, они жалели, что напрасно учили меня в Коме, а скорее всего, стыдились за нашу бедность, за то, что не могут учить меня дальше. Разговоров об этом при мне не велось, но я видел, что они тоже переживают. Особенно мама и Чуня: они ведь больше всех заботились обо мне, когда я ходил в школу в Кульчеке, больше всех радовались моим успехам в Коме. Мама начала даже в церковь ходить – слушать, как я пою и читаю на клиросе, и прямо возгордилась, когда увидела меня в красивом нарядном стихаре, прислуживающем в алтаре во время службы. И после всего этого она должна выслушивать теперь сожаления своих соседок о том, что я учился, учился, но так ни на кого и не выучился. И до дела не дошел, и к тяжелой мужицкой работе не приучен.
Чтобы не слушать все эти разговоры, она на всю осень увезла меня на заимку.
С наступлением осени – первого сентября – наши деревенские пастухи кончают свою работу. С этого времени до большого снега хозяевам приходится самим пасти животину. Пасут общими табунами, по очереди. А многие угоняют на заимки. У нас заимка на устье Сухого Казлыка общая с Гарасимовыми. Место очень хорошее, открытое. Рядом удобные для выгона горы с редкими перелесками. Кроме нашей избушки, в Сухом Казлыке есть еще несколько заимок. В общем, образовался небольшой выселок, в котором весной и осенью живет много народа.
Жить на заимке с мамой мне было неплохо. От Гарасимовых там хозяйничала моя двоюродная сестра Варвара. Очень веселая и ласковая. Работой меня особенно не утруждали. Только напоминали не забывать наколоть и принести в избушку дров, сбегать в родничок за водой, вечером встретить скотину с поля, подбросить овцам сена, напоить телят; вовремя накормить собак и все такое.
Когда приходила наша очередь пасти, на заимку приезжал брат, и мы вместе с ним выгоняли табун в горы и стерегли его там до вечера.
Пасти осенью сильно плохо. Все время дует холодный ветер с дождем и даже со снегом. Притулиться негде. Но все равно приходится следить за табуном, чтобы волки не подрезали скотину.
А потом брат уезжал домой в деревню, и я оставался на заимке вроде как бы за старшого. Я понимал, конечно, что никакой я пока еще не старшой и старшим меня мама и Варвара называют просто в шутку да еще потому, что мне доверена была здесь берданка, чтобы охранять нашу заимку от волков.
Это зверье причиняет здесь много хлопот. С вечера еще ничего. Во всех избушках светятся огни. Слышится шум, гам, лай собак. Хозяйки, после того как подоят коров и управятся с делами, собираются к кому-нибудь на посиделки. Прядут весь вечер, ведут веселые разговоры, поют песни. Волки все это чуют и никого не беспокоят. А как только придет время спать, во всех избушках погаснут огни, тут они и начинают выть. Сначала жалобно, в одиночку. Потом в несколько голосов. А потом целой оравой. И все злее, все сердитее. И, главное, все ближе и ближе.
А наши собаки стараются их, конечно, отпугивать. Чем ближе подступают волки, тем сильнее на них лают наши собаки. Того и гляди, между ними начнется потасовка. И тут кто-нибудь из приехавших на ночевку мужиков берет ружьишко, выходит из своей избушки и палит. И волки сразу умолкают. Потому что сильно боятся ружья. А через некоторое время, глядишь, опять начинают подвывать. Сначала по одному, потом в два-три голоса и, наконец, опять всей стаей. И все ближе и ближе. Собаки снова начинают изводиться. И опять кому-то приходится выходить и стрелять в них. И так всю ночь…
Когда на заимке бывают отец или брат, стрелять волков выходят, конечно, они. А когда с мамой оставался я, стрелять приходилось уж мне.
С вечера я спокойно ложился спать. А ночью, когда они начинали выть совсем близко, мама будила меня и посылала попугать их.
Тогда я одевался, брал берданку и выходил из избушки. Полкан и Соболько начинали лаять еще сильнее. А я, повременив немного, палил в сторону волков. И вой немедленно прекращался, а Полкан и Соболько храбро бросались вперед и начинали лаять где-то там, откуда раньше слышался вой. Через некоторое время они возвращались обратно веселые и довольные, что отогнали зверей. Я угощал их за верную службу ломтем хлеба и возвращался в избушку. А через какое-то время мама опять будила меня и просила выйти и выстрелить еще раз, а то они опять начинают подвывать совсем близко. И так каждый день, пока мы в начале октября не перебрались со всем своим скотишком домой в деревню.
На заимке я постепенно стал привыкать к мысли о том, что мне всю жизнь придется оставаться в Кульчеке и не рыпаться никуда со своей грамотой. И теперь я думал уже не о том, как я буду где-то учиться, а только о том, как бы мне работать по крестьянству не хуже своих кульчекских сверстников.
Косить я умею хорошо. Убирать сено, то есть грести, копнить и подвозить к зароду мне не привыкать. Но жну я пока плохо. И спина почему-то болит, и нажинаю меньше других. Но об этом можно пока не беспокоиться. Новый урожай будет только через год. С зимней работой получается у меня тоже более или менее ничего. Я могу быстро запрячь и выпрячь коней, пилить дрова, молотить на гумне. Вообще хорошо помогать в хозяйстве. А вот раскладывать сено на сани под стогом на покосе не умею.
Пока мы с братом пробиваемся от общей дороги по снежной целине к своему таежному покосу, все идет у меня хорошо. Потом мы начинаем откапывать лопатами наш стог. Тут уж я стараюсь изо всех сил и так работаю, что, несмотря на мороз, от меня валит пар. Но вот стог откопан. Я ставлю под него первую лошадь, потом беру вилы и становлюсь на сани. Теперь Конон будет подавать мне сверху вилами сено, а я должен раскладывать его на санях. И раскладывать так, чтобы получился аккуратный воз.
Как и всякая работа, это дело требует силы и сноровки. Силенкой бог меня не обидел. А вот сноровки в этом деле у меня не хватает. С самого начала воз получается какой-то кривобокий. Пока я учился в Коме, Конон давал мне на этом деле скидку. Слезет с зарода, выправит мой кривобокий воз и опять начинает подавать сверху сено. А что он скажет мне теперь. Ведь нам придется всю зиму ездить на покосы за сеном, и я буду раскладывать на сани не так, как надо.
Пока я учился в Коме, мои кульчекские товарищи здорово выросли и стали какими-то другими. А Ларивон у дяди Ивана сделался уж настоящим хозяином. Весь досмотр по домашности дядя Иван взвалил теперь на него. А хозяйство у них большое. Они держат работника, двух приживальщиков-поселенцев и работницу. За всем надо досмотреть, везде поспеть, со всем управиться. Знай повертывайся. Так что ему некогда уж теперь разводить со мной дружбу. Говорят, дядя Иван подал прошение архиерею, чтобы женить Ларивона в шестнадцать лет. Хочется скорее привести в дом бесплатную работницу.
И Матвей у Гарасимовых так вырос и поздоровел, что дружить ему со мной стало неинтересно. По праздникам он все время крутится теперь около девок и готов каждую ночь до утра слоняться со своими дружками по деревне.
Зато я быстро сошелся с Митькой и Петькой Худяковыми. Пока я учился в Коме, они тоже здорово выросли и уж начали курить. Митька завел себе гармонь в десять ладов с колокольчиками и ходит теперь с этой гармонией по вечеркам. Я быстро выучился играть кое-что на его гармонии, но на вечерки ходить с ними воздерживался. Там, по нашим кульчекским правилам, надо было весь вечер держать на коленях какую-нибудь девчонку, целоваться с нею в определенных играх и что-нибудь отплясывать под гармошку. Всего этого я стеснялся. А Митька и Петька и плясали, и целовались, как настоящие кавалеры.
А потом, они любили играть в карты и стали сговаривать меня банковать с ними за одну компанию. Играли они в двадцать одно и в какой-то шмындифер, проще говоря, в девятку. На кон ставили по копейке и даже больше. Иногда банк доходил до десяти копеек. Но играть в карты с ними я не стал, потому что денег у меня не было, и еще потому, что карты у них были меченые. Они честно объяснили мне, сколько засечек иголкой они сделали на каждой карте, чтобы во время метания банка играть наверняка. Но я сразу сообразил, что это дело у них не чистое.
А потом, мне по-прежнему хотелось что-нибудь читать, хотя я и понимал, что читать книги мне теперь уж не положено. Пока я учился, чтение книг оправдывалось тем, что этого требует школа. Пошел учиться – значит, занимайся как следует, пиши, что надо, ну и книги читай, раз это требуется. Кончил школу в Кульчеке, поезжай в Кому. Выучился в Коме – отправляйся и Минусинск или в Красноярск. Доходи там до дела. А если остался дома – то принимайся за работу. Тут уж не до чтения. Теперь если тебя увидят с книгой, то сразу будут считать лодырем, отлынивающим от тяжелой мужицкой работы.
Я хорошо понимал, что мое учение кончилось насовсем, что мне теперь надо думать не о книгах, а о том, чтобы во время страды или сенокоса не быть посмешищем для всей деревни. Я понимал, что чтение книг будет теперь для меня действительно баловством и вызовет справедливое осуждение всей деревни. И осуждать-то будут прежде всего моих родных.
И все же я никак не мог смириться с тем, что мне навсегда заказано теперь чтение книг. Читать разные повести и рассказы, приключения на суше и на море во время страды и сенокоса, когда все, как каторжные, изводятся от работы, конечно, мне нельзя. Да и мои домашние этого не позволят. Но у нас ведь много праздников, в которые не принято работать. Пасху празднуют целую неделю. Святцы от рождества до крещенья – две недели – сплошной праздник. Потом масленица – целую неделю дым коромыслом. Двунадесятые праздники, два престольных дня, не считая воскресений. А потом, много праздников поменьше, которые можно было бы и не праздновать. А приходится. Николин день, егорьев день, Борис-Глеб, Илья Пророк… Все эти святые какие-то привередливые, и у мужиков вечно происходят с ними недоразумения. Поедешь в егорьев день на пашню – волки обязательно задерут потом коня или подсекут жеребенка. Будешь в день Бориса и Глеба убирать сено – не жди добра. Или стог грозой подпалит, или вихрем своротит, а потом забьет дождем. О николине дне и говорить не приходится. Очень сердитый святой этот Николай Мирликийский и большую силу забрал над мужиками. Такая же оказия получается и с Ильей Пророком. С ним тоже надо держать ухо востро. Того и гляди, градом хлеб побьет. Так что хочешь не хочешь, а приходится праздновать. И не только ильин день, но и ильинскую пятницу. В общем, в тяжелой мужицкой жизни я видел некоторые просветы, когда можно без ущерба домашности, не раздражая ревнивых соседей, посидеть за хорошей книгой, подумать о больших городах, о дальних странах, в общем, о далекой, сложной, непонятной, но интересной жизни, которая где-то катится мимо нас. Беда была только в том, что таких книг у меня не было.
Если бы Павел Константинович оставался у нас в Кульчеке, я объяснил бы ему, как мне трудно жить без книг, и попросил бы его выдать мне из своего заветного шкафа что-нибудь хорошее. И, конечно, Павел Константинович нашел бы что-нибудь такое, что я еще не читал. На худой конец, я мог бы перечитать у него некоторые старые книги.
Но Павла Константиновича в Кульчеке уже нет. Уже два года, как он женился на безкишенской учительнице и, говорят, уехал с нею в Красноярск. После него у нас сменилось уже две учительницы и приехал третий учитель. Квартирует у Тиминых и ходит по деревне в форменном мундире с позолоченными пуговицами.
Павлу Константиновичу вся деревня, от мала до велика, была знакома. Он всех знал, всех помнил, с каждым мужиком здоровался за ручку. У многих бывал в гостях. А по большим праздникам и на свадьбах его приглашали даже на гулянку. И он вместе со всеми хаживал по домам, и все дорожили его компанией и держались с ним строго и уважительно.
А новый учитель никого в деревне не знает и знакомств ни с кем не заводит. Изредка пройдет по улице в своем фирменном мундире. Ни на кого не смотрит, никому не кланяется. И до сего времени никто не знает, что он за человек, какого рода и характера, и почему он так гордо держится с народом. Мне даже в голову не приходило пойти к нему за книгами. Таким он мне казался недоступным.
Тогда я подговорил на это нашего Ивана Герасимовича. Он был много старше меня, давно женился, и у него пошли уж дети. И все равно он состоял со мной в большой дружбе. Когда я учился в кульчекской школе, он всегда интересовался тем, что я читаю, расспрашивал меня о прочитанном, вместе со мною восхищался необыкновенными людьми, описанными в книгах, и с каким-то особым интересом рассматривал в них картинки.
И вот теперь он по моей просьбе отправился к новому учителю за интересными книгами.
Вопреки нашему ожиданию новый учитель встретил его очень хорошо. Он даже обрадовался тому, что к нему наконец кто-то заявился из деревенских. А то, говорит, не знаю, как к вам и подступиться. Народ в деревне какой-то сумрачный, смотрят на приезжего косо. Того и гляди, пришибут ночью. Поговорить, кроме старосты и писаря, не с кем.








