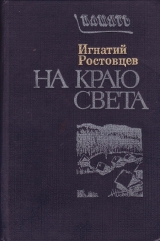
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 50 страниц)
– А деньги, которые она украла у дедушки?
– И деньги, и всю одежонку привезли. Деньги-то она еще дома в оборку платья зашила. В этом платье убежала, в этом и обратно заявилась. А узлы с лопатенкой цыган увезти-то не успел. Оплошал…
– Как же это он оплошал?
– А так уж получилось. Приехали они в Подлиственную-то уж затемно. И остановились там, по знакомству, в одном доме. Не доезжая до деревни, за речкой, почти у самой горы, жили там два брата. Справные мужики были, только с цыганами тоже якшались. Они, конечно, сразу сообразили, зачем Гришка в Кульчек ездил и что за кралю он вывез оттуда. А Гришка, он парень хоть и молодой был, но уж продувной. Соображал, к кому он едет с ней на фатеру. Так еще за деревней взял да на всякий случай и спрятал Парасковьины узлы-то на чьем-то гумне в зарод соломы.
Вот остановились они у этих братьев на фатере, напились чаю, а потом Гришка сразу отправился в Витебку за свежими конями. «Ты, – говорит, – Паруня, жди меня здесь. Я скорехонько оттуда возвернусь». Вот она его ждать-пождать. В деревне уж ни одного огонька, дело к полночи подходит. А его все нет. Она в слезы. А хозяева успокаивают ее и спать в горницу укладывают, как настоящую гостейку. Заставили работницу постелю ей там стлать. Все как следует. А та стелет постелю, а сама ей шепчет: «Убегай, – говорит, – пока жива. Гришку-то твоего они уж перехватили за деревней. Сказали ему, что кульчекские вас здесь уж разыскивают. Ну, он сразу повернул коней да и был таков. А тебя они сегодня ночью сговорились убить. Знают, что ты при деньгах, и, окромя того, думают, что вы тут где-то узлы с лопатью припрятали. Так что уноси ноги, пока не поздно».
Вот в какой переплет попала наша Парасковья. Можно сказать, сама себе петлю надела на шею. Но все-таки она была девка не промах. Как только услышала это, сразу надевает свою шубу, катанки, теплую шаль и выходит из избы, вроде как бы до ветру. А как вышла во двор-то, так сразу же за ворота – и бросилась бежать. И побежала не в деревню, а совсем в другую сторону, по дороге в тайгу. Сообразила, что иначе ее догонят да ухлопают. А как добежала до горы за лугом, то сразу свернула здесь в сторону и полезла прямо на гору. А след свой от дороги на всякий случай заметала хворостиной. Да и ночь-то была, на ее счастье, ветреная. Так что след-то ее и ветром еще занесло.
Только вылезла она на гору да скрылась там в березничке, а хозяева ее уж скачут верхами по той дороге. Значит, уж хватились и ищут ее. Да еще двух собак с собой взяли. Те впереди бегут да все нюхтят, все нюхтят. Ну, тут наша Парасковья ни жива ни мертва. Смотрит на них с горы-то, крестится да читает: «Пронеси, восподи, пронеси, восподи!» То ли молитва ее дошла до бога, али уж на роду ей не суждено было умереть в ту ночь, но только мужики эти ее там не приметили. И собаки ихние тоже как-то ее не учуяли. Так и осталась она одна на той горе ночь коротать, в снегу, на морозе да на ветру. Ни на одной вечерке, видать, не приходилось нашей Парасковье столько плясать, как там на горе в эту ночь.
А утром, когда уж совсем рассвело, заявилась она в деревню прямо к нашим Сюксиным. Пришла еле живая. Руки, ноги, лицо – все обморожено. Зашла это в избу, перекрестилась да и говорит: «Принимайте, тетонька Фекла, гостейку, да только ни о чем не спрашивайте». А Фекла посмотрела на нее да и говорит: «Тебя, милая, не спрашивать надо, а снегом оттирать. Не до расспросов тут». Ну, и начали ее изобихаживать. Кое-как оттерли ей снегом руки, ноги, лицо, потом смазали ей все это гусиным салом, заставили выпить чашку водки с перцем и положили ее на печку. А когда она отошла там как следует да соснула немного, тогда уж позвали ее пить чай. Только это уселась она за столом, как отворяется дверь, и заходит наш Нефед с подлиственским старостой, с сотскими и десятскими. «Так вот, – говорит, – ты где, голубушка, прохлаждаешься». Тут, говорят, у нашей Парасковьи и чашка с чаем из рук выпала, и язык отнялся. Сидит как опущенная и слова не молвит. Да и что скажешь? И так все видно.
Ну, тут начались, конечно, всякие расспросы у нее насчет цыган, насчет денег, насчет узлов с лопатью и все прочее.
Все деньги оказались при ней в оборке платья. Узлы с лопатью тоже нашли в зароде соломы на гумне за деревней. Только все оне были истыканы вилами. Это хозяева ее искали те узлы, ходили вокруг зарода на гумне и все тыкали вилами в солому. Но второпях так ничего и не нашли…
И о том узнали, как она всю ночь на горе провела на ветру да на морозе. С той поры и сейчас еще эту сопку называют в Подлиственной Парушиной горой.
А потом повезли ее, голубушку, к нам в Кульчек к родимому тятеньке да родимой мамоньке. На пяти парах подъехали к Гаврилу Родивоновичу. Все старосты, все сотские и десятские из соседних деревень, которые ее разыскивали. Вся деревня сбежалась смотреть, как Гаврило Родивонович будет встречать свою Парасковью.
Привели ее в дом. Она как ступила через порог, так сразу и упала на колени. Так на коленях и поползла к отцу-то. А он сидел в это время за столом в переднем углу. Так даже не встал. Как сидел, так и остался сидеть. Тут она подползла к нему на коленях и стала целовать ему ноги. «Прости, – говорит, – тятенька! Не простишь, – говорит, – я руки на себя наложу!» – «Лучше бы ты, – говорит, – уж руки на себя наложила. Не было бы такого страму». Сказал это и волосы на себе стал рвать. Вот до чего довела она родного отца.
Ну, тут все стали его утешать да успокаивать, и он понемногу утихомирился. А потом и говорит: «Уберите ее с глаз моих долой! Пусть, – говорит, – пока в избушке с работниками живет. А тебя, – говорит, – Нефед Матвеич, и всех, кто приехал с тобой, прошу садиться за стол. Перемерзли вы все с этим делом. Выпьем с устатку. Не обессудьте за угощение. Не так думал я провожать дочь в чужие люди. Но что поделаешь. Все под богом ходим».
Тут все уселись за стол, и началась у них настоящая гулянка. С песнями, с пляской. И дедушко Гаврило пил наравне со всеми, но, на удивление всем, даже не хмелел. И ничем уж не похвалялся на этот раз перед своими гостями.
А как прошла масленица, он сразу же уехал и где-то в Подкортусе выискал Парасковье этого Кирюшу. Свадьбу справили сразу после пасхи. Отвалил он за дочь Кирюше пять коней, семь коров да сорок овец. Ну и денег сколько-то отказал ему. Говорят, эти пять сотен, Кирюша-то после того сразу скотом начал торговать.
А Гаврило наш опосля того и скотишку перестал закупать, и с цыганами якшаться. В дом к себе переселил старшую дочь с зятем да с ребятишками, препоручил им все свое хозяйство, а сам пьет да еще целую ораву прихлебателей при себе держит. Коренным пьяницей стал в деревне. Ходит со своими дружками по деревне да куролесит. Другому давно бы уж бока обломали, а богатому-то все с рук сходит. Вот тебе и богатство. Денег много, а радости нет. Ну, заговорились мы с тобой. Поздно уж, ложись спать. Того и гляди, отец явится. Замешкался где-то со своим крестным. Видать, бабку Анну вместе обхаживают.
После рассказа мамы я как-то по-другому стал смотреть на дедушку Гаврила, когда он заходил к нам в гости. Читать второй раз «Конька-Горбунка» он меня не заставлял. Но над грамотой больше не насмехался, а один раз, глядя на меня, даже проговорился, что Парасковьиного Лаврушку тоже придется отдавать в школу. «Ничего не поделаешь, – с сожалением промолвил он, – придется учить парня, раз пришли такие времена». Потом подумал немного и добавил: «А может, и в самом деле это ему в жизни пригодится».
Глава 9 ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
В воскресенье в деревне было празднично и шумно. С «лужка» – большой площади посредине деревни – доносились песни, смех, крики, девичий визг, игра на гармонике. Тут и там у ворот сидели группами соседи и вели степенные, подходящие для праздника разговоры о погоде, о болезнях, о видах на урожай, о веем таком, что уводило их от повседневных забот и треволнений.
В тон этому и люди были настроены благожелательнее, чем обычно. Каждый чувствовал себя на какое-то время выключенным из тяжелой хозяйственной лямки и хотел принять участие в общем разговоре.
У ворот Архипа Сычева собрались почти все наши соседи. Дядя Илья, Ехрем Кожуховский, зять Архипа – Степан Красный, прозванный так за свою ярко-рыжую бороду, Сергей Семенович Ворошков, Саша Баранко, Акулина Елисеевна, Варвара Абакурова и еще кое-кто из соседей. Здесь же сбоку пристроились и мы – ребятишки. Нам очень хотелось пойти на «лужок». Это совсем недалеко. Всего через несколько домов. Но идти туда мы боимся. Ребята там чужие, задиристые. Еще налупят, чего доброго, ни за что. Поэтому мы сидим здесь, в своем околотке около Сычевых, и не столько заняты своими делами, сколько наблюдаем за тем, что сегодня происходит на нашей улице.
Вот снизу, с «лужка», подходит сюда Еремей Павлович Грязнов, Еремей Павлович одет сегодня по-праздничному: в новые бахилы с длинными ременными подвязками, в плисовые шаровары и кашемировую рубаху. На голове у него, хоть и лето, нарядная бобровая шапка. Но вид у него совсем не праздничный. Борода всклокочена. Плисовые шаровары в грязи, а кашемировая рубаха разъехалась по плечам. Еремей Павлович о чем-то разговаривает сам с собой. Это верный признак, что Еремей Павлович сегодня навеселе.
В пьяном виде Еремей Павлович настроен всегда довольно благодушно. Но он думает в это время только о себе и все время что-то говорит сам с собой. Вот и сегодня не успел он к нам подойти, как сразу же, никого не слушая, стал рассказывать о том, как он нынче, слава богу, подвалил в Ижате маралиху с мараленком, привез из Убея два с лишним пуда рыбы, как он весной подрезал в Мачжаре семи волчатам жилы на ногах, а на этой неделе нашел в Шерегеше большой рой пчел и после ильина дня возьмет с него не меньше пуда меда.
Еремея Павловича знают у нас как рыболова и пчеловода. Но славится он, главным образом, как охотник. Охотится он на медведя, на марала, на всякого мелкого зверя и, между прочим, на волков. На волков Еремей Павлович охотится по-особенному и только в Мачжаре, около своей пашни. Он хорошо знает там в лесу все волчьи ямы. Выследит весной волчий выводок и подрежет волчатам жилы на ногах. Волчата после того растут спокойно на воле, а быстро бегать уж не могут. Только с боку на бок переваливаются. Осенью Еремей Павлович едет в Мачжар, находит их в тех же самых местах, собирает в мешок и везет домой. Дома они живут у него вместе с собаками, пока не вырастут как следует. Тогда он убивает их, а шкуры выделывает на доху.
Нам очень хочется расспросить его о том, как он выискивает в Мачжаре маленьких волчат и подрезывает им жилы. Но Еремей Павлович даже не замечает нас и все время говорит только о себе. Поэтому все стараются от него отделаться. И когда вдали появились Матюгов и Ивочкин, дядя Илья сказал:
– Ты бы, Еремей, шел это лучше к своим дружкам. Вон они идут… А то якаешь тут без передыха. Рта никому не даешь открыть.
– А что же, можно и пойти, – заартачился Еремей Павлович. – Почему не пойти. К кому захочу, к тому и пойду. Еремея Грязнова везде уважают, везде примут, везде угостят.
Между тем Матюгов и Ивочкин уже проходят мимо. Матюгов идет молча, а Ивочкин поет:
Как по нашей по деревне
Колокольчик прозвучал…
Тама шел-прошел бродяга —
Бездомовый человек…
Песню Ивочкин не столько поет, сколько надрывно кричит. И кричит он ее отнюдь не из потребности выразить свое настроение, а исходя из того, что всякая гулянка должна сопровождаться песней. А он загулял. Поэтому и поет. И песню он поет свою – каторжную. И никто ему не запретит петь эту песню.
Ты скажи мне, младый юнош,
Сколько душ ты загубил?.. —
неожиданно подхватил песню Ивочкина Еремей Павлович и направился к нему навстречу. В отличие от Ивочкина, Еремей Павлович поет умело, с чувством, высоким, сильным голосом, что никак не вяжется с его недавней бессвязной болтовней. С песней он подошел к Матюгову и Ивочкину, и Ивочкин сразу же заключил его в свои объятия. Уходя по улице вверх к Крысиным, они уже вместе затянули:
Эх, ты скажи мне, младый юнош,
Сколько душ ты загубил?
Восемнадцать православных,
Девяносто семь татар…
– Ну, теперь они на всю неделю. Водой не разольешь…
– Если не передерутся.
– Матюгов драчливых не уважает.
– Матюгов не уважает, а Ивочкин как выпьет немного, так и грозится кого-нибудь «подколоть».
– Или он подколет, или его подколют. Еремей – он тоже по этой части не промах. Чуть что – сразу хватается за нож.
– Бросьте вы о них говорить. Вон Софья своего Архипа ведет.
– Вот и мы с хозяином вышли на посиделки, – обращается тетка Софья к окружающим и бережно усаживает его на лавку.
Архип Сычев приходится нам каким-то родственником по тетке Софье. Говорят, его пригнали на поселенье в Кульчек еще в молодые годы. Первое время он жил в работниках у тетки Софьи и так ей приглянулся, что она решила отравить своего мужа – нашего дядю Степана. Травила она дядю Степана не торопясь. Натирала, говорят, ему белье каким-то порошком. Ну, он чах от этого, чах да помаленьку и зачах совсем. А тетка Софья после того поженилась с Архипом да и живет с ним много лет в полном согласии.
Теперь Архип Сычев сам чахнет от какой-то болезни. Уж один скелет остался. Вот и сейчас он сидит, тяжело дыша, уставившись в землю, и, казалось, никого не замечает из окружающих.
– Ну, как, кум Архип, здоровьишко-то? – спросил его дядя Илья.
– Да, слава богу, получше. Выходить на улицу стали, – ответила за Архипа тетка Софья.
– С вечера вроде как бы и ничего, – сказал, прокашлявшись, Архип. – А к утру удушье – мочи нет. Вчера думал, совсем каюк пришел. Хочу Софью позвать. И не могу. Язык-то вроде уж отнялся. Спасибо Степану. Услышал, что со мной что-то неладное. Снял меня с печи, посадил к окошку, принес ковш воды. Ну, я и очухался помаленьку.
Дядя Архип опять тяжело закашлял. Потом медленно вытащил из кармана трубку, вынул из нее чубук и стал обрезывать ножом его конец, пропитанный баткой. Руки его тряслись, и нож беспомощно скользил по чубуку. Степан молча взял из его рук чубук, отрезал от него кругленький ломтик и подал его Архипу. Тот положил этот ломтик на язык и стал сосать. Кашель сразу же унялся. Лицо дяди Архипа просветлело. На нем заиграла слабая улыбка.
– Вот ведь какая хреновина получается. Всем на удивленье. Лечился, лечился. Сколько порошков этих переглотал. А лекарство-то, оказывается, у меня в кармане лежало. Спасибо Герасиму – надоумил. «Ты, – говорит, – попробуй батки из трубки под язык-то класть да сосать. Она сильно хорошо кашель-то прочищает». Попробую, думаю, может, и в самом деле поможет. Отрезал от чубука такой блинчик и давай его сосать. И скажи ты ведь какое дело – весь тот день не кашлял. Теперь на этом только и держусь. Только вот чубуки выпрашивать у людей приходится. От одного-то своего не много налечишься. – Тут дядя Архип вынул из кармана и показал всем несколько новых чубуков. – Спасибо Степану – сделал мне целый десяток на обмен.
Все внимательно слушают дядю Архипа. И понимают, конечно, что сосать батку из трубки – дело противное. Однако это никого не удивляет. Удивляет другое – что никто этого лекарства не знает. Выходит, что лечился человек, лечился разными лекарствами, пил всякие снадобья, глотал без счету порошки – и все без пользы. А вот простая батка из чубука дает человеку такое облегчение. Если бы знать в свое время, может быть, совсем другое дело было бы.
– От бога все это. И болезни все, и лекарствия, – глубокомысленно заключил дядя Илья и вынул чубук из своей трубки. Он принял от Архипа новый чубук, а ему передал свой накуренный. – Уж если батка эта дает человеку облегчение – значит, она ему в плипорцию. Может соответствовать, значит. А уж если кому она не идет, так тут уж ничего не поделаешь. Нутро, значит, у того ее не принимает. На все божья воля. Все под ним, милостивцем, ходим.
– Это что уж и говорить. Дело известное, – вступает в разговор соседка Сычевых Акулина Обеднина. – А я вот так скажу: на одну болезнь лекарство нужно, а на другую слово надо знать. Не будешь знать того самого слова, какое нужно, никакое лекарство тебе не поможет…
– Это как же понимать, Акулина Елисевна? Выходит, слово сильнее лекарства? – спросил Сергей Семенович Ворошков.
– А вот и понимай как знаешь. Дениса-то у меня ведь два года «кумушка» трясла. Совсем было скопытился мужик. Как начнет его с весны, так до покрова и треплет. Уж чем только не лечили. Осиновой корой, полынью, марьиными кореньями поили, холодной водой обливали, пугали несколько раз. Чуть совсем не порешили человека. А уж порошков этих он выпил без счету. Чем больше их пьет, тем сильнее она трясет. В прошлом году совсем было извелся мужик. Уж с постели перестал вставать. Хоть домовину заказывай на кладбище тащить. Да, спасибо, один человек помог, дай бог ему здоровья.
Раз гляжу, у нас на речке в бане бродяжка обосновался. Седой такой старичок, уважительный. И что-то это в котелке варит. Чего ты это, спрашиваю, дедушко, варишь? Пойдем ко мне. Я тебе лучше молока налью… За молочко, говорит, спасибо. Не откажусь… А варю я себе, говорит, одну травку такую… Что-то меня сегодня сильно ломает. Видать, продуло али к перемене погоды. Вот сварю снадобье из этой травки да напьюсь на ночь. Да погреюсь. Оно все и пройдет.
Я вижу – человек, видать, бывалый. Дай, думаю, расскажу ему о своем Денисе. Может, чем-нибудь и поможет.
Слушал он меня, слушал, а потом и говорит: «Без веры, матушка, не вылечишься. Без веры, – говорит, – никакие порошки, никакие снадобья не помогут». Потом подумал, подумал да и присоветовал: «Ты, – говорит, – завтра с утра запрягай телегу и вези его в тайгу. Тайга-то у вас ведь рядом. Найди там хорошую осину, вели своему Денису поклониться ей несколько раз земным поклоном и попросить ее:
Осина, осина!
Возьми мою трясину!
Дай мне леготу!
А потом пусть перевяжет эту осину своим кушаком. Только никому не говори. Чтобы никто, значит, не знал, куда едете. Да смотри не перепутай: осина, осина! Возьми мою трясину! Дай мне леготу! Не перепутай смотри».
Подивилась я на это, поблагодарила старичка, принесла ему кринку молока и пошла домой. Прихожу, рассказываю обо всем Денису. А он подумал, подумал да и говорит: «Нынче весной, перед пасхой, мы в Шерегеше дрова рубили, так приметил я там одну осинку. Уж больно она мне понравилась. Кругом березник был. Густой такой. А она, понимаешь, растет на таком пустырьке, на самой середине, стройная, как божья свеча. И так мне стало жалко рубить ее. Пусть, думаю, растет себе деревцо. Никому не мешает ведь. Вези меня завтра к ней. Может, она мою трясину и возьмет».
На другой день с утра управилась я по хозяйству, запрягла коня, уложила своего Дениса на телегу, и поехали мы помаленьку в Шерегеш. Приехали на устье Мохнатенького. Выпрягла я здесь своего Гнедка, посадила на него Дениса и повезла его вверх по родничку, прямо к их вырубке.
Приехали на место. Вижу – дивствительно стоит посередине осинка, молодая такая, стройная да высокая. И лист у нее, хоть и нет ветра, а все время как бы трепещет. Вроде чему-то радуется деревцо и как бы играет листьями от этой своей радости. Увидел мой Денис эту осинку, и аж слезы у него навернулись. Подошел к ней, снял шапку и спрашивает: «Узнаешь ли ты, – говорит, – меня, осинка-лесинка?» Смотрел, смотрел на нее. А потом упал перед ней на колени, кланяется ей земным поклоном и все просит ее: «Осина, осина! Возьми мою трясину! Дай мне леготу!» Просит ее, а сам все кланяется ей. Раз тридцать поклонился, совсем ослаб. В пот его бросило. Ну, думаю, начнет его сейчас опять трясти. Не извелся бы мужик. А он меня просит: «Под осину, – говорит, – под осину скорей меня клади. Это болезнь из меня выходит. Да не забудь ее моим новым кушаком опоясать, осинку-то».
Уложила я его на войлок под эту осинку, накрыла шубой. Повязала осинку новым кушаком. Села рядом да и сама начинаю ее просить: «Осинка, – говорю, – лесинка! Возьми его трясоту! Дай ему леготу!» Прошу это осинку, а сама плачу. Неужели, думаю, опять мне и на пашне, и на покосе придется одной горе мыкать.
А Денис мой, гляжу, тем временем уснул. Спит себе под своей осинкой. Без малого до обеда проспал. Потом проснулся и сразу есть попросил. Поели мы с ним под этой осинкой и отправились помаленьку домой. И что бы вы думали? Обратно мой Денис уж на телеге лежать не хочет. Повеселел. Вожжи взял в руки. Гнедка понукает.
Дома напоила я его чаем с дубровником. Он у меня всю ночь и проспал как мертвый. А через неделю и совсем оклемался. После петрова дня на покос поехали. И нынче, слава богу, держится. Вот как оно бывает.
– Вот тебе и бродяжка.
– Разные среди них попадаются.
– Вот бы нам с Архипом такого бродяжку повстречать! – промолвила тетка Софья.
– И встретите. Мало ли их проходит летом. Так один за одним и идут. Непременно встретите, – стала уверять тетку Софью Акулина Елисеевна.
– А может, от батки от этой поправится. Все-таки легче ему стало, – сказала Варвара Абакурова.
– Дай-то бог. Может, и от батки встанет на ноги, – произнес зять Архипа Степан. – Тут ведь только узнать, что к чему, – и дело пойдет на лад. Вон Афоня-цыган все время детской мочой лечится. Уж как его бьют за воровство за это. Приедет со своего промысла – кровью харкает. И сразу начинает пить мочу. Цыганят у него много. Так что лекарства этого хватает. Вот и пользуется. Попьет месяца два, глядишь, и опять на свой промысел едет.
– Кому что. Тебе хлеб пахать, Трошке Плясунку в тайге белковать, а ему, значит, воровать, – глубокомысленно заключил дядя Илья. – Уж такая планида человеку вышла.
– А я, мужики, так думаю, – вступил в разговор Ехрем Кожуховский. – Батка баткой, раз она дает ему облегченье. Но все-таки без хорошего человека тут не обойтись.
– Вот и я говорю – знающего человека искать надо, – снова стала советовать Акулина Обеднина.
– А что его искать-то, – поддержал Акулину Ехрем Кожуховский. – Когда еще он заявится, знающий человек-то. А может, и совсем не заявится. Гарасима надо просить. Он и батку эту присоветовал, он и слово от всяких болезней знает.
– Да, по этой части Гарасим соображает. Ничего не скажешь, – вставил свое замечание дядя Илья.
– От бродяжек от этих все перенимает, – снова заговорил Ехрем Кожуховский. – Мы-то их чураемся, а чего чураемся – и сами не знаем. А Гарасим, как ни посмотришь, все с ними. То с одним, то с другим. Не зря он обхаживает их. Так что ты, Софья, непременно попроси его насчет этого дела. Выставь уж ему, так и быть, бутылку. На такое дело не жалко. Может, и в самом деле поможет человек.
Тут все стали жалеть о том, что дядя Гарасим пьяница. Если бы не эта беда – человеку цены не было бы.
Действительно, вся жизнь дяди Гарасима проходит по пьяной полосе. Полоса пьяная тянется у него обычно очень долго и с большим трудом переходит в полосу трезвую. А полоса трезвая длится почему-то недолго и быстренько сменяется снова полосой пьяной.
Жизнь дяди Гарасима, когда она входит в полосу пьяную, становится очень незавидной. Семья выгоняет его в это время из дома, и он живет вроде приживальщика то у родни, то у соседей. Чтобы заработать себе на выпивку, он берется тогда за какое-нибудь рукомесло – бьет шерсть, выделывает овчины, пасет скота.
Когда же жизнь дяди Гарасима вступает в полосу трезвую, тогда она проходит в домашних трудах и заботах. В такое время он обычно возвращается в семью и становится настоящим хозяином. Внешнее обличье дяди Гарасима становится в это время благопристойным. Небольшой, тощенький, с великопостным выражением, с длинными, гладко причесанными волосами, перевязанными веревочкой, с жиденькой бороденкой, в длинной холщовой рубахе, дядя Гарасим очень походит в это время на одного из святителей, нарисованных у нас на иконах.
В такое время наши бабы одна за другой несут к дяде Гарасиму своих ребятишек. И дядя Гарасим с большой важностью лечит их от жара, от поноса и от всяких других детских болезней.
Во время одного из своих запоев, когда семья очередной раз вытурила его из дома, дядя Гарасим подался в чужие места и нанялся в Подкортусе в пастухи. Здесь вновь его осенила божия благодать, он взял себя в руки и бросил пить. Вскоре дядя Гарасим прослыл там за святого человека, и слава о нем как о необыкновенном целителе дошла даже до наших мест. Кроме наговоров и приворотов, дядя Гарасим стал, как настоящий святой, лечить там уж простым возложением рук. И, говорят, возложение тоже сильно всем помогало. Но за всем этим дядя Гарасим не заметил, как вошел в полосу пьяную. А вступив в пьяную полосу, он начал там куролесить, издеваться над своей святостью и болтать о том, что он умеет не только лечить и исцелять, но и портить, и даже напускать на людей всякие болезни.
Тут в Подкортусе сразу у всех открылись глаза, что он за человек. Всем стало ясно, что дядя Гарасим человек непутевый, что он сам напускает всякие болезни, поэтому так легко и излечивает их. И бабы, которые только что называли его божьим человеком и приводили к нему своих деток для возложения на них старческих рук, стали считать его колдуном и волхвователем и призывать на его голову все страсти господни. Тут дяде Гарасиму не оставалось ничего, как смываться поскорее подобру-поздорову из Подкортуса домой.
В Кульчеке у нас дядю Гарасима знают, конечно, как облупленного и не верят в его святость. Однако лечить ребятишек к нему носят, так как уверены, что он помогает им не как святой, а как знахарь, который знает такие наговоры, которые сами по себе имеют силу, независимо от того, святой или грешник применяет их. Поэтому все у нас верят в то, что дядя Гарасим владеет особой тайной силой. Он может испортить лошадь, и лошадь чем-нибудь заболеет, может испортить корову, и корова не станет давать молока или скинет теленка. И что особенно важно, может испортить любого человека, напустить на него какую-нибудь болезнь. Достаточно ему, варнаку, чем-нибудь не угодить, и дело может принять дурной оборот.
– …Так что ты, Софья, непременно попроси его насчет этого дела, – советовал тетке Софье Ехрем Кожуховский. – Выставь ему шкалик-два водки. На такое дело не жалко. Может, в самом деле поможет человек.
– Надо будет попробовать, – не совсем уверенно сказала тетка Софья.
– Попробуй, может, что и получится. А Гарасим – он все может, хоть и пьяница. Осенесь он со мной такой номер отчихвостил, что только диву даешься. Расскажи людям – никто не поверит. Да я и сам не поверил бы никому, если бы не со мной приключился.
– Да что приключилось-то?
– А вот то и приключилось… Поехал я тогда как-то раз, сразу после казанской, белковать. Оседлал утром коня, взял с собой своего Шарика и до свету выехал из дома. Пораньше хотел проехать деревней, чтобы никто не видел. Знаете, какой теперь народ пошел… Только это проехал я Крысиных, вдруг откуда ни возьмись наш Гарасим. Пурх из-за утла. Вроде подкарауливал меня на этом месте. Вот так встреча, думаю, чего боялся, то и получилось. Дай, думаю, обману его. Тут я сделал вид, что не заметил его и еду себе мимо. Но не тут-то было… Не отъехал и пяти шагов, как он уж окликает меня: «Это что ж, куманек, ты и родню уж не признаешь?» – «Да что ты, – говорю, – Гарася… Да я… да ты… Видишь, – говорю, – темень какая». – «Вижу, – говорит, – вижу, что чуть забрезжило… Белковать, значит, поехал. Так, так!» А потом подумал что-то да и говорит с такой ехидцей: «Ну что ж, поезжай, куманек, поезжай. Воспомянешь меня там сегодня не раз, на охоте-то».
Не накаркал бы чего, сукин сын, подумал я и поехал своей дорогой. Еду это да сумлеваюсь насчет нашей встречи. Ну да ничего, успокаиваю себя. Как-нибудь обойдется.
Вот приезжаю я на вершину Андачжачихи, свернул с дороги на Кракчуль и поехал хребтом. Вдруг слышу – Шарик мой уж потявкивает. Эге, думаю, молодец Шарик, нашел уж белочку. Если дело пойдет так, то славно побелкую. Еду на лай, вижу – дивствительно Шарик уж нашел белку и подает мне знак. Ну, тут я слезаю с коня, снимаю ружье, выбираю подходящее место, ставлю ружье на рогульки, прицеливаюсь как следует и… бац!.. мимо… Что за оказия, думаю. На такой высоте всегда с первого раза белку сбиваю. Уж в самом деле не подшутил ли надо мной наш Гарасим Кузьмич… Ну, заряжаю опять свою берданку. Пристроился как следует… Бац!.. И опять мимо. Не иначе, думаю, как подсупонил ты сегодня меня, куманек, туды тебя расперетуды… Не бывало еще, чтобы я такую белку не сбивал со второго выстрела… Стреляю третий – мимо! Четвертый раз… Опять мимо! Ну, решаю, ясно – испортил ты мне сегодня, Гарасим, всю обедню… Стреляю пятый раз, десятый раз. И верьте не верьте, мимо и мимо. Просадил, не сходя с места, все двадцать шесть пуль в одну белку, да и ту не убил…
Вот приезжаю я домой, а Гарасим уж у нас. Выходит на крылечко и спрашивает с ехидцей: «Ну, как поохотился, куманек? Вспоминал ли меня на охоте-то?»
Я слушаю это его, и меня аж трясет от злости. Сукин ты сын, думаю, пришпандорить бы тебя как следует за такое дело. Думаю это, а сам сдерживаюсь. Боюсь уж его, варнака. Тронь такого, так он не то еще сделает.
«Ладно, ладно, – говорит тут мне Гарасим. – Не сердись… Ты сколько пуль брал-то с собой сегодня?» – «Два десятка, – говорю, – с лишним…» – «Так, так, – говорит Гарася. – Значит, ты сегодня должен был привезти четырнадцать – пятнадцать белок…» – «Двадцать белок, – говорю, – должен был привезти. Ведь двадцать шесть пуль брал и все высадил из-за тебя в белый свет как в копеечку…» – «Ну что ж, – говорит мой Гарасим, – поезжай завтра за своими белками. Никуда оне от тебя не уйдут. Только ни в чем не сумлевайся да помни – плоха душа у ерша, если у него щетина дыбом не стоит. Давай винтовку-то». Тут он взял мою берданку, разобрал ее и стал промывать. В трех водах промывал, да все с наговорами, сукин сын, да с молитвами. А меня заставил пули лить. И над пулями тоже что-то мухлевал…
На другой день взял я своего Шарика и выехал чуть свет. Приезжаю опять на вершину Андачжачихи, свернул с дороги, поехал хребтом на Кракчуль. Слышу – Шарик уж тявкает. Подъезжаю – вижу, высоко-высоко на лиственнице белка. Слез с коня, выбрал поудобнее местечко, снял берданку, поставил на рогули, перекрестился, прицелился и… бац! Летит белка вниз… А Шарик уж снова подает знак. Подъехал, сбил вторую. Потом третью, четвертую. И так за день-то дивствительно нащелкал их около двадцати штук. Только последние два раза и просадил мимо. Но это было уж к вечеру. Уж темнеть стало. А до этого все у меня шло как по маслу. Вот тебе и Гараська. Он что хочет, то и сделает с нашим братом… Хоть верьте, хоть не верьте, а так оно и было.








