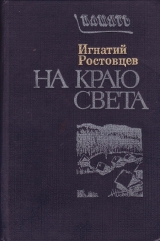
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 50 страниц)
– Так как, мужики? Надо ведь что-то решать.
Этот вопрос как бы подстегнул гласников. И прежде всего из тех деревень, которые уже отвели в этом году свою гоньбу. Они с ожесточением набросились на деревни, которым надо было еще отбывать свою очередь.
А те, конечно, старались отругиваться. Каждое общество старалось выгородить себя и впятить на неудобную очередь своих соседей. Так что начался сплошной крик и галдеж, которому не предвиделось конца. Старшина несколько раз пробовал вмешаться в этот спор, но его голос тонул в общем шуме. Наконец он махнул на все рукой и уселся за стол рядом с Иваном Иннокентиевичем. И тут Иван Иннокентиевич почему-то вспомнил обо мне.
– Как там у тебя? – спросил он, когда я, по его знаку, подошел к зеленому столу.
– Все в порядке, – ответил я.
– Никто не совался к документам?
– Никто не совался.
– Ну и хорошо. Дай-ка мне сюда книгу окладных сборов. Я тут займусь кое-чем, пока они шумят.
А гласники все кричали и кричали. И чем дальше, тем сильнее. К полудню крики и шум стали немного стихать. Похоже было, что гласники обо всем договорились. И тут старшина решил, что пора уж эти споры кончать.
– Так как же, господа гласники? – вопросил он. – Что будем делать?
И только он сказал это, сход опять как бы подстегнули. Первыми заорали комские. Их подхватили кульчекские, безкишенские, анашенские. Они требовали взяться наконец как следует за сисимских, коряковских, за витебских и александровских и запрячь их наконец в это дело. А те в свою очередь подняли крик о том, что сначала надо впрячь в работу медведевских и иржинских, а потом уж нападать на них. Медведевские и иржинские тоже не молчали и изо всех сил отругивались. Так проспорили до самого обеда, не решив ничего.
После обеда собрались в прежнем порядке и стали спорить дальше. Теперь мне стало даже неинтересно и слушать, и наблюдать этот спор. За Иваном Иннокентиевичем следить тоже уже не было нужды. Он сразу же по приходе взял из своего железного ящика какие-то бумаги и читал их. Теперь мне лучше было бы уйти домой. Но я помнил наказ Ивана Иннокентиевича никуда не уходить, так как я в любое время могу ему понадобиться.
Тем временем наступила ночь. На столе у старшины и Ивана Иннокентиевича зажгли лампу-молнию, а сход как ни в чем не бывало продолжал кричать и шуметь. Иногда спор совсем почти замирал, и тогда старшина обращался к гласникам со своим неизменным вопросом – как будем решать это дело? И каждый раз гласники с прежним остервенением возобновляли свой спор и крик.
Но за день они здорово устали и совершенно выдохлись. По квартирам, конечно, не расходились, но считали возможным выйти на двор, чтобы немного очухаться на свежем воздухе. А многие стали прятаться в мою комнату. Пройдет сюда как бы крадучись, присядет в уголок на корточки и слушает. Посидит так некоторое время, а потом ложится на пол. Скоро в углу около меня устроились несколько гласников. Глядя на них, я тоже улегся на свою тужурку около железного ящика. Тут меня стал одолевать сон. Поначалу я, конечно, бодрился, тряс головой, дрыгал ногами и руками, но все равно незаметно заснул, вернее говоря, забылся, так как все время слышал многоголосый гул волостного схода. Он то накатывался, и я тогда сразу просыпался, то уходил куда-то вдаль, как перекаты грома. И тогда я впадал уже в полное забытье.
Проснулся я, видимо, поздно, под чьим-то шабуром. В волости уж никого не было. На зеленом столе по-прежнему ярко горела лампа-молния. Двери в сени были открыты, и оттуда навевало холодом. Дедушко Митрей прибирал волость и, как всегда, беззлобно ругался. На этот раз он бранил гласников, которые наворотили здесь много грязи.
– Что, проснулся, брат? – приветствовал он меня. – Это я тебя накрыл шабуришком.
– Поздно уж? – спросил я.
– Да за полночь уж перевалило.
– А что решили, дедушко Митрей?
– Ничего, брат, пока не решили. Не такое это дело, чтобы сразу его решить. Иди-ко ты лучше в сторожку да устраивайся там на ночевку…
– Я домой пойду.
– Куда пойдешь? Будить всех? И дождь на улице. Иди, тебе говорят, в сторожку. В котелке на плите там чай стоит, а хлеб возьми в туеске на окошке. Там же сало. Отрежь себе ломтик. А спать ложись на нары в рестантскую камеру. Шабуришко-то возьми с собой. Накроешься там.
На другой день утром сход возобновил работу. Гласники имели усталый вид, ругались как-то вяло. Они как бы разминались и раскачивались спросонья, и только очередной вопрос старшины выводил их из полудремотного состояния. Спорили все о том же: кого впятить на гоньбу при волости на самое трудное время. Однако, в отличие от вчерашнего дня, прежнего пара у них уж не было. Пошумев и покричав некоторое время, они опять переходили на негромкий разговор.
В течение дня старшина много раз просил гласников скорее решать это дело. Но каждый раз сход отвечал на это беспорядочным криком и шумом. Но этот крик и шум с каждым разом становился все слабее и слабее. Потом сход начал сильно редеть. Большинство гласников ушли на двор и в сторожку. Многие, как и вчера, набились ко мне в комнату, расселись здесь на корточки и лениво говорили о том, удастся ли гласникам дальних деревень и на этот раз отбрехаться от своей очереди на волостную гоньбу.
К концу дня Иван Иннокентиевич увидел, что гласники окончательно выдохлись, и велел старшине загонять их в помещение.
Теперь управление сходом он взял на себя. Внятно и вразумительно он заявил гласникам, что сход, судя по всему, склоняется к тому, что во время страды, сенокоса, весенней и осенней распутицы гоньбу при волости должны отводить в следующем году дальние деревни.
Не успел Иван Иннокентиевич закончить эти слова, как сисимские, коряковские, витебские, александровские и иржинские подняли крик, что их неправильно назначают на эту очередь. Но тут на них набросились гласники остальных тринадцати деревень, и опять начался беспорядочный гвалт. После того как шум немного утихомирился, Иван Иннокентиевич стал говорить дальше. Он попросил гласных волостного схода соблюдать тишину и спокойствие и понять одно, что если они и дальше будут так кричать и ругаться, то проспорят еще несколько дней и все равно не придут ни к какому решению. А суть дела заключается в том, что наши дальние деревни должны в равной мере с другими деревнями отбывать гоньбу при волости. И хотят они этого или не хотят, а, очевидно, придется сделать именно так. Согласны ли вы с этим, господа гласные?
Тут большинство дружно закричало: «Согласные!», «Правильно!». Гласники дальних деревень попробовали было кричать, что они несогласные. Но их голоса были на этот раз заглушены дружным криком остальных.
Теперь всем стало ясно, что волостной сход пришел наконец к решению этого вопроса, и Иван Иннокентиевич объяснил, что он запишет такое решение в книгу приговоров волостного схода, чтобы уж ни у кого не было никаких сомнений на этот счет. Тогда гласники дальних деревень опять начали шуметь. Но дело их было уже решено, и сход поднял такой шум и крик, что сразу заглушил все их возражения.
После этого Иван Иннокентиевич зачитал сходу очереди для остальных тринадцати сельских обществ, причем комских назначил на самую средину зимы, а наших кульчекских вслед за ними на март месяц. После долгих криков и споров сход, в конце концов, принял эти очереди. На этом все гоньбовые дела были полностью решены всего только за два дня.
В последний день сход занимался раскладкой волостных сборов. Все утвержденные расходы волостного правления в предстоящем году были уже подсчитаны Иваном Иннокентиевичем и, по примеру прошлых лет, распределены по всем обществам, сообразно имеющемуся в каждом обществе числу бойцов.
Теперь начали бузить витебские и александровские и требовать, чтобы волостные сборы распределять не по числу бойцов, а по силе возможности каждой деревни. В Витебке и Александровке, доказывали они, бойцов в два раза больше, чем, к примеру, в Брагиной, а пашут они и скота держат в двух деревнях в три раза меньше, чем брагинские. Так что волостные подати надо раскладывать по пашне, по количеству домашнего скота, а не по бойцам и полубойцам…
Хотя витебские и александровские здорово на этом настаивали, но никто из других деревень их не поддержал. Иван Иннокентиевич тоже не согласился с ними, так как в этом случае, сказал он, придется заново пересчитывать подати по всем деревням и потратить на это, может быть, не меньше недели. Поэтому волостные сборы на Витебку и Александровку насчитали, как это и раньше делалось, по числу имеющихся у них бойцов.
Последним вопросом на сходе стоял вопрос об открытии в Коме почтового отделения. Вопрос этот, оказывается, уж неоднократно становился на волостном сходе и не вызывал у гласников особых сомнений. Поэтому сход единогласно одобрил предложение Ивана Иннокентиевича просить господина крестьянского начальника первого участка Минусинского уезда вновь поставить этот вопрос перед соответствующими инстанциями, с учетом того обстоятельства, что вопрос этот особенно назрел, так как с началом войны количество корреспонденции увеличилось в несколько раз.
На этом волостной сход закончил свою работу, и Иван Иннокентиевич объявил, что неграмотные гласники могут спокойно разъезжаться по домам. Их фамилии будут вписаны в приговор заочно. А гласники грамотные должны задержаться до завтра, чтобы самолично подписать приговор. Волостные судьи тоже могут отправляться восвояси, так как они люди неграмотные и их подписи под приговором будут учинены тоже заочно. А старосты, разумеется, должны остаться, чтобы своими подписями и приложением казенных печатей скрепить приговор волостного схода, затем получить окладные листы на государственную оброчную подать и волостной сбор.
Глава 13 ИСКУССТВО РАСКЛАДКИ ПОДАТЕЙ
На другой день у нас начались обычные занятия. Все шкафы с канцелярскими книгами и делами были перетащены обратно в нашу общую канцелярию и расставлены где надо. Все помощники Ивана Иннокентиевича сидели на своих местах и как ни в чем не бывало усердно строчили свои бумаги.
Сход окончился, гласники разъехались по домам, а у нас в волости все равно было полно народа.
Первыми ни свет ни заря в волость заявились грамотные гласники, чтобы по приказу Ивана Иннокентиевича накорябать свои фамилии под приговором волостного схода. И были очень недовольны тем, что Иван Иннокентиевич дрыхнет дома, вместо того чтобы составлять скорее этот приговор.
Потом стали собираться старосты. На этот раз они являлись со своими писарями, которые во время схода отсиживались где-то по своим комским квартирам. Старосты были тоже недовольны отсутствием Ивана Иннокентиевича, но не осмеливались выражать свое недовольство и мотались без дела, жалуясь на свою проклятую судьбу.
У писарей, как всегда, были какие-то дела к Ивану Фомичу, Павлу Михайловичу и Ивану Осиповичу. Но и они выражали недовольство отсутствием Ивана Иннокентиевича.
А Ивана Иннокентиевича все не было и не было. Явился он, как всегда, только к одиннадцати часам, побритый, напомаженный, наодеколоненный и уже не в байковой косоворотке, а в своем городском костюме с галстуком и золотой цепочкой на жилете.
Тут старосты и гласники бросились было к нему оформлять приговор и получать окладные листы. Но Иван Иннокентиевич не стал с ними даже разговаривать и сразу наглухо закрылся в своей комнате. Тогда всем стало понятно, что приговор у него еще не готов и что он только приступил к его составлению.
Теперь старостам и гласникам ничего не оставалось, как ожидать, когда он закончит это дело. А писаря, те, конечно, сразу сообразили, что это займет у него много времени, и быстро куда-то смотались.
Прошел час, два… наступило время отправляться нам на обед. Ивану Иннокентиевичу тоже, видимо, захотелось есть, и он вышел из своей комнаты. Тут все старосты и гласники повскакали было со своих мест, чтобы скорее подписывать этот приговор. Но Иван Иннокентиевич сердито замахал на них руками.
– Не отрывайте меня от дела! – сказал он сердито. – Приходите к вечерним занятиям. А ты, Спирин, – обратился он к дедушке Митрею, – сходи с этой запиской ко мне на квартиру. Пусть Клавдия Петровна пришлет мне чего-нибудь закусить.
К началу вечерних занятий старосты, писаря и гласники опять собрались у нас в канцелярии, но Иван Иннокентиевич все еще сидел у себя за закрытой дверью. Только часов около шести он потребовал всех к себе. Он сидел с видом победителя за своим письменным столом. Перед ним лежала раскрытая книга приговоров волостного схода и три пачки окладных листов на государственную оброчную подать, на губернский земский сбор и на волостные расходы.
Первым Иван Иннокентиевич попросил комского писаря Родионова вписать в книгу фамилии своего старосты и неграмотных гласников, потом потребовал у комского старосты его печать, несколько раз шлепнул этой печатью по подушечке с краской и осторожно приложил ее на вписанную фамилию старосты. И только после того попросил трех комских грамотных гласников расписаться в книге. Затем он вручил старосте под расписку окладные листы и разрешил ему отправляться восвояси.
Таким же манером Иван Иннокентиевич учинил потом подписи остальных старост и гласников в книге приговоров, вручил им окладные листы и в заключение строго-настрого наказал не задерживать присылку раскладочных приговоров и податных ведомостей, потому что время теперь военное, государство сильно нуждается в деньгах и начальство не потерпит задержки на местах с этим делом. Потом он спрятал книгу приговоров в свой железный ящик и стал свертывать свои дела на столе.
Старосты и писаря видели, что Иван Иннокентиевич собирается домой, и все еще что-то ждали от него. Но Иван Иннокентиевич не замечал этого или делал вид, что ничего не замечает. Тогда убейский писарь попросил его объяснить им, каким манером они должны производить раскладку государственной оброчной подати. Губернский земский сбор, волостные и сельские расходы надо раскладывать по бойцам. Это им ясно и понятно. А государственную оброчную подать требуется раскладывать с учетом размера и доходности каждого хозяйства по усмотрению сельского схода. В Коме это делается по-своему, мы, убейские, раскладываем на свой лад, а коряковские, те опять же своим манером. И так во всей волости. И никому не известно, кто из нас делает эту раскладку правильно. А от мужиков отбоя нет. Каждый год нарекания и обиды. Наши, убейские, обижаются, что мы делаем раскладку не по-коряковски. Ну а коряковские сердятся, что у них раскладка делается не по-убейски. У них-де эта раскладка правильнее. И здесь, у вас, нас каждый год ругают за эту раскладку. То не так, другое не этак. Заставляют по нескольку раз переделывать…
– Переделывать ваши раскладочные приговора нам нет никакого интереса, – заявил ему на это Иван Иннокентиевич. – Но, к сожалению, приходится исправлять их, потому что вы присылаете нам такие приговора, что в них сам Соломон Премудрый не разберется. Что касается порядка раскладки оброчной подати, то подсказывать вам этот порядок я не могу. Закон категорически воспрещает волостным властям вмешиваться в какой-либо форме в это дело. Закон требует производить эту раскладку сельским сходом по своему усмотрению, с учетом размера и доходности каждого крестьянского двора. Вот и руководствуйтесь этим правилом, а нас в это дело не вмешивайте. Вот все, что я могу сказать вам по этому поводу…
Тут Иван Иннокентиевич надел свое пальто, взял шляпу и трость с золотым набалдашником, сказал всем: «До свидания, господа!» – и не торопясь вышел из волости.
Никто не ожидал такого оборота дела. Все знали, что закон воспрещает волостным властям вмешиваться в раскладку оброчной подати. Уж на что Бирюков был хороший и обходительный человек, но даже он под всякими предлогами воздерживался помогать сельским писарям в этом деле. А куда как было бы легче, если бы волостной писарь, вручая старосте окладной лист на оброчную подать, давал бы одновременно примерную раскладочку этой подати. И писарю было бы легче, и староста мог бы действовать смелее. Потому что тогда он знал бы, куда ему надо гнуть с этим делом, куда заворачивать. Закон законом, а хороший совет начальства и закон ставит на свое место. Но ничего не поделаешь. На волостного писаря жаловаться некому…
– Обойдемся как-нибудь. Не первый раз, – нарушил общее молчание тесинский писарь Альбанов и первым отправился на свою комскую квартиру. За ним последовали остальные. Только безкишенский писарь Кожуховский задержался в волости и терпеливо стал ждать, когда Иван Фомич закончит разбираться со своими делами, чтобы потом поговорить с ним с глазу на глаз.
Наконец Иван Фомич свернул все свои папки с бумагами, положил их в шкаф.
– Что это ты, Трофим Андреич, совсем скис? – спросил он Кожуховского. – Нездоровится, что ли?
– Шуткуешь все, Иван Фомич. А мне не до смеха.
– Да что случилось-то?..
– Не видишь, что ли? – Тут Трофим Андреич помахал своими окладными листами. – Опять эту чертову раскладку надо делать.
– Ну и что?
– Просили Евтихиева дать примерную раскладочку оброчной подати. Куда там… Делайте, говорит, сами как хотите. По усмотрению сельского схода и все такое. А нас, говорит, в это дело не вмешивайте.
– Так это даже лучше. Тебе ведь не первый раз…
– Как бы не так! – Тут Трофим Андреич безнадежно махнул рукой. – Ты же сам знаешь, какая это морока. Как начнешь все сводить вместе – и пашню, и домашний скот, и бойцов, и полубойцов, так сразу, понимаешь, в голове начинается какое-то столпотворение, ум, понимаешь, начинает заходить за разум…
Дальше Трофим Андреич перешел с сердитого тона на просительный:
– В прошлом году ты, Иван Фомич, все это мне обмозговал, подсчитал и расписал. И мне было легко, и мужики на сходе были довольны. Уж ты подмогни мне и на этот раз, а я тебя честь честью отблагодарю. И деньгами, сколько следует, и мясом могу вознаградить. Борова к казанской откармливаю. Хороший боров.
– Знаешь что, Трофим Андреич. Завтра воскресенье. Занятий в волости не будет. Приходи сюда с этим делом пораньше. Поговорим не торопясь, без свидетелей. Только пива надо устроить. Без пива, знаешь, у нас такой разговор пойдет плохо…
– Известно, какой разговор без пива. Разве можно без пива такое дело.
– Тогда приходи завтра часам к десяти. Только не говори об этом никому. И насчет пива не забудь…
– Не забуду, не забуду.
И Трофим Андреич поплелся в сторожку договариваться с дедушкой Митреем насчет пива к завтрашнему дню.
Не успел Иван Фомич как следует отделаться от Трофима Андреича, как откуда ни возьмись чернокомский писарь Тесленков и ни с того ни с сего начал доказывать ему, что на мужика накладывают чересчур много податей: и оброчный налог, и какой-то губернский земский сбор, и наши волостные и сельские сборы.
– Четыре подати, понимаешь! И все на одни мужицкие плечи. Он ведь платит, платит, мужик-то, а потом, чего доброго, начнет лягаться…
– Тогда пишите приговор чернокомского общества о том, что вы отказываетесь платить казенные подати, а заодно волостные и сельские сборы…
Тесленков с недоумением уставился на Ивана Фомича, не понимая: серьезно он говорит это или шутит.
– Ты что, забыл, как за такие разговоры некоторых умников в Туруханск отправили? На жительство. Хочешь, чтобы насчет нас тоже кое-куда стукнули? Живо загремим оба.
Тут Тесленков сообразил, что он зарапортовался, и стал уверять Ивана Фомича, что он не за то, чтобы совсем не платить подати, а чтобы платить их по справедливости, по силе возможности…
– Это уж ваше внутреннее дело, – ответил Иван Фомич. – Раскладывайте на сходе так, чтобы на богатых приходилось больше, а на бедных меньше. Вот и все. Каждому обществу предоставлено право решать это дело по-своему.
– Да мы и так стараемся. По целой неделе ругаемся на сборне. Договоримся вроде обо всем, чтобы на каждого по силе возможности. А как начнем сводить концы с концами, получается совсем не то, что надо. У Тимофеева у нашего дом крестовый, двух работников держит и работницу, запрягает десять коней, пашет пятнадцать десятин, сепаратор имеет, косилку, молотилку, а у его соседа Медведева пятистенная избенка уж покособочилась, сеет с грехом пополам две десятины, скотишка тоже в обрез. А платят поровну. Объясни ты мне, Христа ради, в чем тут закавыка?
– Не так считаете.
– Так считаем. Только у нас получается не так, как надо.
– Значит, в чем-то ошибка. Сейчас мне надо идти домой. Приходи завтра с утра. В волости занятий не будет. Поговорим об этом не торопясь.
На другой день утром я тоже поплелся в волость. Там, по моим расчетам, должно быть много народа. Придут старосты со своими писарями рядить комских ямщиков. Может быть, сам Иван Иннокентиевич явится и будет рассказывать интересные истории. А потом, мне хотелось посмотреть, как сегодня встретятся у Ивана Фомича и будут себя вести друг с другом Трофим Андреич и чернокомский писарь Тесленков.
Дело в том, что нынче летом Тесленков сильно обидел Трофима Андреича. Обидел ни за что, просто из озорства. В волости все знали об этой истории и долго потешались над ней.
А мне почему-то было жаль тогда Трофима Андреича. И вообще, среди других писарей он выглядит каким-то жалким. По своему наряду он ничем не отличался от мужиков, навещающих волость. Только засаленная брезентовая сумка да спрятанная в ней небольшая чернильница с деревянной затычкой изобличали в нем писаря.
Пишет свои бумаги Трофим Андреич каким-то ровным, безликим почерком и по сравнению с другими писарями выглядит человеком малограмотным. Поэтому дела с разными отчетами и ведомостями, податными, гоньбовыми и призывными списками всегда у него не ладятся. Во время своих наездов в волость он целыми днями переделывает и переписывает их в нашей судейской. И каждый раз Иван Фомич бракует его работу.
Ко всему этому Трофим Андреич человек нудный. Разговаривать с людьми не любит, а говорит больше сам с собой. Пишет свои списки в судейской и все время что-то бормочет.
Другие писаря, если требуется что-то написать, расходятся по своим комским квартирам. На худой конец, отправляются в комскую сборню, которая всегда пустует, так как комский писарь Родионов работает там в особой писарской каморке. А Трофим Андреич всегда шел писать свои ведомости в нашу судейскую.
Это сильно не нравилось приезжим старостам и писарям. Судейская комнатенка была единственным в волости местом, где можно было собраться после занятий за ведром пива и поговорить о своих делах.
А тут сидит Трофим Андреич и что-то пишет. Пишет и все время что-то бормочет. А попробуй его оттуда выжить – он, чего доброго, еще пойдет жаловаться Ивану Иннокентиевичу. Неприятностей не оберешься. Евтихиев, известно, пьяных не терпит и выпивку в волости не одобряет. Оно конечно, пиво – не водка. Никто этим пивом пьяным не напивался. Но ведь как повернуть дело…
Дедушко Митрей был тоже недоволен Трофимом Андреичем. Оказывается, Трофим Андреич не только писал в судейской свои списки и ведомости, но и оставался там на ночевку. Постелет на диван свое пальтишко, закроет в окне ставень, защелкнет дверь на крючок и спит себе спокойно.
Утром дедушко Митрей приходит убирать судейскую. Стук-стук! Закрыто. Опять – стук-стук! Ответа нет. Тогда дедушко Митрей начинает уж ломиться. И тут Трофим Андреич открывает дверь – сам голый, на голове шапка-ушанка, крепко подвязанная под подбородком.
– Прямо срам, да и только, – жаловался дедушко Митрей. – И ведь спит до самых занятиев. Достучаться нельзя, ничего не слышит. А потом, и оставлять его на ночь в волости как то сумнительно. Что ни говори, а все-таки волостное правление, казенные дела, денежный ящик. По-настоящему-то я запру все это на замок и сплю в сторожке спокойно. А тут и сон не берет. Волость-то, выходит, открытая. Приходи ночью – пеший, конный, забирай денежный ящик и все казенные дела и вези куда хочешь. Не до сна тутака…
Один раз, когда дедушко Митрей очередной раз плакался на Трофима Андреича, услышал его Тесленков.
– Не беспокойся, дидо. С завтрашнего дня Трофим Андреич перейдет на квартиру.
– Черт его выживет отседова! Дожидайся, когда он перейдет.
– Раз я сказал перейдет, значит, перейдет, – решительно отрезал Тесленков. – Только ты ни в каком случае не выходи сегодня ночью из сторожки и арестантов своих не выпускай.
– Ладно, уж.
– И вообще не волновайся. Все будет в порядке.
Подобно Трофиму Андреичу, Тесленков тоже был не силен в грамоте, и у него тоже не все получалось со списками и ведомостями. Но Тесленков этим не сокрушался. Наоборот, он даже похвалялся своей малограмотностью и все время заявлял, что он простой мужик, что ему лучше пашню пахать да сено косить, а не составлять эти дурацкие списки и ведомости, по которым с мужика дерут три шкуры.
С помощниками волостного писаря Тесленков обращался запросто, пересыпал свою речь крепкими выражениями, к старшине и заседателю не проявлял никакого почтения, и, что меня больше всего удивляло, Иван Фомич и Павел Михайлович все время возились с ним, переделывали по нескольку раз его ведомости и не брали с него за это ни копейки.
Даже сам Иван Иннокентиевич любил видеть Тесленкова среди своих слушателей и беззлобно потешался над безграмотными выражениями в его донесениях. А Тесленков видел, что тому это нравится, и старался в каждую свою бумагу непременно ввернуть какой-нибудь заковыристый оборот.
Тесленков тоже был недоволен назойливым присутствием Трофима Андреича в нашей судейской и после разговора с дедушкой Митреем решил выжить его оттуда.
Ночью он вымазался сажей, чтобы не быть узнанным, нарвал поблизости в чьем-то огороде жгучей крапивы, открыл в судейской ставень и оконные створки, влез через окно к Трофиму Андреичу и начал хлестать его крапивой. Трофим Андреич с перепугу начал метаться, кричать «Караул!», а разве докричишься? Окно в судейской выходит в глухой переулок. Кто там услышит? А если и услышит, то не обратят внимания. «Опять, – скажут, – урядник кого-то в волости допрашивает. Вора какого-нибудь бьет. И что за народ нынче пошел. Никак без воровства не могут».
Отхлестав крапивой Трофима Андреича, Тесленков выпрыгнул в окно, прикрыл ставень да и был таков. А Трофим Андреич выбежал в чем мать родила на волостной двор и стал кричать на весь околоток. Тут из сторожки вышел дедушко Митрей со своими арестантами и начал его успокаивать. Кто-то сбегал в судейскую и принес оттуда его одежонку. А Трофим Андреич с перепугу да от обиды ударился в слезы. Спать обратно в судейскую он не пошел. В сторожке с арестантами спать тоже не пожелал, а попросил дедушку Митрея устроить его на ночь в арестантскую камеру и закрыть его там на замок.
Утром дедушко Митрей приходит с уборкой в судейскую и видит – стол перевернут, стулья разбросаны, диван разворочен, казенная лампа разбита… Что делать? Он ведь за казенное имущество в ответе. Пришлось идти к старшине: «Так, мол, и так… Какой-то фулиган вломился через окно в судейскую, исхлестал крапивой Трофима Андреича, опрокинул стол, разворотил диван, поломал казенную лампу… Как теперича быть?»
А старшина уж наведан был обо всем этом. Ему даже понравилось, что Трофима Андреича таким манером наконец выжили из судейской. Но для вида он очень рассердился, позвал Трофима Андреича и стал ему строго выговаривать, что он устраивает в волости разные переполохи, перепугал ночью сторожей и арестантов, разворотил в судейской диван, опрокинул стол и разбил казенную лампу, и что теперь волей-неволей придется обо всем этом составлять на него протокол и передавать дело становому приставу, чтобы он произвел по этому делу полицейское расследование.
– За такое дело я сам могу любого человека посадить на четверо суток, – заявил старшина Трофиму Андреичу. – Но мне тебя жалко. Составим протокол. Пусть дело решает дальше пристав. Может, своей властью с тобой обойдется, а может передать дело мировому судье. Как ни вертись, а тюрьмы тебе не миновать. Фулиганство в присутственном месте с порчей казенного имущества! Это не шутка…
Трофим Андреич никак не ожидал такого оборота и очень перепугался. Он стал оправдываться, рассказывать старшине, как все это случилось на самом деле. Но чем больше он оправдывался, тем непреклоннее становился старшина.
– Если тебя избили, – выговаривал он Трофиму Андреичу, – жалуйся. Укажи по фамилии этих фулиганов, свидетелей назови, которые все это видели, слышали. Чтобы все было как следовает, по форме. Ну, скажи – кто тебя избил, перепугал? Я его своей властью посажу в каталажку. Не знаешь? Тогда за все держи ответ. В самом деле: переполошил всю волость, учинил полный разгром казенного имущества и хочешь сухим выйти из воды. Нет! Это дело тебе даром не пройдет.
Конечно, Трофим Андреич дознался потом, кто выдрал его крапивой. Но на Тесленкова жаловаться побоялся и за хорошее угощение умолил старшину не составлять протокол. Лампу для волости он, конечно, купил, диван починил. А дальше все пошло обычным порядком. Во время своих наездов он продолжал переделывать и переписывать свои списки и отчеты, но делал это уж не в судейской, а на комской квартире. В суд на Тесленкова он не жаловался. Может быть, стеснялся предстать там в смешном виде, а может быть, трусил Тесленкова. Кто знает, что может вытворить этот бугай. Еще придумает что-нибудь более обидное.
Когда я пришел в волость, Иван Фомич и Трофим Андреич уже сидели в канцелярии за ведром пива. Иван Фомич то и дело прикладывался к ковшику, а Трофим Андреич ничего не пил и все время плакался на то, что у него ничего не получается с этой раскладкой.
– С губернским земским сбором, с волостными и сельскими податями еще туда-сюда. Раскладываю, как велено, по бойцам.
– Ну и как оно получается?
– Получается как надо. В обществе у нас девяносто семь бойцов и шесть стариков, значит, еще шесть полубойцов. А всего, значит, выходит ровно сто платежных душ. Теперь делю волостной налог на эти сто душ и получаю три рубля сорок четыре копейки на бойца. А дальше уж начисляю на каждого хозяина сколько следует. К примеру, у Евтифея Баранова два с половиной бойца. Значит, начисляю ему три рубля сорок четыре копейки, да еще три рубля сорок четыре копейки, да на старика-полубойца один рубль семьдесят две копейки. А всего получается восемь рублей шестьдесят копеек. С губернским земским сбором и сельским налогом поступаю так же. Земского сбора на душу приходится по три рубля восемьдесят четыре копейки, а сельского по три рубля двадцать… Так что на Евтифея Баранова я еще начисляю – земского три рубля восемьдесят четыре копейки плюс еще столько и еще полстолько, а всего десять рублей пятьдесят копеек, и сельского таким же манером ровно восемь рублей. И так на всех домохозяев. Вот посмотри…








