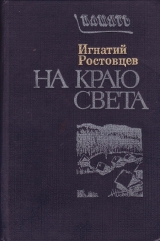
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 50 страниц)
А к вечеру к волости подали три пары подвод, посадили на них арестованных и повезли в Новоселову. Всех женщин и ребятишек, которые были в комской сборне, отправили на цыганских подводах.
Случай с цыганами на некоторое время нарушил привычную, размеренную жизнь в нашей волости. Сергей Ефимович заметил, что все его волостные друзья, за исключением старшины Безрукова, теперь чураются его. И старался не показываться к нам в волость. А если иногда и приходил, то держался строго официально. Но все же он, видимо, тяготился молчаливым бойкотом своих волостных друзей и искал случай восстановить хорошие отношения. Этот случай скоро представился.
Под самый николин день, который почитается в Брагиной престольным праздником, он застукал там целых три винокуренных завода и пригнал в волость две подводы с арестованными винокурами и четыре подводы с винокуренными аппаратами и кадками из-под браги. После этого он заявился в волость веселый, оживленный, готовый рассказать занимательные подробности поимки этих винокуров.
Нашим писарям, видимо, тоже надоело сердиться на Сергея Ефимовича из-за каких-то избитых цыган. И все охотно стали слушать забавные подробности поимки брагинских винокурщиков.
Иван Иннокентиевич тоже помаленьку сменил гнев на милость и на этот раз решил послушать рассказы Сергея Ефимовича. И Сергей Ефимович за закрытой дверью в избранном кругу рассказал ему все подробности своих брагинских похождений. Иван Иннокентиевич остался очень доволен его рассказом, а старшина Безруков и заседатель Ефремов смеялись до упада.
В общем, к обоюдному удовольствию, нарушенные хорошие отношения были восстановлены. И Сергей Ефимович вновь почувствовал себя своим человеком в нашей волостной канцелярии.
А мне этот случай запомнился на всю жизнь. И приезд цыган в волость, и допрос их Сергеем Ефимовичем и старшиной, и особенно молодой цыган Степа с гитарой. Такой красивый и такой беспомощный, с растерянной улыбкой.
Глава 9 1914 ГОД, МОБИЛИЗАЦИЯ
Через два примерно месяца после моего поступления в волость была объявлена мобилизация.
К этому времени я уже несколько освоился со своим положением подписаренка, вошел в привычную колею работы волостного правления. Каждый день волость с утра заполнялась народом. Весь день здесь мотались по своим делам приехавшие из деревень старосты и писаря, приходили мужики с жалобами в волостной суд, за паспортами, за какими-то справками и по всяким другим делам.
В общем, ничто не предвещало каких-либо чрезвычайных событий, и мобилизация свалилась на нас как снег на голову. Когда я утром шестнадцатого июля раньше обычного явился на занятия, то, к удивлению, застал в волости всех писарей и даже самого Ивана Иннокентиевича. Оказывается, ночью был получен приказ о призыве на службу старых солдат и ночью же были разосланы по волости нарочные с красными пакетами.
Теперь мне стало ясно, почему Иван Иннокентиевич со старшиной и заседателем проверяли на той неделе после занятий эти красные пакеты. Иван Иннокентиевич вынул тогда из своего железного ящика целую пачку таких пакетов, тщательно пересчитал их и спрятал обратно. А старшина и заседатель стояли рядом. Разговора их я не слышал, но лица их почему-то были очень озабоченны.
Потом я вспомнил разговор между Иваном Фомичом и Павлом Михайловичем о красных пакетах. Они знали, что есть тайное распоряжение держать пакеты наготове, но не придавали этому особенного значения. Эти пакеты, оказывается, всегда хранятся в волости в железном ящике, и волостному начальству каждый год с наступлением лета приходится проверять их. И все проходило спокойно. Может, и на этот раз отделаемся только испугом? Воевать-то вроде не с кем. А впрочем, мало ли что взбредет в голову военному начальству. Могут призвать несколько возрастов на какие-нибудь маневры. В общем, Иван Фомич и Павел Михайлович не придали тогда всему этому особого значения и решили, что это очередная проверка красных пакетов и дело, как всегда, ею и ограничится. А оказывается, все получилось по-другому.
В первый день мобилизации в волости не произошло особенных изменений. Только приходящего народа почти совсем не было. Так что писаря заняты были больше разговорами о том, будет ли война или дело обойдется только тем, что впустую переполошат народ и оторвут мужиков от работы.
А Иван Иннокентиевич против обыкновения был в этот день сильно озабочен. Он сразу же послал ходока за комским старостой и урядником, потом быстро накатал строгое предписание всем сельским старостам, чтобы они на третий день мобилизации явились в волость со своими сотскими и десятскими для наведения порядка в Коме и на комском перевозе во время следования мобилизованных на сборный пункт в Новоселову. Эту бумажку я немедленно напечатал на гектографе, а Петька Казачонок расписал ее всем сельским старостам и на конвертах, по указанию Ивана Иннокентиевича, сделал жирные надписи: «В. срочно. По мобилизации». Эти пакеты тоже разослали по волости нарочными.
По случаю мобилизации старшина Безруков напустил на себя важность и с озабоченным видом мотался из угла в угол, не зная, что делать, куда спешить, на кого нажимать и кого подтягивать. Он несколько раз совался к Ивану Иннокентиевичу, но тот только отмахивался от него.
А волостного заседателя Ефремова в волости уже не было. Он, оказывается, по своим годам попал под мобилизацию, так что должен был вместе со всеми отправляться на сборный пункт. И на его место немедленно вызвали из Витебки какого-то Станислава Болина.
Через некоторое время в волость заявились урядник Сергей Ефимович и комский староста и о чем-то долго совещались с Иваном Иннокентиевичем. Разговор у них, как мы потом узнали, шел о комском перевозе. Паром на перевозе старенький, от силы берет шесть подвод. А на четвертый день из всех восемнадцати деревень волости хлынут мобилизованные. Несколько сот человек. Да не одни, а с провожающими – с отцами, с матерями, с женами, а может быть, и с малыми детьми. До Новоселовой мобилизованные должны будут ехать на своих подводах. Значит, на перевозе скопится много народа. Легко ли будет переправить на ту сторону всю эту ораву! А народ приедет пьяный, настроен будет бузливо против начальства. Да и в Коме тоже надо иметь надзор. Здесь волость, монополка, несколько купцов, с которыми у мужиков свои счеты. Мало ли что может быть. Вот и решили вызвать всех старост, сотских, десятских, чтобы они держали здесь порядок.
После разговора с Иваном Иннокентиевичем комский староста нарядил несколько плотников спешно ремонтировать паром. Беда, этот комский паром, того и гляди, рассыплется на ходу посредине реки. Поэтому решили на всякий случай пригнать на перевоз несколько больших лодок и заблаговременно нарядить на ту сторону реки десятка три подвод для перевозки мобилизованных на сборный пункт в Новоселову.
А в канцелярии у нас разговор все время вертелся о том, с кем мы собираемся воевать, раз проводится такая большая мобилизация. Но разговор как-то не клеился, так как наши писаря ничего вразумительного сказать об этом не могли. Поэтому как-то незаметно все внимание сосредоточилось на том, как будут вести себя мобилизованные, когда будут следовать через Кому на перевоз. Всем было ясно, что волостному начальству на глаза им лучше не показываться.
К вечеру стали приезжать нарочные из деревень с первыми донесениями от старост о мобилизации. Судя по этим донесениям, все призываемые в назначенный срок выедут в Кому для следования оттуда к сборному пункту.
На другой день в волость прискакал сам пристав. Это был тот самый пристав, который приезжал к нам в Кульчек выколачивать с мужиков подати, в том же мундире с погонами, но только почему-то без револьвера.
Пристав уселся в нашей общей канцелярии за большим столом и стал расспрашивать Ивана Иннокентиевича и урядника, как обстоят дела в волости с мобилизацией. Узнав, что мобилизованные, судя по всему, бунтовать у нас не собираются, он облегченно вздохнул и заявил, что он за Комскую волость особенно не беспокоится. Его пугает Ачинско-Минусинский тракт, по которому через два дня повалят запасные со всего уезда. Там можно ждать любое. И тут пристав потребовал от старшины направить в Новоселову в его распоряжение всех сотских от Комской волости. Тогда старшина жалобным голосом стал просить пристава о том, чтобы он не забирал себе наших сотских, что сотские нам самим нужны, так как в Коме и на перевозе сгрудится видимо-невидимо народу. Мало ли что может случиться…
– У вас есть восемнадцать старост и больше тридцати десятских. Можно навести любой порядок, – отрезал пристав. – А сотских немедленно без разговоров гоните ко мне в Новоселову.
Тут старшина еще о чем-то стал просить пристава. Но тот очень рассердился:
– Благодари бога, что я старост и десятских тебе оставляю. И все из-за этого дурацкого комского перевоза. А то угнал бы всю вашу сельскую полицию…
А потом пристав повел речь с Иваном Иннокентиевичем насчет того, что в народе созрело какое-то недовольство к начальству. Каждый мужик волком смотрит на любого представителя власти, особенно на чинов полиции.
– Все мы, – говорил он, – чувствуем себя как на пороховой бочке. Достаточно одного неосторожного шага, чтобы где-нибудь да заварилась каша. Случись что-нибудь – все мы окажемся как в мышеловке. В центральных губерниях имеется сельская полицейская стража. На каждую тысячу человек населения положен один стражник. Если взять вашу волость, в которой живет свыше десяти тысяч человек, это было бы десять надежных, дисциплинированных, вооруженных унтер-офицеров. А у вас на волость один урядник. Что он сделает?.. От сельской же полиции никакого проку. Возьмем вашу Комскую волость: восемнадцать сельских обществ – восемнадцать неграмотных старост и тридцать с лишним неграмотных десятских… Все они клянут свою общественную службу. Попробуй заставить их наводить порядок, если, грешным делом, начнется какая-нибудь заваруха. Они сами начнут бузить первыми. Ну а заваруха непременно начнется. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. И к этому надо быть готовым. Особенно сейчас с мобилизованными. У себя по деревням они бузить не догадаются, а как съедутся сюда, так сразу же начнут сводить счеты с начальством. Одного урядник припугнул, у другого самовар за подать отобрали, третьего в волости невежливо приняли. Это ли не обиды. А тут еще ваш перевоз. Он больше всего меня беспокоит. Непременно нарядите туда всех старост и десятских, чтобы держали там порядок…
– А как, господин пристав, с волостью? – опять осмелился задать вопрос старшина. – Здесь ведь тоже придется выставлять охрану?
– Соображайте сами. Своя голова есть на плечах, – сказал пристав и ушел с Иваном Иннокентиевичем в его комнату. Они закрылись там и о чем-то долго беседовали с глазу на глаз. А потом пристав спешно уехал в Новоселову и увез с собою нашего урядника.
На второй и на третий день занятия в волости велись обычным порядком. Все писаря аккуратно приходили на работу и сидели там положенное время. Но волость пустовала. Никто в эти дни не заходил к нам по своим делам.
А из Новоселовой и из деревень все время приезжали какие-то нарочные. Иван Иннокентиевич со старшиной были начеку и с утра до поздней ночи сидели в волости. Нарочных из деревень Иван Иннокентиевич досконально расспрашивал о том, как у них обстоят дела. Благополучные донесения старост его не успокаивали, и он был почему-то уверен, что мобилизованные непременно начнут бунтовать. В деревнях они ведут себя спокойно, потому что не будешь же бунтовать против своего старосты. А съедутся сюда, непременно начнут бузить…
На четвертый день мобилизации я пришел на работу, как всегда, раньше других и не нашел в волости ни одной души. Все окна, все двери в канцелярии были настежь открыты, но ни ходоков, ни дедушки Митрея не было. Старшина и Иван Иннокентиевич, которые безвылазно, с утра до ночи, сидели здесь предыдущие дни, тоже отсутствовали. И ни одного старосты, ни одного десятского. Все пусто… Хоть шаром покати.
Поначалу я решил, что так и надо: старшина мог спешно выехать куда-нибудь по делам, а Иван Иннокентиевич… а Иван Иннокентиевич и другие писаря придут позднее. Они лучше меня знают, что им сегодня делать.
И я стал ждать их прихода на работу. Ведь сегодня мобилизованные должны повалить из своих деревень в Новоселову на сборный пункт. И все через Кому, мимо нашего волостного правления. Интересно, как будут принимать их Иван Иннокентиевич и другие писаря, если они будут заходить в волость. А заходить они к нам будут непременно.
Между тем время давно перевалило уже за девять часов. Комская улица заметно оживилась. По ней то и дело с гиком и шумом проезжали парные подводы с мобилизованными. Но никто из нашего начальства, из писарей, из ходоков и сторожей в волость не являлся. Даже Петька Казачонок, который жил по соседству с волостью, даже он не показывался.
Тогда я стал догадываться, что все наше начальство, писаря, ходоки и ямщики в волость сегодня не явятся. Судя по их разговорам, они были уверены, что мобилизованные при следовании через Кому непременно начнут громить волость и расправляться с волостным начальством. И не особенно будут разбираться, кто здесь начальник, а кто просто ходок или ямщик. Всех будут лупить, кто подвернется под руку.
А потом я вспомнил, как Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович все эти дни сговаривались поехать зачем-то всем скопом на заимку. Тогда я не сообразил, зачем они собираются летом ехать на заимку, а теперь мне стало ясно, что они сговаривались прятаться там от мобилизованных. Глядя на них, наши ходоки и ямщики и даже дедушко Митрей тоже решили на всякий случай отсиживаться по домам.
«Что же мне теперь делать? – спрашивал я себя. – Оставаться здесь или тоже убираться домой?» Я понимал, что мне лучше будет уйти отсюда поскорее, с другой стороны, мне почему-то было стыдно оставлять всю волостную канцелярию открытой, без присмотра.
А мобилизованные все чаще и чаще стали заходить в волость и спрашивать старшину, заседателя и волостного писаря. Узнав, что в волости ни души нет, одни уходили спокойно, а другие сердито матюгались и тоже уходили. Никто из них меня не тронул, не обругал, не обидел. Так что сидеть в волости мне было совсем не страшно.
Вдруг к волостным воротам на бешеном карьере подкатила тройка. Ямщик с силой осадил лошадей. В тарантасе сидело три человека. Один из них соскочил на землю, выхватил из коробка топор и бросился во двор. Через минуту он с криком ворвался в нашу канцелярию:
– Старшину давай! Урядника! Писаря! Всех порубаю, так их растак!..
А я нисколько не испугался этого человека, так как узнал в нем моего родного дяденьку Ефима из Черной Комы. И я его сразу же окликнул:
– Никого нет, дядя Ефим. Я с утра один здесь сижу…
Тут дядя Ефим сразу опомнился, узнал меня, вспомнил, что я поступил в волость подписаренком, и расплакался пьяными слезами.
– Акеха!!! Племяш, что ты тут делаешь? Давай, брат, отсюдова. А то какой-нибудь дурак, вроде меня, пришибет еще.
– А как же я все оставлю здесь? – попытался я урезонить дядю Ефима.
– Никто ничего тут не тронет. Кому нужны ваши бумаги? Пошли!
В тарантасе около ворот сидели еще два мои чернавские дяди – дядя Еким и дядя Ерофей, а на облучке какой-то чернавский мужик. Дядя Еким и дядя Ерофей тоже были пьяным-пьяны, но они сразу узнали меня и приветствовали радостным матом. После того как мы устроились в тарантасе, ямщик ударил по лошадям и закричал: «Грабят!» Мои дяди тоже закричали в три голоса: «Караул! Грабят!» Кони сорвались с места и бешеным галопом бросились по улице. Через каких-нибудь три-четыре минуты я уже открывал ворота у Малаховых, и тетка Татьяна со слезами встречала своих мобилизованных братьев.
Только мы выпрягли лошадей и уселись пить чай, как на улице показался скачущий во весь опор верховой. Он что-то кричал и размахивал руками. Увидев в нашем доме целую компанию за столом, он сердито закричал:
– Чего расселись!.. Там монополку громят, а вы чаи распиваете!..
Тут он огрел своего коня и поскакал дальше. А мои дядья сразу забыли и о выпивке, и о закуске, выбежали во двор, вскочили на своих коней и поскакали к монополке.
Дядя Яков не торопясь запряг коня в тарантас и тоже поехал туда. Я, разумеется, пристроился с ним, чтобы посмотреть, что там делается.
Монополка в Коме помещается недалеко от волости, вверх по улице, домов через десять. Когда мы туда приехали, вся улица около монополки была уже забита телегами и запружена народом. Мы остановились в стороне, около чьего-то дома. Дядя Яков поручил мне стеречь подводу, а сам отправился посмотреть, что делается около монополки. Мне тоже хотелось видеть, что там творится, и я забрался на ближайший забор. Отсюда все было хорошо видно. Монополка – большой крестовый дом с высоким крыльцом в улицу – была заперта на замок, ставни на окнах наглухо закрыты. На крыльце, у палисадника и у ворот толпился народ, слышались крики: «Скоро там?!», «Выволакивай его!», «Что будем делать, мужики?!», «Чего там ждать! Ломай дверь!».
Тут сразу откуда-то появились топоры, и несколько человек принялись рубить дверь монополки. Однако она не поддавалась, так как была крепко окована железом. Тогда откуда-то притащили длинное бревно и с криком: «Раз, два, взяли!» – стали вышибать дверь. Несколько ударов, и она вместе с косяками подалась внутрь. Тут же стали разбивать ставни у окон. Наконец дверь и оконные ставни были выворочены, и люди ворвались в монополку. Через минуту в окна и в дверь полетели бутылки с водкой. Кто был ближе, хватали эти бутылки на лету. Кто был далеко, изо всех сил проталкивались вперед, чтобы тоже поймать себе что-нибудь. Тем временем на дворе разбили амбар и потащили из него водку в ящиках. Вокруг этих ящиков сразу началась свалка. А мужики, которые были далеко и не могли пробиться ближе, кричали, ругались, требовали делить по справедливости на всех.
Однако шум и волнение продолжались недолго. Водка и в монополке, и на складе в амбаре быстро кончилась, и все стали расходиться и разъезжаться.
Через некоторое время появился дядя Яков с бутылкой водки и большим синяком на лбу. А потом объявились дядя Ефим и дядя Еким. У них дела по части водки обстояли немного лучше. Они принимали участие в разгроме винного амбара, и им перепало там по нескольку бутылок.
На другой день я пошел на занятия попозже и еще издали увидел, что ставни на окнах в волости наглухо закрыты. Ясно было, что там опять никого нет. Сторожка и двери волостного правления были на замке. Значит, делать мне там было нечего, и я надумал пойти на комский перевоз посмотреть, как там плавят через Енисей мобилизованных.
Перевоз устроен в Коме под высокой горой, которая выше села тянется над Енисеем. Верстах в трех от села эта гора отступает от реки и образует высокий залавок. Да и Енисей собрался здесь, в одно русло. Вот на этом очень удобном для перевоза месте комское общество и поставило паром. А дорогу сюда пришлось прокапывать, а местами прямо прорубать в горе над самой рекой. И вот теперь на этой дороге сгрудились сотни подвод с мобилизованными.
День был жаркий. Хотя время уже перевалило за полдень, солнце все еще пекло. Усталые лошади понуро стояли на пыльной дороге и лениво отмахивались хвостами от гнуса. А на подводах и на обочинах дороги располагались мобилизованные с провожающими. В их поведении я не заметил ничего, кроме большой усталости и терпеливого ожидания скорее продвинуться вперед к перевозу. А некоторые мобилизованные лежали, раскинувшись на траве у дороги, и спали. Молодой мужик со старой женщиной одиноко сидели в стороне под березой. На телеге насупротив понуро сидел старик в картузе. На другой телеге сидели муж с женой и двумя ребятишками. У женщины был измученный, заплаканный вид. Ребятишки жались к отцу.
А дальше шла уж прорытая к перевозу дорога. Над ней почти отвесно высилась покрытая густым кустарником гора. А с другой стороны обрыв прямо в Енисей. Дорога узкая, каменистая; никуда с нее ни сойти, ни отъехать. И хоть на ней скопилось много народа, но не слышно было ни громкого разговора, ни смеха, ни песен, как это бывает на многолюдье. И слез не было и причитаний. Все держались ближе друг к другу. Все как бы прислушивались к чему-то там впереди и ждали той роковой минуты, когда оборвется последняя нить, связывающая осиротевшие семьи с их уходящими кормильцами. А оттуда, с перевоза, время от времени появлялись старые и молодые женщины. Они молчаливо брели по краю дороги с окаменелыми лицами. Они не плакали, но на их лицах как бы застыла последняя боль прощания. Никто не окликал их, не заговаривал с ними. Все с сочувствием смотрели на них и думали о том, что скоро-скоро и для них наступит момент последнего расставания.
Поначалу мне хотелось увидеть здесь кого-нибудь из наших кульчекских. Но никого из них я в этой очереди не приметил. Подобно моим чернавским дядюшкам, они, видимо, догуливали в Коме у своих родственников последние денечки.
А потом я стал присматриваться к мобилизованным и их провожающим, и мне сразу припомнились проводы наших рекрутов в Кульчеке. В этот день к каждому из них с утра собираются в дом родственники, друзья и соседи. После прощального завтрака с участием всей родни начинается обряд прощания. Рекрут кланяется земным поклоном тятеньке и мамоньке и просит у них родительское благословение. Отец и мать со слезами благословляют сына на дальнюю сторону, на тяжелую солдатскую долю. Если новобранец женат, он кланяется своей молодой жене тоже земным поклоном и просит у нее прощения за все свои обиды и наказывает ей оставаться ему верной женой. Потом он кланяется поясным поклоном всему честному народу, пришедшему на его проводы, и просит всех не поминать его лихом, если ему придется сложить свою головушку на чужой стороне. Во время этого прощания все плачут. Плачут отец и мать, голосит жена, если рекрут женатый, плачут братья и сестры, близкие родственники и родственницы, причитают сердобольные соседки.
А на дворе рекрута ожидает уже целая толпа и встречает его песней. С песней выводят его в улицу, с песней ведут за деревню. Здесь на проводы рекрутов собирается вся деревня, от мала до велика. Родственники, конечно, по-прежнему плачут, но их слезы и причитания заглушаются многоголосой песней. Поют складно и дружно и как-то серьезно, как бы делают какое-то большое и важное дело. В гулянке поют хоть и дружно, но как-то вразброд. Одни вместе со всеми, потом перестают петь, что-то говорят друг с другом, шутят, а потом, как бы опомнившись, бросаются в общий водоворот песни и даже покрывают всех своими голосами. А тут поют все как-то по-серьезному, как бы молитву. И песня звучит здорово и оглушительно. Но вызывает у всех не радость, а слезы. Рекрута ведут куда-то как бы на казнь, или на расправу, или в тюрьму и заранее отпевают его. И чем сильнее, чем согласнее звучит песня, тем больше она вызывает ответных слез. Тут даже посторонние люди начинают плакать. Да и как не плакать. У одних где-то на чужой стороне служат сыновья, у других братовья, у молодых солдаток мужья. А кое у кого угнанные на войну так и остались лежать в далеких маньчжурских степях, и кости их там давно уж истлели.
Но вот песня умолкает. Рекрутов усаживают на подводы. Слышатся плач и причитания, и ямщики трогают лошадей. Проводы закончены, и люди расходятся по домам. А родные остаются на дороге и долго-долго смотрят на удаляющиеся подводы, пока они не скроются из виду.
И теперь, когда я гляжу на длинную очередь подвод с мобилизованными, мне ясно представился наш Кульчек. Как и с рекрутами, там в каждом доме проходил обряд прощания мобилизованного с отцом и матерью, с женой и малыми детьми, с братьями и сестрами, со всеми родственниками. Их так же с песнями вели за околицу на безкишенскую дорогу, и здесь проходило последнее расставание. Но тут было больше горя, больше слез и причитаний, так как отправляли не трех-четырех, чаще всего холостых, новобранцев, а тридцать-сорок семейных мужиков, и провожали их прямо на войну, на убой, под неприятельские пули. И горе каждой семьи множилось на число провожаемых на войну кормильцев, на плач и крик оставляемых дома отцов и матерей, жен и детей. Это горе все копилось, копилось и при последнем расставании выливалось в одно большое отчаяние.
Чем ближе к перевозу, тем тревожнее становилось на дороге. Одни для чего-то пересматривали свой немудрящий багаж, другие поправляли упряжь на лошадях, третьи отходили за чем-то от своих подвод к соседям и сразу же возвращались обратно…
Но вот и залавок с перевозом. Здесь я бывал много раз, когда еще учился в комской школе. Тогда мы приходили сюда всей школой, чтобы посмотреть на пароходы, которые изредка причаливали здесь к нашему берегу. Но тогда, кроме перевозчиков да двух-трех пассажиров, только что приехавших из Красноярска, здесь никого не было. А сейчас весь залавок был забит подводами, а на берегу против причала виднелась большая толпа. В ней резко выделялись старосты и десятские. Несмотря на жаркую погоду, все они были почему-то в черных шабурах, и у всех на груди были приколоты большие медные бляхи. Всеми ими верховодил комский староста – высокий бородатый мужик тоже в шабуре и с огромной бляхой. А провожающие – старики, старухи и женщины, некоторые даже с детьми, с обреченным видом ждали, когда с той стороны подойдет паром и наступит для них горький и страшный момент последнего расставания.
А момент этот все приближался и приближался. Очередные подводы были подтянуты с залавка к самому спуску к реке. Паром уже отчалил с той стороны. В толпе на берегу не слышно было никакого разговора. Все молча смотрели на паром. Только чья-то гармонь время от времени жалобно пиликала и сразу же как бы смущенно замолкала. А паром здорово относило вниз, и лопашные изо всех сил работали на нем на гребях, стараясь скорее прибиться к берегу. Наконец они кое-как подошли к этой стороне, много ниже перевоза, и смогли выбросить на берег чалку. Несколько старост и десятских уж ждали их там и потянули паром вверх. И как только он стал подходить к причалу, комский староста подал знак готовиться к погрузке. Тут сразу же раздались отчаянные крики и причитания. Женщины, сидевшие до этого с каменными лицами, начали голосить, дети плакать. Мобилизованные тоже плакали, но плакали молча. Одни из них падали ниц перед своими родными, другие последний раз обнимали своих жен и детей. А которые были без провожающих, смотрели на все это и по-своему переживали общее горе.
Тем временем старосты и десятские погрузили подводы на паром и подошли к толпе. Они очень уважительно стали звать в первую очередь тех, которые были без провожающих. И несколько человек, махнув на все рукой, последовали на паром. Среди них был гармонист, который до этого что-то осторожно напиликивал на своей гармошке. Теперь он в последний раз заиграл что-то веселое, а потом в исступлении ударил свою гармошку о прибрежный камень и с остервенением стал втаптывать в землю разлетевшиеся планки. А другой здоровенный мужик, похожий на нашего Григория Щетникова, выхватил из кармана бутылку с водкой, выхлопнул пробку и одним духом, не отрываясь, выпил ее до дна. А посудину бросил далеко-далеко в Енисей. Семейных солдат старосты и десятские отрывали от родных и под руки отводили на паром. Ни одно место в нашей Комской волости, ни одна околица наших деревень не были свидетелями такого отчаяния, как этот проклятый комский перевоз. Восемнадцать деревень свезли сюда свое горе, свои слезы, и они как бы захлестнули здесь все вокруг. И эту узкую дорогу, и этот залавок, на котором сгрудилось до сотни подвод, и этот старый, дощатый, еле живой паром, и этот широкий, могучий, холодный, равнодушный ко всему, стремительный Енисей.
И вот загруженный до отказа паром отваливает от берега и медленно ползет против течения. Он должен почти на версту подняться вверх, чтобы прибиться на той стороне прямо к причалу. А провожающие – женщины, старики, дети – со слезами идут за ним по берегу. Но вот паром под прямым углом поворотил в реку. Его начинает сильно сносить вниз по течению, но он медленно и упорно продвигается на ту сторону и наконец прибивается там к причалу. С него сходят люди, съезжают подводы. Кто-то машет оттуда, но узнать своих на таком расстоянии уж невозможно. А провожающие все равно стоят и смотрят туда. Смотрят и ничего уже не видят, кроме огромной холодной равнодушной реки, которая, как бы играя на солнце, стремительно катится куда-то в неведомую даль.
На перевозе я пробыл недолго. Проводил на ту сторону только один паром. Оставаться дольше было тяжело. Да и что я там мог увидеть, кроме того, что уже наблюдал. Паром еще не отчалил с той стороны, а старосты и десятские стали уже подтягивать к причалу очередные подводы. И сразу послышались слезы и причитания.
На обратном пути я наблюдал больше почему-то не запасных солдат, призываемых на войну, а их отцов и матерей, их жен и детей. Им не грозила здесь война, голод, смертоубийство. Они знали, что всех мобилизованных погонят воевать – на смерть и в лучшем случае на увечье. И тут мне вспомнилась смерть нашего дальнего родственника, который, как и Ефрем Кожуховский, все время хлопотал после солдатчины о белом билете.
Дядя Василий воевал во время русско-японской войны. В сражении под Мукденом ему прострелили правое плечо, и с войны он пришел калекой. Но белый билет ему не дали, а зачислили в запас. Так что при первой же мобилизации он подлежал призыву. Дядя Василий хлопотал, чтобы ему выдали белый билет, и его два раза вызывали в Минусинск на комиссию. И оба раза почему-то оставляли в запасе. И это так на него подействовало, что он со дня на день стал ждать мобилизации. Повторный призыв на солдатскую службу так пугал дядю Василия, что он нынче зимой застрелился. Взял свою винтовку-малопульку, ушел на гумно и предпочел рассчитаться с жизнью дома.
Утром следующего дня я, как всегда, пораньше явился в волость. Дедушко Митрей был уже на своем месте и наводил в канцелярии чистоту и порядок. Но старшина, Иван Иннокентиевич и его помощники опять отсутствовали. Даже волостных ямщиков не было.
Днем в волость украдкой заглянул Иван Фомич, посидел малость, узнал, как у нас тут обстоят дела, посоветовал нам не оставлять волость без присмотра и незаметно куда-то ушел.
На пятый день объявился наконец старшина. Явился он в хорошем настроении и, судя по всему, неплохо провел все это время. Теперь он очень хотел что-то делать, чем-то распоряжаться. Но без Ивана Иннокентиевича не знал, куда поспешать, на кого нажимать, кого подтягивать. И тут как раз явился с перевоза комский староста узнать, что делать дальше. Переправа мобилизованных идет день и ночь и уже почти закончена. Староста и десятские на перевозе совсем выбились из сил и собираются разъезжаться по домам. А как быть с переправой подвод из Новоселовой? На той стороне их скопилось уж сотни три, не меньше. Одним комским перевозчикам с этим делом не управиться. Как бы не вышло какой-нибудь мороки.








