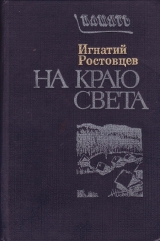
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 50 страниц)
Глава 3 ПОСЕМЕЙНЫЕ СПИСКИ
После того как мои арестантские дела наладились, Иван Фомич вручил мне пачку метрических выписей Комского, Анашенского, Медведевского и Сисимского церковных приходов на новорожденных и умерших и велел разнести этих новорожденных и умерших по волостным посемейным спискам.
– Давай, брат, давай! Пора тебе по-настоящему входить в дело, – наставлял он меня. – Действуй. Но учти – к этой работе надо относиться особенно строго. Никаких помарок, никаких исправлений и тем более ошибок. Это ведь на людей, понимаешь, списки, а не на домашний скот к податным ведомостям. По ним составляются призывные списки на рекрутов. Тут нужна пущая осторожность.
Я и сам понимал, какое важное дело поручает мне Иван Фомич. Посемейные списки велись в волости на каждую деревню, на каждое село по отдельности. Это были толстые книги, изготовленные в Красноярске в типографии, и записи в них делались по строго определенной форме. Люди, проживавшие в волости, числились в этих списках семьями. Семьи у всех огромные, и в них трудно разобраться. У другого хозяина несколько сыновей и несколько дочерей. Сыновья уж все поженились, у них пошли свои дети. Старшие сыновья уж выделились и живут своим домохозяйством, а по списку числятся по-прежнему в отцовской семье. А дочери повыходили замуж в другие деревни, а отметок об этом тоже нет. Только записи об отношении мужчин к воинской повинности велись в этих списках более или менее исправно. И почти в каждой семье на мужчин можно было найти такие записи: «Призван в 19… г. на действительную военную службу», «Зачислен в 19… г. ратником ополчения первого (или второго) разряда», «Освобожден в 19… г. от военной службы по состоянию здоровья», «Убит под Мукденом во время русско-японской войны».
Хотя посемейные списки старались вести аккуратно, но все равно они были неточные и все время исправлялись и дополнялись. Неправильные записи или случайные ошибки правили красными чернилами. Тут надо было не семь, а семьдесят семь раз отмерить и проверить, прежде чем внести какую-нибудь запись.
Ко всему этому в посемейных списках имелось много домохозяев с одинаковыми фамилиями. В Коме было много Кирилловых, Анашкиных, Зыковых и Черновых, в Анаше – Колеговых и Терсковых, в Улазах – Черкасовых и Сиротининых, в понизовых деревнях Лалетиных и Соломатовых, а Сисим и Корякова были почти сплошь заселены Потылицыными и Юшковыми. Кроме того, почти в каждой деревне имелись свои Непомнящие и Беспрозванные. У многих сходились не только фамилии, но и имена.
Когда я сунулся в комский посемейный список, то сразу застрял там среди нескольких косяков Зыковых, Анашкиных и Черновых, просидел два дня и не осмелился сделать ни одной записи. Иван Фомич заметил это и посоветовал мне отложить в сторону комский список и начать работу с кульчекских метрик. «С кульчекским списком, – сказал он, – тебе разобраться будет легче. А с комскими поможет Родионов».
С кульчекским посемейным списком я действительно быстро разобрался и вписал в него несколько новорожденных и умерших. К своему удивлению я не нашел в списке ни Матюгова, ни Ивочкина, ни Ворошкова и других наших поселенцев. На мой недоуменный вопрос об этом Иван Фомич объяснил, что все эти поселенцы – бобыли. Пашни они не пашут, скота не держат, податей не платят, повинностей не отбывают. Как поселенцы они лишены права голоса на сходе, так что живут в деревне как бы на птичьих правах. Они считаются приписанными к нашей деревне. Это значит, что при явке на поселение они были направлены на жительство в Кульчек, а может, сами попросились туда, и с тех пор считаются приписанными к Кульчеку. Но волость к их жизни никакого касательства после этого уж не имеет и в посемейных списках их не числит.
Другое дело поселенцы, которые обзавелись семьями, имеют свое домообзаводство, пашут пашню, разводят скотишко. Право голоса на сельском сходе они тоже не имеют, но облагаются всеми податями, отбывают все крестьянские повинности, и их детей, вместе с сыновьями местных старожилов, забирают по рекрутскому призыву в солдаты.
Теперь я должен был приступить к работе над комскими списками и предварительно договориться об этом с комским писарем Родионовым. Несмотря на недолгое пребывание в волости, я уже хорошо знал Кирилла Тихоновича. Ему едва исполнилось семнадцать лет, а он заправлял уж всем комским обществом. А в комском обществе свыше трехсот домохозяев, не считая поселенцев и всякой приезжей голытьбы. Но трудность его писарской работы состояла не в том, что общество было здесь большое, а в том, что народ в Коме был привередливый и зловредный.
У нас в Кульчеке мужики все неграмотные. Редко-редко кто может с грехом пополам накорябать свою фамилию. А в Коме школа открылась много раньше нашей, и у них среди мужиков уж много грамотеев. А потом, комские мужики любят тереться в волости около писарей и начальства, ко всему прислушиваться да принюхиваться. Кроме того, в Коме много народа, занятого разным рукомеслом – сапожники, шерстобиты, пимокаты, овчинники, кузнецы, плотники, коробейники, не говоря о поселенцах. Это народ все бывалый. Многие пашут пашню, держат скот, платят подати, имеют право голоса на сходе и гнут там свою линию. Из-за этого в Коме на сходах всегда бывает много споров и раздоров.
И тем не менее Родионов хорошо справлялся там со своим делом, и Ивану Иннокентиевичу не приходилось жучить его за задержку разных срочных ведомостей и отчетов. Наоборот, его часто ставили в пример другим писарям.
В волостном правлении Кирилл Тихонович бывал почти каждый день. То принесет какую-нибудь срочную сводку, то явится к приходу волостной почты из Новоселовой, то просто так зайдет послушать веселые рассказы Ивана Иннокентиевича, поговорить о делах с Иваном Фомичом, Павлом Михайловичем или Иваном Осиповичем. И все принимали его как своего. Даже Петька старался показать ему свое расположение.
У меня с Родионовым сразу же установились хорошие взаимоотношения. В отличие от других писарей, которые не замечали меня при своих наездах в волость, он с первых же дней моего поступления в подписаренки относился ко мне как к равному, ничем не подчеркивая свое превосходство в знании канцелярской премудрости. При наших встречах он всегда интересовался моими делами, спрашивал, что я пишу для Ивана Фомича и Павла Михайловича, как ко мне относится Иван Иннокентиевич. Узнав, что он уж назначил мне жалованье три рубля в месяц, Кирилл Тихонович сначала рассердился на то, что он так скупится, а потом махнул рукой и сказал: «И то хорошо… Три рубля тоже деньги. На дороге не валяются. Лучше, чем работать даром».
А позже, когда мы с ним познакомились ближе, он стал интересоваться тем, читаю ли я книги и что мне удалось достать интересное. Из всех помощников Ивана Иннокентиевича и сельских писарей, которые круглый год наезжают в волостное правление, он был единственный, кто проявлял какой-то интерес к книгам.
Разбираться в посемейных списках Кирилл Тихонович пригласил меня к себе на комскую сборню. Она находилась недалеко от волости, была значительно больше нашей кульчекской и имела более обжитой вид. Сельский писарь в Коме занимался не у себя дома, как в других деревнях, а здесь, на сборне, и поэтому требовал от старосты содержать ее в чистоте и порядке.
Как и у нас в Кульчеке, комская сборня представляла большое помещение для сельских сходов, каталажку для арестантов и каморку для писаря. В помещении для сходов, кроме стола и лавки в переднем углу, никакой мебели не было, так что пришедшим на сход мужикам приходилось, как и у нас в Кульчеке, или стоять впритык друг к другу, или устраиваться, сидя на полу.
Каталажка с окованной дверью была тоже больше нашей. А писарская каморка, очень светлая и уютная, была такой маленькой, что нам пришлось перейти для работы в большое помещение для сельских сходов.
Разносить новорожденных и умерших по комскому посемейному списку мне с Кириллом Тихоновичем не представляло особого труда. Он хорошо разбирался в многочисленных Кирилловых, Черновых и Анашкиных, заполнивших Кому, и мне оставалось только делать по его указанию короткие записи в волостной посемейный список.
Во время этой работы я обнаружил, что отец Петр, отец дьякон и псаломщик Василий Елизарьевич почему-то в комских посемейных списках не числятся и к комскому сельскому обществу никакого касательства не имеют. А комские купцы Демидов и Паршуков состоят мещанами города Красноярска, хотя всю жизнь проживают здесь, в Коме, имеют тут свои дома с торговыми лавками и по нескольку огромных амбаров. Новоселовские купцы Терсков, Мезенин и Бобин, по словам Кирилла Тихоновича, тоже состоят мещанами города Красноярска, податей не платят, волостных и сельских повинностей не выполняют и пишутся уже не крестьянами, а мещанами. Это, видимо, для них самое главное. Быть крестьянами, числиться по спискам наравне с простыми мужиками они считают для себя позорным и предпочитают состоять городскими мещанами и платить городские налоги. А городские жители, известно, государственную окладную подать не платят, губернский земский сбор не платят, волостные и сельские сборы на них не начисляются. Разве это сравнишь с мужицкой жизнью?..
Во время работы над посемейными списками у нас все время велся разговор о книгах. Мы перебрали с ним всех комских жителей, у которых можно было найти что-нибудь для чтения. Но наши поиски не имели успеха. У отца Петра, отца дьякона и Василия Елизарьевича на этот счет ничем не поживишься. Правда, у отца Петра была Библия. Но мы наверняка знали, что эту книгу со многими нарядными закладками он нам никогда не даст. У купца Паршукова, кроме чудесных исцелений и описаний жизни различных угодников божиих, других книг не имеется. Дело в том, что он сам «исцелился» при гробнице святителя Иннокентия Иркутского от какой-то болезни, и об этом его «исцелении» было даже что-то напечатано в одной такой книге. Паршуков очень гордился этим, показывал эту книгу всем своим знакомым, и, говорят, даже принес ее один раз в волость. Но Иван Иннокентиевич поднял его на смех. С тех пор Паршуков в своем «исцелении» у гробницы святителя Иннокентия в волости уж не заикается. Но книжки о жизни святых и о разных чудесах собирает.
О купце Демидове у нас разговор даже не заходил, так как он ни с кем в селе и в волостном правлении не общается, у себя в доме никого не принимает, книг и газет не читает и всем этим не интересуется.
Еще думали мы обратиться с просьбой о книгах к фельдшеру Стеклову. Но нас смущало семейное положение Стеклова. Сначала у него состояла в женах одна комская девица. И он прижил с нею двух деток. Потом привел к себе в дом ее младшую сестру и тоже прижил с нею ребеночка. А теперь женился на нашей учительнице Таисии Герасимовне и тоже привел ее в свой дом. И живет теперь мирно одной семьей с тремя женами. Мужики, глядя на это, только руками разводят. Православному вроде не положено имен, трех жен. А с другой стороны, он хоть и маленький, а все-таки начальник, ходит со светлыми пуговицами и к тому же неплохой фельдшер и к народу относится хорошо. И живут они тихо, мирно, без ссор, без скандалов. Отец Петр смотрит на это почему-то сквозь пальцы. Так что тут, выходит, и придраться не к чему. Но мы с Кириллом Тихоновичем решили, что книг для чтения в доме Стеклова не найдем.
Об Иване Фомиче, Павле Михайловиче и Иване Осиповиче мы знали, что по части интересного чтения у них ничем не поживишься.
После Комы и Кульчека я таким же манером отработал метрические выписи на Черную Кому, Безкиш и Ивановку, которые состояли в Комском церковном приходе, а потом принялся за деревни Анашенского, Медведевского и Сисимского приходов. Над этими деревнями мне пришлось основательно попотеть. Но все-таки я их понемногу осилил. Теперь я знал жителей почти всех деревень нашей волости, за исключением Витебки и Александрова, и у меня сложилось о каждой деревне особое представление. Ивановка целиком состояла из переселенцев, приехавших из Черниговской и Житомирской губерний. Безкиш и Черную Кому заполнили переселенцы из Витебской и Могилевской губерний. В других деревнях переселенцев было мало. А в Витебке и Александровке своего церковного прихода, оказывается, нет. Эти деревни заселены переселенцами-католиками. Вместо католической церкви они, по бедности, имеют простой молитвенный дом. Католический священник, или, как они называют его, ксендз, бывает у них наездами два раза в году. Приедет, окрестит на католический манер родившихся ребятишек, отпоет оптом всех умерших, отбарабанит за два-три дня все, что надо, и спокойно уедет домой. А метрические списки на рожденных и умерших не составляет и выписок из них в волостное правление не присылает. Из-за этого посемейные списки на Витебку и Александрову ведутся в волости неточно. Записи, конечно, есть, но больше со слов жителей. А им доверять нельзя. Особенно по части новорожденных. От витебского писаря на этот счет трудно добиться какого-либо толку. Списки на новорожденных и умерших он присылает. Но составляет их тоже со слов. Умершие в его списках числятся правильно, а новорожденные… Короче, этим спискам доверять нельзя. Особенно при составлении призывных списков на рекрутов.
Глава 4 МОИ ВОЛОСТНЫЕ НАСТАВНИКИ
Так постепенно я вошел в повседневную работу волостного правления и целыми днями мог наблюдать за работой своих писарских учителей и наставников. Больше всех мое внимание привлекал Иван Иннокентиевич.
Хотя старшина и заседатель являлись в волости главными начальниками и все наши бумаги исходили от их имени, но настоящим хозяином волости был Иван Иннокентиевич.
На службу он являлся позже всех, ровно к одиннадцати часам, когда ему наступало время проводить почтовые операции – принимать и выдавать заказные письма, выплачивать денежные переводы, принимать и выдавать посылки. Занимался всем этим сам Иван Иннокентиевич и получал за это от казны особое жалование. Появившись в волости, он долго приходил в себя от утомительной дороги с квартиры, после чего начинал принимать ожидающих его с утра посетителей, а потом рассказывал свои веселые истории про попов, купцов и богатых мужиков.
Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович состояли у него как бы в работниках. Он сам определил и платил им жалованье. Отношения между ними были какие-то неравные. Он держал их от себя в каком-то отдалении и никогда не переходил с ними на короткую ногу.
С комскими купцами Иван Иннокентиевич не знался. Сельских старост он признавал, пока принимал от них податные деньги. В другое время старался их не замечать. На приезжих писарей смотрел свысока. Он с удовольствием рассказывал им свои веселые истории, но сразу же после того начинал жучить их за задержку каких-нибудь сводок и ведомостей. На другие темы разговоров с ними не вел.
С мужиками Иван Иннокентиевич был неприветлив. Руки им не подавал, садиться никогда не приглашал.
Свое писарское дело Иван Иннокентиевич знал хорошо, но работать не любил и все сваливал на своих помощников.
А высшего начальства он боялся и всячески старался перед ним выслужиться. Начальство особенно придирчиво относилось к податным делам и к военному учету. Иван Иннокентиевич строго следил за Иваном Фомичом, который вел у него эти дела, чтобы он вовремя представлял кому следует все данные по этой части.
Ивана Фомича все в волости считали главным помощником Ивана Иннокентиевича. Но эта работа ему не нравилась, и он иногда жаловался на то, что только нужда заставляет его заниматься статистическими сводками, раскладочными делами и призывными списками. Особенно не нравилась ему работа по податной части.
Каждый год после осенней раскладки податей в волости начиналось выколачивание их с мужиков. За это брались вначале старшина и заседатель. А после них по деревням отправлялся уж сам пристав, в сопровождении урядника и волостного начальства. И так всю зиму, то старшина, то заседатель, то все вместе с приставом. Жмут мужика сначала уговорами. От уговоров переходят к угрозам, потом начинают просто требовать – гони деньги или садись в кутузку. И так мурыжат его всю зиму, пока не выжмут все, что можно выжать.
На следующий год повторяется то же самое. Составляют новые списки и опять вымогают с мужика деньги. И так из года в год… Однако Иван Фомич уверен, что этому когда-то наступит конец. Если в городе опять произойдет какая-нибудь заваруха, думал он, то по деревням снова начнется кутерьма с податями, как это было после японской войны. Мужики откажутся платить подати, а если их начнут сильно прижимать, то, чего доброго, возьмутся за начальство. К этому все идет. И тогда нам здесь уж несдобровать. Сначала сведут счеты со старшиной и с заседателем, потом с волостным писарем, а дальше дело дойдет и до его помощников, которые составляют эти податные списки.
Все это Иван Фомич понимал, конечно, по-своему, на свой лад. Поэтому работа с податными списками была ему не по душе. Главное, что его в этом деле беспокоило, это не понукания Ивана Иннокентиевича и не угрозы административного взыскания со стороны высшего начальства. Его беспокоило отношение мужиков к волости и к ним волостным писарям.
– Ты вот каждый день слушаешь веселые рассказы Ивана Иннокентиевича, – сказал он мне раз. – А знаешь ли ты, что он рассказывает свои истории с заряженным револьвером? Да, да… В столе у него всегда наготове заряженный наган. Кроме того, во время занятий он на всякий случай держит около себя старшину или заседателя.
Я не знал, что Иван Иннокентиевич сидит в своей комнате с заряженным револьвером, и не мог понять, для чего ему нужен этот револьвер. Непонятно мне было и желание Ивана Иннокентиевича держать около себя во время работы старшину или заседателя.
– Ты слышал вчера крупный разговор Ивана Иннокентиевича с каким-то Бижаном из Витебки? – продолжал растолковывать мне суть дела Иван Фомич. – Приехал из Витебки мужик с жалобой на то, что на него неправильно насчитали подать и теперь сживают его за эту подать со свету, так как заплатить ее он не может. И Иван Иннокентиевич вместо того, чтобы поговорить с ним по-хорошему, сразу стал отправлять его обратно в свою деревню. Пусть, говорит, с этим разбирается твое общество. А мы здесь раскладкой податей не занимаемся. Ну, мужик, конечно, сразу и взвился. Как да почему?.. И стал настаивать на своей жалобе. А Иван Иннокентиевич, вместо того чтобы успокоить человека, велел старшине вывести его вон. Кое-как вытащили его во двор, а он там уж совсем вошел в раж, начал ругаться и грозиться. Так что пришлось посадить его в каталажку, пока он не одумается. Теперь тебе понятно, для чего Иван Иннокентиевич держит у себя в столе заряженный револьвер и заставляет старшину и заседателя дежурить около себя?
– Он мужиков боится… – сообразил я.
– Вот именно… Вчера была история с Бижаном из Витебки, а завтра может произойти такой же случай с каким-нибудь Беспрозванным из Проезжей Комы. Такие встречи происходят у нас все чаще и чаще. Мужик приходит теперь к нам всегда злым и не скрывает своего недовольства нашими волостными порядками. И это сразу же прорывается у него здесь наружу. Он, не стесняясь, матюгает в прихожей Ивана Иннокентиевича, что он поздно является на работу, и открыто прокатывается насчет старшины и заседателя, а при отказе ему в какой-либо просьбе лезет в спор и доказывает свои права. Не все, конечно, так ведут себя, но очень многие. Особенно злы на нас бывшие солдаты, побывавшие на японской войне. Они готовы в любой день спалить нашу волость. Я ведь занимаюсь военным учетом и знаю, что это за люди. Есть у вас такие в Кульчеке?
– У меня дядя Василий уж два раза ездил в Минусинске на какую-то комиссию. Ему на войне под Мукденом прострелили правое плечо. Вот он и хлопочет себе белый билет. Боится, что его опять заберут на войну. Потом, наш сосед Ехрем Кожуховский тоже ездил туда за этим.
– Получили они белые билеты?
– Не дали. Сказали, что их будут числить на учете на всякий случай.
– Ну и как смотрят они теперь на это?
– Ругаются. Говорят, комиссия была неправильная. Доктор посмотрел на них только издали и сразу записал в книгу, чтобы белые билеты им не давать.
– Что же собираются они теперь делать?
– Хлопочут ехать на новую комиссию.
– Вот видишь. Случись что, они первыми явятся сюда. Меня они, может, и не тронут. Я ведь, слава богу, не начальник. А все мои учетные списки спалят, а потом возьмутся за старшину и за заседателя. Вот так и живем. И мужиков боимся, и от начальства жизни нет. Чуть что скажи лишнее или неловко обмолвись на его счет, и на тебя сразу же стукнут куда надо, что ты, такой-сякой, разэтакий, мутишь народ, строишь козни против начальства. А это, брат, может плохо кончиться. Теперь знаешь какое время… Говори, да оглядывайся.
И дальше Иван Фомич стал объяснять мне, какое у нас сейчас беспокойное время. Высшее начальство очень боится, как бы мужики не начали бунтовать. Поэтому оно требует от волостного начальства строго следить за настроением деревни, в корне пресекать на сельских сходках и в других местах всякие разговоры о больших податях и тяжелых крестьянских повинностях. Такие разговоры оно расценивает как подстрекательство против высшей власти, а людей, которые ведут такие разговоры, требует брать на заметку, следить за ними и доносить о них. А чтобы это дело было вернее, оно имеет на местах тайных людей, которые за всем этим следят, ко всему прислушиваются да принюхиваются и обо всем доносят потом по начальству. Таких людей все очень опасаются. Они могут любого человека оговорить, донести на него то, чего и не было. Проверять их ведь не станешь. Они же тайные. Вот и называют их стукачами.
– А у нас в волости есть такие стукачи? – спросил я Ивана Фомича.
– Определенно есть, – ответил Иван Фомич. Потом осмотрелся кругом и сразу перешел на шепот: – В Коме, говорят, занимается этим Белошенков. Он все время вертится у нас, прислушивается к тому, о чем говорим мы, приезжие старосты и писаря, о чем болтают у нас мужики в прихожей, ожидая волостное начальство. И обо всем, говорят, доносит жандармскому начальству. С этим человеком надо быть осторожным…
Действительно, Белошенков почти каждый день бывает у нас в волости. Придет, посидит, поговорит с кем-нибудь, заглянет в комнату Ивана Иннокентиевича, поговорит о чем-то в прихожей с мужиками и незаметно уйдет. Я никак не мог подумать, что этот ласковый и обходительный человек состоит каким-то стукачом и пишет на всех доносы. Но Павел Михайлович и Иван Осипович тоже его чураются, а Иван Иннокентиевич не хочет иметь с ним никакого дела.
Как бы там ни было, но все помощники Ивана Иннокентиевича, да и сам он, жили под страхом доносов. Все были твердо убеждены в том, что за ними кто-то следит, кто-то их подслушивает, проверяет их благонадежность и в один прекрасный день их могут потребовать за что-то к ответу. Этим страхом были заражены не только наши волостные, но даже некоторые сельские писаря. Белошенкова они не боялись. Но были уверены, что у них в деревнях есть свои доносчики и наушники, особенно из тех мужиков, которые всегда трутся около приезжего начальства, подпевают ему во всем и готовы оговорить любого мужика, если он рьяно ратует на сходе против подушной раскладки и резко распространяется насчет начальства.
– Вот ты куда попал на работу! – шутливо запугивал меня Иван Фомич. – Это тебе, брат, не деревня, не Кульчек, в котором ты мог спокойно жить, не задумываясь о том, что тебя могут взять на тайный учет, как неблагонадежного человека. Здесь, брат, другое дело. Тут живи, да оглядывайся.
И Иван Фомич, и Павел Михайлович, и Иван Осипович действительно говорили обо всем в волости с большой оглядкой. Особенно когда туда приходил Белошенков. А я не знал, как мне теперь вести себя с этим человеком. Он всегда заговаривал со мной, расспрашивал, как мне работается, какое жалованье назначил мне Иван Иннокентиевич, и все такое… Потом Белошенков покровительственно хлопал меня по плечу и заводил разговор с кем-нибудь другим.
После Ивана Иннокентиевича и Ивана Фомича я долгое время присматривался к Павлу Михайловичу. Не в пример Ивану Фомичу, который дальше Новоселовой, кажется, нигде не бывал, Павел Михайлович проживал даже в Петербурге. О Петербурге я кое-что знал из прочитанных книг. А один из моих родственников служил там в солдатах в лейб-гвардии Финляндском полку на Васильевском острове. Дядя Егор даже на карауле бывал в Зимнем дворце. Он привез со службы несколько открыток с видами Петербурга и подарил их мне. Из этих видов мне запомнились Главный штаб, Мариинский дворец, Таврический дворец, Сенатская площадь с Медным Всадником. Я много раз расспрашивал дядю Егора о том, как он стоял на карауле в Зимнем дворце и что он там видел, что это за здание – Главный штаб, далеко ли от Зимнего дворца стоит Мариинский дворец, и вообще просил рассказать мне побольше о Петербурге. Но дядя Егор ничего вразумительного мне не рассказывал. Из всего, что он видел за время своей трехлетней службы в Петербурге, его больше всего поразила многочисленность населения города. «И идут, понимаешь, и идут, и едут без конца с утра до ночи. И откуда только берется столько народа? Просто удивительно!» Это поражало его больше всего в Петербурге, и об этом он говорил всегда, вспоминая о своей службе в лейб-гвардии Финляндском полку.
Павел Михайлович тоже ничего интересного о Петербурге не рассказывал. Иногда только, когда при чтении газет, привезенных с новоселовской почтой, речь заходила о каком-нибудь событии на Литейном проспекте, на Знаменской площади или в других местах Петербурга, он говорил: «Литейный проспект… Как же, знаю, знаю. Он идет от Невского прямо до Невы». А если дело происходило на Знаменской площади, то он говорил: «Знаю, знаю… Там еще памятник Александру Третьему… Прямо перед вокзалом». Ничего другого от Павла Михайловича я так и не узнал, а расспрашивать его о том, как он там жил, я стеснялся.
А Иван Осипович после окончания комской школы несколько лет учился в городе Каинске в каком-то маслодельном училище. А потом приехал домой в Кому и поступил в волость помощником к Ивану Иннокентиевичу. Писал он быстро, красивым разборчивым почерком и сидел в волости на выдаче паспортов и текущей переписке. О Каинске, о маслодельном училище и вообще о маслодельном деле он нам ничего не рассказывал. Даже речь об этом никогда не заводил. Ко мне он относился очень хорошо, часто помогал советами по писарской части, но ничего интересного от него, так же как и от Павла Михайловича, я не узнал.
Таковы были мои волостные учителя и наставники. Они аккуратно каждый день приходили в волость на работу, принимали там по делам разную публику, составляли ведомости, списки и отчеты, жучили и подтягивали сельских старост и писарей и не вели между собою и с приходящим народом никаких опасных разговоров насчет начальства. Ко мне они относились хорошо, все время загружали работой и всячески одобряли мое усердие. Мужики, приходившие по делам в волость, настроены были хоть и бузливо, но с начальством пока считались и бунтовать, судя по всему, не собирались. Так что Иван Иннокентиевич мог спокойно рассказывать каждый день свои веселые истории про попов, купцов и богатых мужиков.








