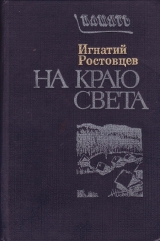
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 50 страниц)
Когда дедушко умер, то его стали как-то быстро забывать. Вспоминали больше его деньги и все жалели, что они никому впрок не пошли.
Одни дедушку очень ругали за то, что он по своей дурости никому не оставил свой капитал. А другие, наоборот, хвалили его за это. Говорили, что у него, не в пример другим богатым мужикам, все-таки имелась совесть. Знал старик, что эти деньги у него нехорошие, что ему из-за них придется на том свете ответ держать. Поэтому и не оставил их никому, чтобы ни на ком, кроме него, греха из-за них не было. Все на себя принял покойник.
Пока дедушко был живой, про него ничего плохого не говорили. А как умер, начали болтать о том, что он в молодые годы вместе со своим отцом занимался грабительством. Говорили, что это они убили в Крутом логу проезжих купцов, забрали у них много денег и целую кошеву разного товару. У бабушки Анны в сундуке одних французских платков лежала целая пачка. Откуда они взялись у них? Говорят, эти платки были грабленые.
А потом рассказывали, что они же ограбили купцов на Устугском хребте. От этих денег, говорят, и жить начали, и скотом торговать, и работников да работниц держать, чтобы по сорок десятин хлеба сеять да потом в Енисейско его плавить.
А мне дедушку почему-то было жалко. Он хоть и выставлял себя выше всех, и бахвалился своим богатством, а все равно ему чего-то в жизни не хватало. А чего ему не хватало, он и сам не знал. Оттого и пил каждый день, и куролесил по деревне, куражился над всеми и придумывал на всех разные насмешки…
Глава 10 ЦЕРКОВНОПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ
День выдался на редкость неудачным. С вечера погода, казалось, пошла на поправку. Небо стало очищаться. Подул резкий холодный ветер. Послышался далекий гул тайги. «Шерегеш загудел», – говорят у нас в таком случае. И это уж верная примета к перемене погоды.
Однако даже эта верная примета не оправдалась. К утру небо снова затянуло тучами и зарядил мелкий обложной дождь.
С самого утра мама без устали возится у печи, а Чуня снаряжает меня к отъезду. Она уложила в ящичек мой немудрящий багаж, надела на меня новую кумачовую рубаху. Под ее наблюдением я натянул на себя новые, приятно пахнущие дегтем, бахилы.
– А тужурочку-то давай лучше спрячем в ящичек, – советует она, увидев, что я собираюсь вырядиться в новую, сшитую для меня, хламиду из домотканого сукна. – Вот завтра она и будет у тебя сухонькой, чистенькой, в школу-то идти.
Я не очень охотно расстаюсь со своей обновкой, хотя понимаю, что Чуня, как всегда, права. Конечно, мне лучше ехать в Кому в моем старом шабуре. Пусть промокает. Не жалко. Я послушно надеваю на себя этот шабур и бегу на двор посмотреть погоду.
Еще с утра Конон запряг Гнедка во взятый у дяди Ильи тарантас. Гнедко терпеливо стоит в упряжке под дождем, а мы пока всей семьей садимся пить чай.
По случаю отъезда меня, как именинника, сажают в передний угол. Я чувствую себя неловко. Ведь я еще дома, а стал здесь вроде уж чужой. Даже за столом сижу не на своем обычном месте возле мамы, а в переднем углу под образами, как приезжий гость. И угощают меня как гостя. Хорошее настроение по случаю долгожданного отъезда окончательно тускнеет. Мои родные: отец, мать, брат, сестра – каждый по-своему – переживают мой отъезд. Особенно волнует он маму. Как-никак, а я на целый год уезжаю из родного дома.
Разговор за столом не клеится. Все хорошие советы давно мне преподаны. Все хозяйственные вопросы моего проживания в Коме у тетки Орины также улажены. Правда, осталось еще одно дело. Но оно волнует главным образом отца. За мое учение надо внести в комскую школу три рубля. Для нашей семьи три рубля – деньги не большие, но и не малые. Однако отца волнует больше другая сторона дела. Почему это у нас в Кульчеке школа бесплатная, а в Коме требуют деньги. Нет ли тут какого-нибудь подвоха, чтобы вытянуть у мужика лишнюю копейку. Но и этот вопрос еще вчера был благополучно улажен. Хотя для этого и пришлось идти к дяде Илье.
А вот и сам дядя Илья. Он входит в избу, крестится на иконы и вместо приветствия произносит:
– Хлеб да соль…
– Садись чай пить, – приглашает его отец.
– О господи, Сусе Христе, – начинает причитать дядя Илья, – мать пресвятая богородица, Егорей храброй, Михаил-архандель, вся сила крестна и небесна…
Он отряхивается от дождя, распоясывается и не торопясь снимает свой промокший шабур.
– Без хлеба нынче останемся, без сена. Правду говорят, видно, последние времена пришли. Сгниет, помяните мое слово, все сгниет.
Дядя Илья усердно отжимает свою окладистую бороду, как будто боится, что она тоже сгниет от дождя.
– Святые угодники, заступитесь, помогите! – продолжает он, усаживаясь за стол. – Третью неделю ливмя льет!
– Так осень ведь, дядя Илья, – пытается возражать ему Конон. – Осенью всегда льет…
– Льет-то льет, – оживляется дядя Илья, – да как льет-то – понимать надо. Я вот вчера в Облавном был, поглядел там на свою рожь. Прости ты меня, господи. На полосе-то озеро образовалось. Прямо озеро стоит на полосе-то. Аж сердце заныло. Сгниет все на корню с осени. Вымокнет.
– У тебя, Илья, все – то сгниет, то – вымокнет, – говорит мама. – А начнешь молотить – хлеба невпроворот.
– Эх, Авдотья Тимофеевна, – сокрушенно качает головой дядя Илья. – Женщина ты умная, в годах уж, а того не понимаешь, что место-то в Облавном сырое, подтаежное. Хлеб-то, он в солому там больше идет. Солома-то на полосе дивствительно большая, почти в рост, а зерно-то. Зерно-то, оно вроде без налива. Все в охвостье уходит.
Дядя Илья, как говорят у нас, любит прибедняться. У нас все, кто позажиточнее, все прибедняются. Вот и сейчас, услышав про хороший урожай у себя в Облавном, дядя Илья сразу пугается, как бы не подумали, что он больше других намолотит хлеба.
– И скажут же – невпроворот! А то невдомек, что сноп-то в Облавном – он ничего не весит. Колос-то в нем – одна видимость. Ох, прогневали мы господа бога. За грехи нас наказывает. Хоть бы на семена что-нибудь намолотить.
Дяде Илье явно неприятен этот разговор об урожае, и он спешит перевести его на другое.
– Ты что же это, Кено, – обращается он ко мне. – Учился, учился дома, да еще в Кому хочешь ехать учиться?
Я тушуюсь и не знаю, что отвечать на этот подковыристый вопрос.
– Что же это получается? – обращается дядя Илья к отцу. – Твой едет учиться, Мишку Груздева вчера в Кому увезли учиться. Ганьку Меркульевых – в Минусу. Говорят, на учителя поехал. Скоро все будут учены. А кто пашню пахать будет? Ты как думаешь?
– Какой он пахарь, – отвечает отец. – Разве с его здоровьем напашешь.
И тут отец начинает рассказывать дяде Илье о том, как нынче летом со мной что-то приключилось на покосе. Чуть не окочурился…
– Оно, конечно, без здоровья в крестьянстве нельзя, – идет на уступку дядя Илья. – Однако все же… Отцы наши и деды пахали, и нам надо держаться за землю.
Но тут за меня вступается мама, и начинается длинный разговор о моем неважном здоровье, что я по этой части всегда был каким-то невезучим. Крестить меня повезли в Кому в декабре, в самые трескучие морозы. Ночью в Крутом логу то ли волки завыли поблизости, то ли крестный, дядя Василий, спьяна что-то вытворил, только рванули кони и понесли. Да на повороте – в ухаб. Кошевка кубарем. Крестная – тетка Орина – с новорожденным, со мной то есть, в сугроб. Перепугалась насмерть. Пока-то очухалась, да пришла в себя, да с перепугу, говорят, не сразу и нашла-то меня в снегу. Тем временем кони версты две волочили дядю Василия по снегу за кошевкой. Когда-то он с ними справился да за нами воротился. А на другой день меня крестили, в холодной церкви в купель куряли. В общем, после того я три года лежал недвижимый. На четвертом году начал выправляться. На ноги встал… И опять беда – на гумне под воз с хлебом попал. Чуть все косточки не переломало. Потом на заимке бык забодал. Еле отбили. Потом ошпарился кипятком. Пролежал целое лето. После всех этих злоключений я, к общему удивлению, выжил и даже хорошо в рост пошел. Но по части тяжелой работы уж не внушал доверия.
– Оно, конечно, может, наукой лучше заняться, – сдается наконец дядя Илья. – Может, на писаря выучится парень. Свой писарь будет в деревне.
Мне не особенно нравится этот разговор о моем здоровье. Я сижу на почетном месте в переднем углу, под образами, и мне приходят в голову невеселые мысли. Конечно, в семье я самый младший и не хожу пока за сохой. И действительно, нынче на покосе у меня сделалось какое-то сердцебиение. Но ведь после того я все лето работал наравне со всеми. И косил, и жал, а последнее время пас скота. Каждый день с утра до ночи и все под дождем. Меня ведь, как и всех у нас, с шести лет впрягли в работу. Весной боронить, в сенокос – копны возить, в страду снопы таскать в суслоны. Ну, конечно, и около лошадей все время. А в восемь лет отец вручил мне собственную косу и поставил рядом с собой на прокос. Давай, мол, сынок, начинай! Потихоньку да полегоньку сначала, а там дело пойдет как следует. Косил я на первых порах, конечно, неважно. Однако до самой ночи махал косой вместе со всеми. Только по утрам меня не будили. Давали первое время отсыпаться. А теперь уж и на заре будят: «Вставай, – говорят, – сынок! Подымайся. Ты у нас, слава богу, уж работничек». Вот тебе и работничек.
У меня окончательно портится настроение, и я обиженный выхожу из-за стола. Никто не замечает моего настроения. Я надеваю шабур и иду на крыльцо. На дворе по-прежнему моросит дождь. Но теперь это для меня уже все равно.
– Ты что же это ушел из-за стола-то? – спрашивает меня выскочившая из избы Чуня.
– Что они говорят про меня такое. Вроде я урод какой или лодырь или хуже всех, – почти со слезами отвечаю я.
– И не урод, и не лодырь, а говорить приходится. Знаешь, как у нас в деревне. Начнут болтать да осуждать: Трошины, мол, за богатыми потянулись – Кенку посылают учиться.
– Какие мы богатые, – возмущаюсь я.
– То-то и оно. А ты уж и скис. А все говоришь – поеду, поеду!
– И поеду. Все равно поеду…
– Тогда нечего рассупониваться, – говорит Чуня и идет за чем-то в амбар.
Я снова остаюсь один на крыльце и начинаю думать о том, что, может быть, нам в самом деле не стоит особенно выставляться напоказ с моим отъездом в Кому.
Тем временем на улице стало как-то светлее. Дождь хотя и льет, но, кажется, льет уж из последних сил.
– Ну, как тут обстоит дело с погодой? – спрашивает меня вышедший отец. – Может, завтра лучше поехать?
– Так завтра же занятия, тятенька, – испуганно отвечаю я. – Как же пропуск с первого дня?
– Поезжайте, поезжайте. Не размокнете, не глиняные, – слышится из сеней голос матери, и она появляется на крыльце. – Да и дождь вроде начинает проходить. Вон над Тоном уж посветлело.
В самом деле, в лохматых облаках, оседлавших Тон, появились светлые прогалины. Они становятся все шире и шире. Небо как бы задымилось. Мутно-серые тучи пришли в сильное волнение, а дождь, прошумев еще один-другой раз, вдруг неожиданно утих.
– Ну вот, можно и отправляться, – говорит мама. – Давайте укладываться.
– Поторапливайтесь, ребятушки, – советует дядя Илья. – Погода ненадежная. Чего доброго, опять начнет дождить.
Мы входим в избу, и мама, который раз, пересматривает мой ящичек. Вот смена белья, вот новые праздничные штаны, и не холщовые, в каких я три года бегал в кульчекскую школу, а настоящие, из купленного еще зимой базарного материала. Вот черная сатинетовая рубаха, два куска самодельного, сваренного мамой, мыла. А вот моя школьная сумка, которую сделали мне в подарок Конон и Чуня.
Но вот сборы закончены. По старинному обычаю, все мы чинно садимся. Наступает торжественное и вместе с тем томительное молчание. Первым встает отец и крестится на иконы. За ним дядя Илья и мы. Дядя Илья молится и громко читает молитву по случаю моего отъезда:
– Встану я, раб божий, перекрестясь, пойду я, раб божий, благословясь, из дверей во двери, из ворот в ворота, на восток, на восточную сторону…
Конон хмуро стоит с моим ящиком в руках. Чуня начинает всхлипывать.
– …и закрой тебя матушка пресвятая богородица, – заканчивает дядя Илья, – светленою своею ризою от всякого скверного злодея, супостателя и злого человека. Аминь! Ну, Акентий, проси у матери благословения.
Еле сдерживая слезы, я подхожу к маме. Она истово крестит меня и говорит:
– Не забывай, сын, отца и мать. Помни, что мы тебя худому не учили. Тетку Орину слушайся. Она тебе крестная мать. Дядю Егора уважай. Ребятишек у них не обижай – Егорку и Максютку.
– Да баклуши там не обивай, – в тон маме добавляет отец. – Уроки учи как следует. Ну, пора. Иди вперед!
Я как в тумане первым выхожу на крыльцо и направляюсь к тарантасу. Все следуют за мной.
Пока Конон укладывает сухое сено для сиденья и накрывает его половиком, а мать прячет мой ящичек под облучок, дядя Илья дает мне последнее наставление – чаще ходить в церковь. По субботам ко всенощной, а по воскресеньям к обедне.
– Не забывай бога-то там, – еще раз наказывает он мне, когда мы уж тронулись со двора. – Почаще молись ему – милостивцу.
Я последний раз оглядываюсь назад. Вижу мать, сиротливо стоящую Чуню. Брат медленно закрывает за нами ворота и как бы навсегда отделяет от меня мой дом, моих родных, все мое близкое, дорогое.
Слезы заливают мои глаза.
Прощай, Кульчек!
Дорогу в Кому я знал хорошо, помнил на ней каждый бугорок, каждую ямку и с закрытыми глазами мог определить, где мы едем с отцом. Но я не закрывал глаза, а все смотрел по сторонам, прощался со своими местами. Вон черпая щетинистая Чертанка, направо наша Орловка и Сухой Казлык – развеселые места, где я много раз пас скота. А дальше, сквозь пелену дождя, маячит Тон. Под Тоном наша пашня и покос. Там, недалеко от нашего стана, течет веселый родничок Хмелевка. Приедешь на водопой – и коней напоишь, и сам напьешься, и умоешься.
А иногда, по дороге в Хмелевку, напорешься на волка. Он не торопясь бежит куда-то легкой рысцой прямо тебе наперерез. Наши собаки вначале с лаем бросаются на него. Но, увидев, с кем имеют дело, сразу же пугаются и лают только издали. А волку хоть бы что. Бежит себе спокойно куда ему надо. А как скроется – тут собаки начинают скулить и лебезить около тебя. Оправдываются в своей трусости.
Обо всем этом мне хотелось поговорить с отцом. Но он совсем был не расположен к разговору. Сидит рядом со мной какой-то хмурый, изредка понукает Гнедка и все думает о чем-то о своем.
А за Крутым логом начинаются уже безкишенские угодья. Здесь я не косил, не жал, не работал. И смотреть на эти места мне было как-то неинтересно.
Тем временем опять полил дождь. Я накрылся с головой половиком, но все равно точно знал, по какому месту мы едем дальше. Вот небольшой поворот, спустились с горки и переехали мост через речку – значит, уже миновали Безкиш и теперь едем под Алачинами.
Эти Алачины – ничего не скажешь – горы что надо. Высокие и обрывистые, сплошной стеной высятся над дорогой. И хотя эти Алачины горы совсем бесполезные, но смотреть на них все-таки интересно. На таких горах в иностранных землях рыцари строили себе неприступные замки. А у нас здесь почему-то никаких рыцарей не было, ну и замков, конечно, на этих горах нет.
А сразу после Алачин растянулась по речке деревня Черная Кома, или, проще говоря, Чернавка. В этой Чернавке живут мамонькины братья – дядя Савося, дядя Еким и дядя Ефим. Живут они в самой середине деревни. Три дома подряд. Наши кони уж привыкли заезжать к ним. Если едешь в Кому – они сразу заворачивают к дяде Савосе, а если из Комы, то рвутся в ворота к дяде Ефиму. А в середине еще дядя Еким отгрохал себе большой крестовый дом. И глазом не успеешь моргнуть, как конь подвернет не к тем, так к другим. А там сразу видят, что приехала родня, отворяют ворота, вводят коня во двор, приглашают нас в дом, и хозяйки немедленно начинают шуровать самовар.
А сегодня тятенька решил почему-то не заезжать к ним. И как только Гнедко по привычке хотел подвернуть к дяде Савосе, он сразу же огрел его бичом. Тогда Гнедко попробовал завернуть к воротам дяди Екима и опять получил увесистый удар. Наконец, он сделал отчаянную попытку завернуть в ограду к дяде Ефиму, благо что и ворота у них на этот раз почему-то были открыты. Но тятенька так здорово хлестанул его несколько раз, что Гнедко наконец уразумел, что никакой остановки сегодня в Чернавке не предвидится. И обиженно затрусил по деревне дальше на выезд в Кому.
А мне, признаться, очень хотелось хоть ненадолго заехать к нашим в Чернавке. И больше всего к дяде Савосе. Уж больно ласковая у него тетка Агафья. Детей у них своих нет, вот они и радуются каждый раз нашему приезду. Живут они хорошо, в достатке; дядя Савося пашню не пашет, а кузнечничает. Кузнец он хороший, и работы у него хоть отбавляй. Одному надо подковать коня, другому наварить сошник к сохе, третьему поставить железные полозья под кошевку. Знай повертывайся. И так круглый год. А тут еще последнее время объявился новый заработок – отбою нет. Дело в том, что наши мужики научились от расейских переселенцев гнать самогон. И каждому, конечно, хочется заварить к большому празднику или к свадьбе чан браги и нагнать из нее несколько ведер сивухи. Попробуй-ко столько же закупить в монополке вина по десяти рублей за ведро. Не очень-то раскупишься. А тут все свое – хлеб свой, хмель свой, посуда для браги своя. Только аппарата не хватает. И теперь мужики прямо одолели дядю Савосю. Бери любые деньги, только сваргань им этот винокуренный аппарат. Так что дядя Савося с теткой Агашей живут в полном достатке. И тетка рада, когда мы к ним заезжаем. И в два счета уставит весь стол всяким жареным и пареным. А мне, кроме того, приготовит творожные блины. Знает, что я очень уважаю их.
У дяди Ефима и у дяди Екима нас тоже угощают. Но не так, как у тетки Агаши. Дядя Еким и дядя Ефим мужики тоже справные. Живут хорошо, хозяйство большое. Работников и поденщиков не нанимают. Сами со всем управляются. И жены у них хорошие, ласковые. Но только какие-то хворые. Видать, покалеченные. У нас женщины ведь почти все больные. Одних мужья калечат. Но таких дурных мужиков у нас мало. В Кульчеке славится этим Трофим Плясунок. Он, говорят, насмерть бьет свою Афанасью. Потом Еремей Грязнов все время дерется со своей Дарьей. Потом Абакуров. Тот и жену бьет, и ребят истязает. Потом еще братья Ершовы. Те вообще какие-то заполошные. А про других что-то не слышно. Вообще-то, конечно, тоже бьют. Но бьют осторожно, со сноровкой. Чтобы перед людьми не срамиться. У кого в семье драки да буянство, тем ведь и уважения в деревне нет.
А вообще-то женщины калечатся у нас, главным образом, от непосильной крестьянской жизни. На работу у нас народ жадный, завидущий. Пашут помногу, скотишка стараются держать тоже побольше. И женщины наравне с мужиками все лето жнут и косят. Другая женщина на сносях, а все равно вместе со всеми весь день на поле. Да еще каждый день ездит вечером верхом в деревню доить коров, управляться с ребятишками, поливать огород, печь хлеб и делать всякую работу по домашности. А на другой день она раным-рано едет на покос али на пашню. И опять вместе со всеми косит, жнет до самого вечера. И так до последнего дня, пока не родит ребеночка. А потом, ведь все хозяйство, вся домашность на их плечах. Всех надо одеть и накормить. За скотиной тоже требуется уход. От такой жизни наши женщины к сорока годам становятся старухами.
Дядя Еким и дядя Ефим своих жен не бьют. Но все равно они у них хворые. Заедешь к ним, они угощать-то угощают, а сами все время жалуются на здоровьишко. То ломота, то сухота, то пуп надорван, то внутренности куда-то опустились и поясница не разгибается. Не очень-то хочется угощаться при такой беседе.
Но сегодня мы к ним ни к кому не заехали и прямо под дождем отправились в Кому. Так что промокли и промерзли до костей. А тут еще по Коме надо тащиться версты три, не меньше. Едешь, едешь – и конца-краю этой Коме нет. И дома у них какие-то мрачные. Окна у всех почему-то закрыты на ставни. Встречные мужики какие-то сердитые и смотрят на проезжих свысока. И в самом деле мы им, видать, надоели. В селе церковь, волость, монополка, фельдшерский пункт, три купца. И едут сюда отовсюду с утра до ночи. Особенно в волость. Здесь даже собаки не лают на проезжих. У нас в Кульчеке собак по пять из каждого двора выскакивают на проезжающих. И поднимают такой гвалт, что прямо жуть берет. Того и гляди, задерут кого-нибудь. А тут едешь – словно все вымерли. Ни одна собака не тявкнет. Вроде и живут тут как-то не по-настоящему.
Но мы уж знали эти комские порядки и не особенно волновались. И так проехали не торопясь в самый нижний край села – мимо их монополки, мимо волости, мимо школы и всех купеческих магазинов и наконец приехали к дяде Егору.
На дворе нас встретила тетка Орина.
– Мы уж третий день ждем вас, – стала выговаривать она отцу. – Вот должны приехать, вот должны явиться, а вас все нет да нет.
– Все некогда было да недосуг, – сказал отец.
– Ну, проходите в избу.
– Иди давай! – сказал отец. – А я коня выпрягу.
У дяди Егора я бывал много раз. Но бывал у них как гость. То с отцом, то с мамой. А сегодня приехал к ним уж насовсем – на целую зиму, и понимал, что теперь мне надо держаться у них как дома.
В избе я застал моих двоюродных братьев – Егорку и Максютку. Оба они были еще маленькие – Егорке лет шесть, а Максютке и того меньше. Они знали, что я приехал к ним надолго, но, видимо, стеснялись меня и бегали по избе с таким видом, что им нет до меня никакого дела.
– Проходи, раздевайся, – сказала вошедшая тетка Орина. – Егорка! Чего смотришь! Сажай гостя за стол!
Вместо того чтобы сажать меня за стол, Егорка сам кинулся к столу, как бы испугавшись, что я займу там его место. Максютка, глядя на него, тоже вскарабкался на лавку. Теперь оба они сидели в переднем углу и молча наблюдали за мной.
Тогда я тоже прошел вперед, перекрестился на образа, осмотрелся и не торопясь разделся. А потом вынул из своего ящика тетрадку со своими рисунками и вместе с ними уселся за стол.
Егорка и Максютка сразу заинтересовались моей тетрадкой, и мы без шума и без гама стали рассматривать в ней рисунки. Тем временем со двора пришел отец и завел о чем-то длинный разговор с теткой Ориной.
Потом прибежала Санька и стала тараторить о том, сколько она намяла сегодня конопли. Потом от соседей пришла бабушка Апросинья с Наташкой. Наташка была совсем еще маленькая и только начала ходить. Наконец, откуда-то приехал дядя Егор. Теперь вся их семья была в сборе, и тетка Орина стала сооружать на стол ужин.
За столом велся обычный разговор об урожае, о сенокосе, о погоде. А потом как-то незаметно речь зашла о комских делах. И тут дядя Егор стал рассказывать отцу о том, что в Кому приехал новый поп. Совсем еще молодой и дело свое, видать, знает еще плохо. Уж больно долго справляет в церкви службу. И, главное, велит зажигать во время службы все лампады, все подсвечники и даже паникадила. Сколько свечей сжигает за одну службу – ужас! А церковный староста вразумить его не смеет. Сказал бы ему прямо, что негоже, мол, батюшко, каждую службу паникадила жечь. Так ведь и свечей не напасешься.
А потом что-то говорили еще об отце дьяконе и псаломщике, но что именно говорили, я уж не соображал, так как от тепла и чая меня совсем разморило и я почти спал за столом.
На другой день меня одели во все мои обновки, и после чая мы отправились с отцом в комскую школу. В школьной прихожей нас встретил высокий, сухопарый, со стриженой бородой старик, одетый по-городскому – в пиджак и в брюки навыпуску. Только все это было на нем старое, поношенное.
– Тише вы! – набросился он на нас. – Стучите как кони. Что, не соображаете, куда пришли.
Тут отец объяснил ему, что он только что приехал из Кульчека сдавать меня в двухклассное училище.
– В учительскую пройдите. К отцу Петру.
И старик указал пальцем на одну из дверей.
– Он уж записан у нас, – стал объяснять ему отец. – Мне только деньги заплатить за ученье и сдать его кому следует на руки.
– Не за ученье, а за право ученья. К отцу Петру иди.
И старик снова показал отцу дверь в учительскую.
– За право так за право, – сказал отец, потом пригладил свою бороду, одернул шабур, пошаркал ногами о какую-то подстилку и осторожно прошел в учительскую.
Я остался в прихожей. Она была вроде нашей кульчекской. Но только много больше. И тоже имела несколько дверей. По стенам на вешалках виднелись шабуры и пальтишки. Из-за большой закрытой двери доносился глухой шум, в котором время от времени выделялись отдельные ребячьи голоса. Судя по всему, комская школа была намного больше нашей кульчекской.
Через некоторое время отец вышел. И почти сразу за ним в прихожей показался большой, длинноволосый, чернобородый человек в черной рясе.
– Ну вот и все, – сказал отец. – Оставайся, учись, старайся. Вы уж, отец дьякон, – обратился он к чернобородому человеку в рясе, – последите тута за парнем. Один будет среди чужих ребят. Не обидели бы. Ну а я, брат, – обратился он ко мне, – поеду домой. Работа ведь.
Тут тятенька нахлобучил свою шапку, еще раз взглянул на меня и вышел.
– Как фамилия? – спросил меня по его уходе отец дьякон.
– Трошин.
– Звать как?
– Акентий…
– Не Акентий, а Иннокентий… И звать-то себя не знаешь как. Раздевайся, проходи в класс. Увидишь там ваших кульчекских – пристраивайся к ним.
В большом классе, в который я вошел, стояло три ряда парт. В первом ряду на средней парте я увидел Исаака Шевелева, и Мишку Обеднина. Третье место на их парте оставалось свободным, и я занял его. Второй и третий ряды занимали комские ученики. Они вели себя почему-то очень шумно. За стеной, рядом с нами, помещался еще один класс. Время от времени оттуда доносился глухой шум.
Почти сразу за мной в класс вошел отец дьякон.
– Ну-ка тише! – прикрикнул он на комских учеников. – Перешли в третий класс, а ведете себя хуже первогодков. Задание получили? Что вы должны делать?
– Решать задачи, – послышались голоса.
– Так в чем же дело? Почему такой шум?
– Не выходит, отец дьякон. Задача неправильная.
– Решаете неправильно, вот и не выходит.
Он постоял еще некоторое время около них и затем подошел к нам. Долго молча смотрел на нас и наконец сказал:
– Ну что же… С сегодняшнего дня вы учитесь в первом классе Комского церковноприходского двухклассного училища. А это, – тут отец дьякон кивнул головой на второй и третий ряды, занятые ребятами, – ученики Комской начальной школы. Будете учиться вместе с ними под одной крышей, но по своей программе, проходить русский язык, церковнославянский язык, арифметику – дроби, географию, историю, геометрию и природоведение. Но главным предметом будет у нас закон божий. Все остальное поелику возможно. Сегодня я должен проверить ваши знания. Комских учеников я более или менее знаю, поэтому спрашиваю приезжих. Посмотрим, с чем они к нам пожаловали.
Тут отец дьякон сделал длинную паузу и затем обратился к нам:
– Ну-ка, кто из вас прочтет мне «Песнь ангельскую»?
И я, и Исаак Шевелев, и Мишка Обеднин, и Толоконников из Проезжей Комы, и Баранов из Безкиша – молчали. Все мы не знали «Песнь ангельскую». Отец дьякон с удивлением пожал плечами:
– Не знаете «Песнь ангельскую»? Чему же вас учили три года?
Мы молчали, подавленные незнанием «Песни ангельской». Отец дьякон выжидательно смотрел на нас, потом сокрушенно покачал головой:
– Кириллов! Прочти им «Песнь ангельскую»!
Комский ученик Кириллов встал и уверенно прочитал:
– «Святый боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, Помилуй нас!»
– Садись, Кириллов. Неужели вы не знаете этой молитвы? – укоризненно спросил нас отец дьякон.
Мы с виноватым видом молчали. Наконец Толоконников набрался смелости и неуверенно сказал:
– Мы знаем эту молитву, отец дьякон. Только не знали, что она «Песня ангельская».
– Не песня, а «Песнь ангельская». А кто из вас прочтет мне «Начинательную молитву»?
Тут отец дьякон посмотрел на нас, потом указал рукой на меня и сказал:
– Трошин, прочти нам «Начинательную молитву».
Я вскочил с места и молча смотрел на отца дьякона.
– Не слышал вопрос? Прочти мне «Начинательную молитву».
Я стоял и не знал, что отвечать. В Кульчеке мы выучили много молитв. И «Отче наш», и «Достойно», и «Богородицу», и даже «Символ веры» вызубрили, но «Начинательной молитвы» я не знал.
А отец дьякон ждал моего ответа. Наконец он рассердился и грозно спросил:
– Кто из приезжих знает «Начинательную молитву»?
Исаак Шевелев, Мишка Обеднин, Толоконников из Проезжей Комы и Алешка Баранов из Безкиша вскочили со своих мест и испуганно смотрели на отца дьякона.
– Да что же это такое, – развел руками отец дьякон. – Даже «Начинательной молитвы» не знают.
Тут он грозно поднялся со своего места. «Ну, – решил я, – попадет теперь нам с этой „Начинательной молитвой“».
Отец дьякон направился к комским ученикам, которые строили друг другу рожи и выкидывали какие-то фортели руками. Один из них сразу же заметил, что отец дьякон обратил на них внимание, и уткнулся в свою тетрадку. А другой сидел спиной к нам и продолжал тискать своего товарища.
– Анашкин! – рявкнул над ним отец дьякон.
Не успел Анашкин вскочить на ноги, как был схвачен за шиворот.
– Не хочешь заниматься делом?!
Тут отец дьякон так дернул Анашкина за ухо, что тот закричал от боли. Потом отвел его в угол и поставил на колени.
– Стой так до конца урока, – сказал он ему.
И как только он обернулся к нам, Анашкин сразу скорчил рожу и показал ему язык. И дальше этот Анашкин весь урок перемигивался со своим дружком и все время над чем-то смеялся. Похоже было, что он гордился тем, что стоит перед всем классом на коленях.
Это меня очень удивило. У нас в Кульчеке поставят ученика в угол, так он ревет там, как недорезанный поросенок. А у них в Коме выдрали парня за уши, поставили на колени, а ему хоть бы что. Он даже гордится этим.
Отец дьякон больше не обращал на Анашкина внимания и опять стал экзаменовать нас. И чем больше он спрашивал нас, тем сильнее убеждался в том, что мы ничего по закону божиему не знаем.
К концу урока в класс пришел отец Петр. Он был совсем еще молодой. Борода у него только еле-еле начала расти. Он сразу заметил Анашкина в углу на коленях и посадил его на свое место. Потом спросил отца дьякона: каковы наши знания? И тут отец дьякон стал ему рассказывать, как плохо подготовлены приезжие ученики.
Оказывается, мы еще на первом году обучения должны были выучить в своей школе все главные молитвы, на втором году пройти «Священную историю Ветхого и Нового завета», а на третьем «Краткий катехизис» по началам христианского учения и учение о богослужении. Молитвы мы у Павла Константиновича действительно выучили, но не знали, как они называются. А «Священную историю Ветхого и Нового завета» Павел Константинович объяснял нам только по картинкам. Весь класс был увешан у нас этими картинками, и Павел Константинович рассказывал по ним, как хорошо жили в раю Адам и Ева, как они без спросу наелись плодов с «дерева познания добра и зла», как бог выгнал их за это из рая и поставил к воротам рая ангела с огненным мечом, как Авраам хотел зарезать Исаака в жертву богу, и многие другие интересные истории.








