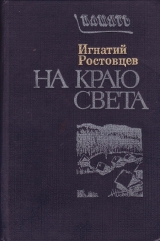
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 50 страниц)
– А чего же вы селились в этой Витебке? Ехали бы в Анаш, в Тесь, в Убей, в Брагину… Там места хорошие.
– Просились, ваше благородие. Нигде не пускают. Говорят, самим тесно. В Кульчеке хотели было взять. Запросили с нас три ведра водки да пива пять ведер. Это ведь тридцать с лишним рублей. Две коровенки можно купить. Вот и пришлось селиться в Витебку.
– Когда приехали в Витебку?
– Да уж три года живем.
– Значит, в двенадцатом году?
– В двенадцатом. Так и есть, – подтвердил мужик.
– Ничего не выйдет, – отрезал крестьянский начальник. – Главное управление по землеустройству и земледелию отпустило средства на хозяйственное устройство переселенцев по отдельным местностям водворения на трехлетие 1913–1915 годов. А ты приехал в двенадцатом. Кроме того, в связи с войной кредитование по этой статье вообще прекращено. Так что я не располагаю сейчас никакими средствами…
– Ваше благородие! – заговорил жалобно витебский мужик. – Окажите божескую милость. Невтерпеж стало. Ребятишки изголодались… На одной картошке сидим…
– Война. Денег нет. Ничего не могу сделать.
И крестьянский начальник захлопнул окно под носом у витебского мужика. Однако витебский мужик не уходил. Он стоял под окном и что-то ждал. Крестьянский начальник отвернулся от окна, потом встал и начал ходить по своей канцелярии. А мужик все стоял и стоял под окном. Наконец крестьянский начальник снова открыл окно и спросил:
– Чего ты еще ждешь?
– Ваше благородие! Христом богом прошу! Помогите… Семья большая, хлеб не родится…
– Знаю, слышал. Пшеница не дозревает, рожь, вымокает, а денег у меня нет. Где я их тебе возьму?
И крестьянский начальник снова захлопнул окно, но тут же открыл его и уже резко сказал:
– Нет денег! Нечего тут стоять! Поезжай домой!
И снова захлопнул окно.
Витебский мужик постоял еще некоторое время. Потом надел свою шляпу, обождал еще что-то и наконец поплелся через двор к воротам.
В тот день к крестьянскому начальнику приходило еще несколько просителей. Но это были все какие-то неинтересные посетители. Приходила учительница из куртакской школы с жалобой на то, что новоселовский старшина задерживает ей казенное жалованье. Потом пришел какой-то бородатый мужик из Знаменской волости с жалобой на то, что он не может добиться от общества никакого решения насчет своей усадебной земли. Сосед поставил на его усадьбу свой амбар. По его жалобе из волости приезжал заседатель, пропьянствовал в деревне два дня, ничего не решил и уехал обратно.
С этими жалобщиками крестьянский начальник решил дело очень быстро. Насчет задержки жалованья куртакской учительнице он приказал студенту взгреть как следует новоселовского старшину, а насчет спорной усадьбы обратился с просьбой к приставу послать в ту деревню знаменского урядника, осмотреть и обмерить эти спорные усадьбы и начертить их план.
Внапоследок, уж перед самым вечером, к крестьянскому начальнику пришел какой-то бородатый мужик, лет пятидесяти, в новом шабуре, в хороших бахилах, в старой, потрепанной шапке-ушанке и с бичом в руке. Он довольно уверенно подошел к окну крестьянского начальника, заткнул бич за опояску, сплюнул в сторону, снял шапку, вытащил из нее прошение, потом надел шапку и только после этого уж подал свое прошение. Все это время крестьянский начальник сидел за своим столом и смотрел на этого мужика. Этот мужик, видимо, чем-то его интересовал. А с другой стороны, и сердил. Все же он молча взял от него прошение и спросил:
– Сибиряк будешь или переселенец?
– Чево это?
– Местный будешь или из расейских? – раздраженно спросил крестьянский начальник.
– Легостаевский я. Расейских у нас нет. Все свои – русские.
– Сразу видно, – сказал крестьянский начальник. – Шапку-то сними!
– Чего сними? – спросил мужик.
– Сними шапку-то! – повторил крестьянский.
– Шапку-то? Чего ее снимать-то? Не в церкви ведь, – сказал мужик, но все-таки снял шапку и засунул ее за пазуху.
А крестьянский начальник молча читал поданную мужиком бумагу.
– Это ты будешь Емельян Лалетин?
– Я буду.
– Тут пишут, что ты нынче в крещенье на ярмарке в Новоселовой быстрой ездой сбил с ног крестьянина деревни Старой Кузурбы Степана Потылицына и тот от сильного толчка упал на землю, стряс себе внутренности и потом пролежал в постели две недели. Волостной суд два раза вызывал тебя, а на третий раз заочно приговорил тебя за это к двухдневному аресту при волостной тюрьме.
Тут крестьянский начальник отложил бумагу в сторону и уставился на легостаевского мужика. А тот стоял перед окошком и в свою очередь смотрел на крестьянского начальника.
– Теперь решение суда вошло в законную силу и приговор подлежит исполнению.
– Как это так вошло? С какой это стати в законную силу! – заговорил, повышая тон, мужик.
Крестьянский начальник с усмешкой смотрел на легостаевского мужика, а тот все больше и больше распалялся.
– Это как же так! На двое суток! Ни за что ни про что и в законную силу?!
– На суде надо было говорить об этом, а не мне. Я ведь не судья.
– На суде, на суде! Вранье там было все, на этом суде. Не сшибал я его оглоблей в плечо, а только толкнул легонько отводой по ногам, когда проезжал мимо. Ну, он дивствительно это поскользнулся и упал в снег. Так это совсем другое дело. А то сбил с ног, стрёс внутренности! Скажут же такое! Да если б я стрёс ему внутренности, так он не бежал бы за мной да не матюгался на чем свет стоит. И вранье все это, что он лежал после того две недели в постели. Он в тот же день пьянствовал в Новоселовой у родни всю ночь. У меня есть свидетели. Может, он с перепоя хворал. А что у него есть свидетель – Степан Анашкин, так ведь он шел далеко позади с нашим легостаевским мужиком Василием Онуфриевым. Почему он не вызвал в суд Василия Онуфриева? А потому, что тот всю правду сказал бы. А он позвал Степана Анашкина. А этому свидетелю – хоть он и сотский у них – круглая цена – бутылка водки. За бутылку он на отца родного покажет.
– На суде надо было все это рассказывать, Лалетин. Судьям, а не мне. Почему три раза не являлся в суд?
– Так это ж ребенку ясно, что все это дело липовое! Неужто надо ехать в суд да все это обсказывать! А для чего же там сидят судьи? Неужели они не видят, где черно, где бело.
Студент давно перестал писать свои бумаги и слушал этот разговор. Мне тоже было интересно.
– А что я жалобу на суд не подал, – продолжал мужик, – так я сначала не поверил такому-этакому. Засудить в каталажку ни в чем не повинного человека! А потом, когда мне все это втолковали, я приехал к здешнему мировому. Рассказываю ему, что и как было это дело. А он послушал меня да и говорит: «Я, – говорит, – такими пустяковыми делами не занимаюсь. Я, – говорит, – работаю по большим делам – по убийствам, по грабежам, или кто кого покалечит как следует или нанесет ножевую рану. А с этим делом, – говорит, – надо теперь ехать в Минусу на какой-то съезд крестьянских начальников». Ну, я послушал, послушал его и думаю, зачем мне ехать в Минусу, триста верст киселя хлебать, и разыскивать там какой-то съезд крестьянских начальников, когда у нас в Новоселовой сидит и заправляет делами свой крестьянский начальник…
– Поздно ты, Лалетин, вздумал хлопотать об этом. Приговор суда вошел в законную силу, и теперь его никто уже отменить не может. Так что хочешь не хочешь, а придется тебе отдежурить в волостной тюрьме двое суток. А теперь бери свою жалобу обратно и уходи отсюда. Нам говорить с тобой не о чем…
Тут крестьянский начальник сунул мужику его прошение и захлопнул окошко. Мужик оторопело стоял перед закрытым окном и, видимо, не мог сообразить, что ему делать дальше. Он повертел прошение в руках, взял его из правой руки в левую, а потом из левой руки опять в правую и наконец понял, что как ни крутись, а придется ему теперь садиться в новоселовскую каталажку. Тогда он стал махать под окном своим прошением и кричать:
– Выходит, ни за что меня в тюрьму! Да как это так! Да с какой стати! Да за меня все обчество поручится, что я ни в чем не виноват! Да я ему – туды его растуды – покажу, как меня в тюрьму сажать! Они, кузурбинские, все там заодно против наших легостаевских за то, что мы выжили их из нашего Гнилого ключика! Пять лет пасли овец на наших местах, а теперь не ндравится! Вот и мухлюют!
Долго бы еще легостаевский мужик кричал и ругался под окном у крестьянского начальника, если бы сюда не пришел пристав в сопровождении урядника. Он сразу подошел к легостаевскому мужику, уставился на него и спросил:
– Ты что, хочешь, чтобы я тебя в каталажку упрятал?
Легостаевский мужик, видимо, понял, что пристав действительно может укатать его в каталажку. Но все-таки он выдержал свой характер и спросил пристава:
– За что это в каталажку?
– За то, что орешь тут на весь двор…
– Я не ору, а дело говорю, – произнес легостаевский мужик, заталкивая свое прошение за пазуху. – Понасажали тут разного начальства невпроворот. В каждом доме по начальнику. А толку никакого не добьешься. – И не торопясь пошел со двора.
– Слушай, Герасим Петрович! – сказал крестьянский начальник. – Когда ты наконец установишь у меня при канцелярии дежурный пост? Сам видишь – невозможно работать!..
– А кого я тебе поставлю, если у меня по одному уряднику на волость. Вот дадут стражников на стан, тогда можно будет установить здесь официальный полицейский пост…
– Когда же они будут, эти твои стражники?
– Обещают.
– Я это «обещают» уж давно слышу. Когда же они все-таки будут?
– Как только вопрос разрешится в высших сферах…
– А когда он там разрешится? В чем там дело?
– В политике. Щекотливый вопрос. Его надо будет решать через Думу. А в Думе начнется перепалка. Начнут обвинять правительство в усилении полицейского аппарата.
– Не понимаю… На основании «Учреждения Сибирского» в Западной Сибири еще с девяносто второго года была введена пешая и конная полицейская стража. На две с половиной тысячи душ населения полагался один стражник. Разве нельзя распространить этот закон на Восточную Сибирь?
– Нет теперь в Западной Сибири полицейской стражи. И Западная и Восточная Сибирь с девяносто восьмого года управляется на основании высочайше утвержденного мнения Государственного совета о преобразовании крестьянских учреждений в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской. По этому положению каждый уезд делится на определенное число полицейских станов и на каждую волость полагается один конный полицейский урядник. Так, как это у нас сейчас…
– А закон от четвертого мая девятьсот третьего года? Для охраны общественного спокойствия и порядка по нему в каждом уезде должна быть организована уездная полицейская стража.
– Да! Но только во внутренних губерниях. Этот закон на Сибирь не распространяется.
– Чего проще – распространить его и на Сибирь. Правительство все еще недоучитывает напряженное положение властей на местах. Малейший пустяк, особенно наши неудачи на фронте, может привести к таким событиям, когда будет уж поздно вводить уездную полицейскую стражу. Ты сам только что видел, что здесь делается. Это бандиты какие-то, а не хлебопашцы. При встрече с таким обалдуем я все время думаю о том, что он при первом удобном случае пырнет меня ножом или оглоушит обухом, который спрячет где-то под шабуром…
Тут крестьянский начальник и пристав стали жаловаться друг другу на то, как им стало трудно теперь работать, какой последнее время мужик пошел злой и сердитый, как он при каждом случае лезет чуть не на рожон и что как ни крутись, а придется устанавливать при канцелярии полицейский пост из сотских. Вызывать по очереди от каждой волости по сотскому на неделю и сажать его здесь для порядка.
Тем временем я закончил свои продовольственные списки.
Когда крестьянский начальник с приставом и урядником ушли из канцелярии, мы со студентом проверили мои списки и кое-что исправили в них.
– Ну, теперь можешь отправляться обратно в свою Кому, – сказал мне в заключение студент. – А я напишу Евтихиеву, что ты хорошо помог мне в этом деле. Как ты поедешь? Может, тебе подводу из волости нарядить?
– Завтра у нас Липат с почтой приедет. Я с ним сюда приехал, с ним и обратно уеду.
– Это еще лучше, – сказал студент. – Тогда пошли по домам…
На другой день я уехал с Липатом в Кому. Мне очень хотелось рассказать Ивану Иннокентиевичу о том, как я работал в канцелярии у крестьянского начальника. Но Иван Иннокентиевич не обратил на меня при моем приезде никакого внимания. Как будто он и не посылал меня в Новоселову. Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович тоже не поинтересовались моей там работой. Один дедушко Митрей подробно расспросил меня, у кого я там останавливался, у кого там квартирует крестьянский начальник, какая у него крестьянская начальница, есть ли у них ребятишки, держит ли он кухарку и все такое. Потом он стал расспрашивать про магазины новоселовских купцов Терскова, Мезенина, Бобина, много ли у них приказчиков и как идет у них торговлишка. Но мне как-то не особенно хотелось рассказывать ему все это…
Глава 11 В НОВОСЕЛОВСКОМ АРХИВЕ
Один раз, уже после окончания вечерних занятий, Иван Иннокентиевич позвал меня к себе и сказал:
– Собирайся завтра с Липатом в Новоселову. Понравился ты там. Опять вызывают тебя на работу к крестьянскому начальнику.
На другой день я с Липатом и Тихоном Зыковым отправился в Новоселову. На этот раз настроение у меня было хорошее. Мне было приятно, что этот студент у крестьянского начальника вспомнил обо мне и второй раз вызвал к себе на работу. Меня распирало желание похвастать этим перед Липатом. Однако Липат не проявлял решительно никакого интереса к моей особе и к моей поездке к крестьянскому начальнику. Он был занят с Тихоном серьезным разговором о том, что по всем признакам, того и гляди, на днях объявят новую мобилизацию. Не ожидая окончания страды, заскребут последних мужиков под метелку и угонят в солдаты.
Предстоящая мобилизация Липата не волновала. Со своим горбом впереди и горбом сзади он был полный и законченный калека и еще в молодости при рекрутском наборе получил белый билет. Но ему было очень жаль Тихона. Того и гляди, угонят мужика в солдаты.
А у Тихона дела были действительно плохи. Он числился ратником ополчения первого разряда и уж при прошлой мобилизации чуть-чуть не угодил под призыв. Так что на этот раз ему несдобровать, хоть он, почитай, уж старик. Заберут как миленького. На фронт, может, и не погонят. Какой он вояка? И ружья-то всю жизнь ни разу в руках не держал. Но все равно могут укатать куда-нибудь окарауливать склады с казенным добром. А дома останется одна баба с дочерями да с парнишкой.
Вот об этом Липат и вел с Тихоном разговор всю дорогу. Он успокаивал Тихона, как мог, уверял его в том, что на этот раз начальство будет собирать старых солдат, потому что они обучены военному делу, проходили словесность и ружейные приемы и хорошо могут охранять казенные склады.
– А вас, ратников, ведь обучать еще надо, – говорил он Тихону. – Ведь не поставишь, к примеру, тебя сразу на часы. Какой ты часовой, когда и из дробовика-то стрелять не умеешь. А потом, что тебе беспокоиться? Ведь тебе уж перевалило за сорок три года. А ратников старше сорока трех лет не берут. Это я уж точно знаю. Ведь все время около начальства верчусь.
Доводы Липата, видимо, мало действовали на Тихона, и он продолжал плакаться на то, что на этот раз ему все равно не миновать мобилизации. А мобилизацию эту надо ждать со дня на день, потому как Иван Акентич опять чуть не каждый день заглядывает в свой окованный ящик и проверяет в нем красные пакеты. А эти красные пакеты – дело известное. Как развезут их нарочные по волости, так и начнется светопреставление – сплошной рев да плач. Последних мужиков угонят. Хоть бы с хлебом дали управиться, как-нибудь собрать эти злыдни, которые уцелели от засухи.
Потом Тихон с Липатом перешли к разговору о нынешнем урожае. Хлеб после дождиков, благодаренье богу, немного выправился. И травенка понаросла. Так что и сенишка все понемногу понакосили. Зиму как-нибудь продержаться можно. Ну а с весны там уж как бог велит… В общем, все бы ничего, если бы не эта война. Она всех доведет до ручки. И народ уж обессилел, и государство скоро прахом пойдет.
Так в жалобах на недород да на войну мы доехали до Новоселовой, задержавшись дольше обычного на комском перевозе. Попутчиков по ту сторону на этот раз не было, и мы с Липатом и Тихоном здорово упарились крутить проклятое паромное колесо.
В Новоселовой я, не заходя к родственникам, сразу же заявился в знакомый мне флигель, в канцелярию крестьянского начальника. Студент встретил меня приветливо и объяснил, что на этот раз вызвал меня по особому делу. В Новоселовой при волостном правлении имеется большой архив. Больше чем за сто лет. И приехал из Красноярска один ученый человек поработать в этом архиве. И ему надо будет кое в чем помочь.
– Пойдем в волостное правление. Он, наверное, уж там.
Студент замкнул свой флигель, занес ключи на квартиру крестьянского начальника, и мы отправились в волостное правление. Поднялись на галерею, соединяющую два дома, в которых помещается волостное правление. Здесь студент оставил меня одного и прошел в правый дом узнать, где находится сейчас приехавший из Красноярска ученый человек.
Я остался ждать встречи с этим человеком. Я, конечно, немного побаивался, так как никогда не видел еще ученых людей. Ученый человек, да еще из Красноярска… Кто его знает, что он за человек и зачем черт принес его сюда, в новоселовский архив. И, главное, как я буду ему помогать? Не нашел себе другого архива для работы.
Кроме того, меня подавляло и здание Новоселовского волостного правления, и люди, которые в нем находились. Это действительно волостное правление, а не простой деревенский крестовый домишко, как у нас в Коме. На галерею все время поднимались и проходили в левую половину мужики, какие-то сердитые, чем-то недовольные. Кроме меня, здесь стояли еще люди, одетые по-городскому, тоже чем-то недовольные. А потом из правой половины в левую с независимым видом прошел какой-то человек. Он мимоходом бросил людям на галерее несколько слов. Может, это заседатель новоселовский, а может, и сам старшина. А потом из левой половины вышел красивый молодой человек в пиджаке, в рубашке с галстуком и в брюках навыпуску. Он насвистывал какую-то песню и, не обращая на нас внимания, прошел на правую половину волости.
Через некоторое время оттуда вышел мой студент.
– Ну, пойдем знакомиться с Кузьмой Кузьмичом. Он здесь, в архиве.
Сначала мы вошли в большую комнату, предназначенную, видимо, для сторожей и ходоков. В ней стоял в углу большой стол и имелась плита. Слева виднелись две камеры для арестантов. В общем, все было как у нас в Коме, но только получше, подобротнее. У нас, например, двери у арестантских камер были сколочены из простых досок и сделаны с окошечками, в которые были вставлены тоненькие железные прутья. А тут двери были обиты листовым железом, а в окошечки вставлены толстые железины.
Кроме того, здесь была еще одна дверь, через которую мы вошли в большой коридор, и только через него попали в новоселовский волостной архив. Этот архив занимал всю вторую половину дома. Он был весь уставлен полками, забитыми перевязанными пачками дел. В архиве было прохладно, пахло пылью, сыромятной кожей и мышами, которые, видимо, где-то здесь обосновались на жительство. Два окна, выходящие на улицу, были настежь раскрыты, и около них за большим, грубо сколоченным столом сидел человек, которого студент называл Кузьмой Кузьмичом. По одежде он ничем не отличался от нашего Ивана Иннокентиевича. Был в таком же пиджаке с жилеткой, в длинных брюках навыпуску. Так же, как у Евтихиева, у него имелась небольшая козлиная бороденка. Но только, в отличие от Евтихиева, он был сухопарый и носил на носу большие золотые очки. Увидев нас, он встал из-за стола и пошел к нам навстречу.
– Ну вот, Кузьма Кузьмич, привел вам помощника. Надеюсь, вы останетесь им довольны. Мальчик старательный. Пишет четко, красиво. Только не особенно быстро. Зато почти без ошибок и без помарок.
– Ну что же, будем знакомы, – сказал Кузьма Кузьмич и подал мне руку. – Как звать-величать?
Смутившись, я назвал свое имя и отчество.
– А родом откуда?
– Из Кульчека…
– А мать откуда? Из Черной Комы?
– А мать из Черной Комы, – ответил я, удивившись тому, что Кузьма Кузьмич знает, откуда родом моя мать.
– Так вот, Иннокентий Гаврилович, будешь работать со мной в этом архиве. Долго я тебя здесь не продержу. Но денька три-четыре придется посидеть. Спасибо вам, Александр Евсеевич, что устроили мне помощника. Надеюсь, мы с ним сработаемся: Ну что ж, Кено, приступим к делу!
Тут Кузьма Кузьмич вынул золотые часы из жилета, посмотрел на них и сказал:
– Часика два еще поработаем…
– Кузьма Кузьмич, к четырем вас ждут сегодня к обеду у Купчиновых…
– Благодарю вас. Непременно буду. А вы заходите в свободное время поболтать…
– Обязательно, Кузьма Кузьмич…
Пока Кузьма Кузьмич разговаривал со студентом, я немного осмотрелся. Меня поразила величина новоселовского архива. У нас в Коме тоже есть архив. Но маленький, только за десять лет. И помещается он во дворе, в простом амбаре, без окон. Нынче летом Иван Иннокентиевич заставил нас с Петькой проверять его. Петька все время куда-то убегал, оставляя меня работать в амбаре одного. Три дня провели мы за проверкой архива по старой истрепанной описи. А потом я эту опись несколько дней переписывал в новую, пронумерованную, прошнурованную и припечатанную сургучной печатью книгу.
А новоселовский архив был за сто с лишним лет и весь был заставлен высокими полками. И все полки были забиты делами. Несколько дел с закладками лежало на столе у Кузьмы Кузьмича и на длинной скамейке посредине архива.
После ухода студента Кузьма Кузьмич объяснил мне, что я должен буду делать. Оказывается, мне придется переписывать для него здесь некоторые бумаги, которые он разыщет в разных делах. Тут он взял из отложенной на столе пачки одно дело восемьсот четырнадцатого года под названием «Ведомость о состоянии ясашных в Красноярском округе жительствующих», раскрыл его и попросил меня прочесть. Эта ведомость была написана не особенно разборчиво, с какими-то завитушками. Многие слова я не мог разобрать, а некоторые были мне непонятны. Кузьма Кузьмич следил за мной, помогал прочитывать неразборчивые слова, а некоторые из них даже выписал на особую бумажку. После того как мы разобрались с этой ведомостью, он попросил меня переписать ее, но непременно, не стесняясь, переспрашивать неразборчивые места.
А потом он устроил меня за стол поближе к окну, вручил это дело и придвинул чернильницу.
– Так что начинай, а я буду рыться по полкам. Может, еще найду что-нибудь интересное. Архив у вас, надо прямо сказать, замечательный.
И он полез под самый потолок разыскивать другие интересные дела, а я принялся переписывать «Ведомость о состоянии ясашных в Красноярском округе жительствующих». В ней перечислялись какие-то ясашные инородцы, которые проживали в то время в Новоселовской волости.
Оказывается, они проживали в 1814 году во многих деревнях Новоселовской волости. Одни оседло (98 душ), а другие вели кочевой образ жизни (184 души). Деревни на левом берегу Енисея, в которых проживали эти ясашные – Кузурба, Бараит, Малый Имыш и другие, меня не интересовали, а интересовали деревни на правом берегу, которые входили теперь в нашу Комскую волость. И тут оказалось, что больше всего этих ясашных проживало в то время в нашей Черной Коме. Их было здесь больше двадцати человек. И среди них имелся даже князек Никита Григорьевич Тахтараков с детьми и братьями (десять душ). А потом еще две семьи Дружининых (восемь душ) и Еремеевых (три души). И жили они хлебопашеством. Сам князец Тахтараков пахал три с половиной десятины, а его родственники две с половиной. Сверх хлебопашества они занимались еще звероловством и рыболовством, «но не изобильно». И хотя эти Тахтараковы, Дружинины и Еремеевы проживали тогда в Новоселовской волости, но в ведомости было записано, что они являются инородцами Яринской землицы, Тинской волости.
А в Медведевой, оказывается, в то время жило только двенадцать ясашных. И считались они почему-то не Яринской, а Камасинской землицы, Угумакова улуса. У них тоже имелся свой князец – Евтифей Шемелихин. Из этих двенадцати камасинцев восемь человек были одной фамилии – Тахтиных. Один из них – Иван Степанович Тахтин – проживал не в Медведевой, а в Теси. Жил он там «в сроку». Это, как мне объяснил Кузьма Кузьмич, значит, что он жил там в работниках. А хлеб ясашные в Медведевой почти не сеяли. Жили главным образом «рыбным и звериным промыслом». Только Тахтины пахали полдесятины озимого и полдесятины ярового…
Кроме Черной Комы и Медведевой, ясашные инородцы проживали еще в Улазах. Их было здесь десять душ, и считались они инородцами Яринской и Качинской землицы. А в Безкише их было только пять Душ. За рекой ясашных проживало больше всего в Кузурбе (тринадцать душ). Они были тоже Яринской землицы и Ачинского комиссариатства.
Наконец я с грехом пополам переписал эту ведомость. Кузьма Кузьмич взял ее и начал подчеркивать в ней красным карандашом какие-то места. Наподчеркивал, отложил в сторону и сказал:
– Очень хорошо! Теперь я дам тебе другое дело. Тоже об ясашных. И такое же старое, как и это.
И он вручил мне дело «Об учинении выправки о всех нациях и какого исповедания».
Выправка об ясашных в этом деле была небольшая. И написана была разборчиво. Во всяком случае, я прочитал ее без особенных затруднений, хотя и не совсем уверенно. Кузьма Кузьмич следил за мной, одобрительно поддакивал и в заключение сказал: «Вот так и перепиши».
Тут я, заикаясь и заплетаясь, сказал, что я ведомость о ясашных переписал, как вы говорили, хорошо, а оказалось там что-то неладно, и вы всю ее перечеркали красным карандашом. Теперь я напишу эту выправку, а в ней окажется тоже что-нибудь не так…
– Об этом не беспокойся, – сказал Кузьма Кузьмич. – Ошибок в твоей выписке я не нашел и сделал в ней отметки для себя. Так что спокойно продолжай работу. Ты говоришь, мать у тебя из Черной Комы?
– Из Черной Комы.
– А из какой она фамилии?
– Из Тахтиных.
– Тогда внимательно читай эти ведомости. Может быть, найдешь в них кого-нибудь из своих предков по матери.
Теперь я взялся за это второе дело. Оно относилось уже к 1819 году. Новоселовское волостное правление доносит в нем Красноярскому земскому суду, что в селениях Новоселовской волости ясашных язычников шаманского закона не имеется, а имеются ясашные греческого вероисповедания, обзаведшиеся домохозяйством, хлебопашеством и скотоводством.
И дальше давался подробный реестр с перечислением подушно всех ясашных в каждой деревне. Из этого реестра видно, что в Черной Коме проживает тридцать один человек ясашных Яринской землицы, Абалакова улуса, князьца Никифора Тахтаракова, а в Безкише – пять душ той же землицы и того же улуса, князьца Бачатова. Дальше перечислялись деревни на левом берегу Енисея: Имыш – три души, Кузурба – одиннадцать душ, Марьясова – двадцать две души, Бараит – шесть душ.
Среди чернокомских ясашных в этой выправке числился Иван Тахтин с сыновьями Сергеем и Тимофеем. Тут я сообразил, что Иван Тахтин является моим прадедом по мамоньке, а его сын Тимофей – мой родной дедушко. И как только я догадался об этом, мне сразу стало интересно читать и переписывать все эти ведомости и реестры о ясашных инородцах.
Поэтому я с особым рвением взялся за следующее дело «О доставлении сведений об инородцах», относящееся уже к 1854 году. Минусинский земский исправник 30 мая 1854 года приказал Новоселовскому волостному правлению «всенепременно через одну неделю представить ему сведения о всех проживающих в оной волости деревнях и селах – как в срочных работах (то есть в работниках), так и своими юртами – инородцах прежде бывшего Качинского ведомства и составить на них посемейные списки с указанием, какая семья к какому роду принадлежит».
На это приказание волостное правление представило земскому исправнику «Сведения о проживающих в волости инородцах». В этом списке по деревне Черная Кома числится четырнадцать дворов инородцев Качинской степной думы Тинского улуса. На все четырнадцать дворов в деле имелись посемейные списки с полным перечислением всех членов семей каждой фамилии. Из них меня больше всего интересовала, разумеется, семья моего дедушки Тимофея Ивановича Тахтина. Ему было в это время уже сорок два года. У него была жена Дарья Семеновна тридцати трех лет и несколько детей. Но моей мамы, тетки Татьяны, дядьев Екима, Савоси и Ефима в это время на свете еще не было. Они родились позже от бабушки Апросиньи, на которой дедушко женился после смерти Дарьи Семеновны.
Я помнил немного своего дедушку Тимофея. Когда я был еще совсем маленький, мы по дороге в Кому заехали с мамой к ним. Дело было зимой. На дворе трещал сильный мороз. В избе у дедушки было сильно натоплено. И почему-то было много народа. Я еще не понимал тогда, что у дедушки была огромная семья, три женатых сына. И все жили в одной избе, одной семьей. Дедушко сидел на кровати в полушубке, с трубкой в зубах и всеми распоряжался. Говорил он негромко, но наставительно. И все его почтительно слушали. Помню еще, что нас угощали за чаем намоченным на квасу маком и мелко накрошенным, настоянным на соленой воде чесноком, куда надо было макать хлеб, как в сметану. Судя по всему, это было в великий пост. На меня в доме дедушки никто не обращал внимания. Никто меня не приласкал, никто со мной не поговорил. Всем было почему-то не до меня.
Теперь я стал соображать, сколько лет могло быть в то время моему дедушке. В 1854 году ему было сорок два года, а увидел я его лет четырех-пяти, в 1903 или 1904 году. Значит, дедушке было в это время более девяноста лет.
А дальше у Кузьмы Кузьмича шло дело от 24 ноября 1858 года «Об инородцах, оседло живущих между крестьянами». Это дело касалось прямо моего дедушки. Я его быстро переписал и легко запомнил. Минусинский земский исправник послал Новоселовскому волостному правлению приказание, чтобы волостному правлению «с получением сего тотчас же предписать всем сельским старшинам, чтобы они немедленно отобрали подписки от проживающих оседло в их деревнях инородцев, особо от тех, кои желают поступить в крестьянское звание, и особо от тех, кои не желают… По собрании подписки эти немедленно представить ко мне, причем вменить в обязанность всем сельским старшинам, что если кто из проживающих в их деревне инородцев не изъявит желания поступить в крестьянское звание, то тех инородцев, не давая им ни пахотных, ни сенокосных угодий, тот же час выслать на жительство в места их причисления».








