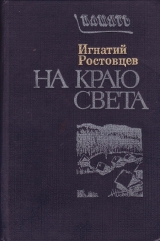
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 50 страниц)
Глава 3 ПОСЕЛЕНЦЫ МАТЮГОВ И ИВОЧКИН
– Ты чего же это, Гаврило, думаешь? Ведь со дня на день пчелы начнут роиться, а у нас опять ни одной запасной колодки. Отроится новая семья, а нам ее не на что и отсадить. И опять уйдет молодой рой в тайгу.
– Сама видишь, все некогда да недосуг, – неохотно ответил отец, – то снасть вили, то полозья гнули. С одной мельницей сколько кутерьмы было. Теперь надо ехать боронить, а потом надо еще перелогу полдесятины поднять. Все дело да работа.
– Все дело да работа, – с упреком произнесла мама, – а в Убей рыбачить нашел время поехать. Это что – тоже дело да работа? И еще парня уманил с собой. Три дня проваландались там ни за что ни про что. Пустые ведь приехали.
– Так клева же не было.
– А когда он у вас там, клев-то, был! Как придет весна, так и бегут все сломя шею в этот Убей. Прямо наказанье какое-то. А потом являются оттуда ни с чем. И у всех один ответ: клева не было. Давай, завтра же поезжай куда хочешь и вези две новых колодки на два роя.
– Что же, в Шерегеш можно съездить. Там можно найти хорошие колодки.
В пояснение этого разговора мамы с отцом следует сказать, что мы уж много лет имеем свою пасеку. Вообще пчел у нас в деревне много, и редко у кого из справных хозяев нет своей пасеки. Есть пасека у Гарасимовых, у Рябчиковых, у Ермиловых, у Спириных… Но самая большая пасека у дяди Ильи. Сколько пчел у дяди Ильи, никто не знает. У нас в деревне ведь такое поверье, что пчела – она божья труженица и счет себе не любит… Начни ее считать да медок учитывать, она возьмет да и переведется. Поэтому бесполезно спрашивать наших мужиков, особенно дядю Илью, сколько у них ульев. На такой вопрос у дяди Ильи всегда один ответ:
– Да бог их знает. Невдомек что-то. С осени-то десятков около двух было. Да уснуло зимой сколько-то. А сколько выставил – уж запамятовал. Не знаю, не знаю. Не соврать бы.
Но если у дяди Ильи, у дяди Ивана, у Гарасимовых и у других пчеловодов счет ульям держался в тайне, то у нас тут скрывать было нечего. Уж много лет мы тоже имеем пасеку. Но на нашей пасеке никогда не было больше трех-четырех ульев. В позапрошлом году мы выставили на лето три улья. Зимой два из них уснули, остался только один. От него прошлым летом отроилась хорошая семья. И теперь у нас на пасеке два улья.
Пчелами у нас раньше занимался отец. Занимался он ими очень просто. Отвезет весной колодки к дяде Илье на пасеку. Недели через три-четыре наведается посмотреть их. В сенокос заглянет за медком. А потом оставляет их уж до самой уборки на зимовку. Кончалось это плохо. Если пчелы роились, то новая семья никак не хотела прививаться на воткнутых невдалеке в землю сухих хворостинах и уходила в тайгу. Меду в ульях почему-то всегда было мало.
Теперь мама сама взялась за пасеку и стала аккуратно следить за пчелами. В прошлом году она отсадила хороший рой. Не дала ему уйти в тайгу. Пчелы благополучно перезимовали у нас в подполье, а с весны сразу вошли в силу и стали хорошо работать. Теперь мама ждала от них два новых роя и требовала для них от отца колодки.
Вечером, когда мы все собрались за чаем, отец сказал:
– Ты, Конко, поезжай завтра под Тон. Перелог под Хмелевкой надо поднимать – затянули с ним. А после начнете с Акехой боронить.
– А чем я его поднимать-то буду? Сошник у сохи ведь не держится.
– Ничего. Мы вчера с Ворошковым на новый винт его закрепили. И новую гайку поставили. А сегодня я оттянул его как следует у кузнеца. Так что соха наша в полной исправности.
– А начинать бороньбу тоже будем под Тоном?
– Там и начнем. Я завтра в Шерегеш съезжу. Надо будет две колодки для пчел вырубить. А вечером мы с Акехой подъедем к тебе на пашню…
Тут я решил, что наступил подходящий момент попроситься с тятенькой в Шерегеш посмотреть те самые места, в которых скрывались разбойники. Может, там от них остались какие-нибудь следы и знаки. И я спешу использовать подходящий случай.
– А меня, тятенька, возьми завтра в Шерегеш за колодками, – обращаюсь я к отцу, стараясь придать своей просьбе самое ласковое выражение.
– Да ведь там комары тебя заедят.
– А я их, тятенька, не боюсь.
– Поезжай лучше с Кононом на пашню…
– Сильно он мне там нужен, – пробурчал Конон. – Будет весь день торчать на меже да ныть.
– Ну, куда я тебя возьму? Я верхом поеду, с одними передками от телеги. Ведь на передки тебя не посадишь?
– А я, тятенька, тоже верхом поеду. Сяду сзади тебя – и поедем вместе. Он ведь большой, Савраско-то. А в Шерегеше я помогать тебе буду.
В конце концов, не без помощи мамы, удалось упросить отца взять меня с собой. На другой день я вскочил очень рано. Но отец и брат, оказывается, встали еще раньше. Конон уже уехал на пашню, а отец снял телегу с передков и запряг в них Савраска.
Сразу после чая мы отправились в Шерегеш. И хотя мне было очень неудобно сидеть сзади отца, но я решил ни на что не жаловаться.
Сначала мы ехали деревней. Потом проехали Первый лог, Второй, Третий и, наконец, доехали до Шерегешенского ключа. По этому ключу мы повернули прямо к вершине Шерегеша. Дорога все время шла на подъем густым лесом. Отец слез с Савраска и наказал мне ехать спокойно вперед. А сам пошел вслед пешком.
Теперь ехать было куда лучше. По мере того как мы поднимались вверх по ключу, горы становились круче и ниже. Гора с правой стороны была с каменистыми россыпями и утесами. Гора с левой стороны была хоть и крутой, но очень густо заросла лесом.
На одном из поворотов я увидел впереди высокую каменную стену, которая отвесно уходила вверх. Я догадался, что мы уже подъехали к Шерегешенской сопке, которая хорошо видна из Кульчека, вспомнил рассказ бабушки о том, что раньше здесь был сплошной кедровый лес, и сразу решил, что шерегешенские разбойники прятались в этом лесу.
– А где, тятенька, здесь разбойники жили? – спросил я отца.
– Кто их знает, где они тут жили. Они ведь только летом здесь прятались. А летом в тайге везде удобно. Сооруди где-нибудь в глухом месте шалашик около родника и живи себе спокойно. В молодые годы мы тоже разыскивали те места. И здесь, и со стороны Потайного ключика. Но так ничего и не нашли. На самом хребте, там есть, конечно, подходящие места. Спрятаться можно. Но ведь это очень далеко. Пока оттуда доберешься до деревни, и грабить никого не захочется.
– Они, тятенька, не на хребте, а здесь прятались…
– Где здесь?
– Здесь, на сопке. Здесь, говорят, ведь тайга раньше была. Глухая тайга. Вот они и прятались в этой тайге.
– Может быть, и прятались. Ну-ка ты, оголодал! – и отец с силой дернул за повод Савраска, который старался на ходу схватить и съесть какую-нибудь дудочку. Говорить о разбойниках отцу, видать, со мной не хотелось. Он передал мне повод и велел вести Савраска вперед, а сам подгонял его сзади длинной хворостиной.
Так помаленьку мы все поднимались да поднимались в гору. Шерегешенский ключ становился все меньше и меньше и еле струился на перекатах по каменьям. Вдруг одна гора сильно отошла в сторону, и на лугу, у самой горы, показалась низенькая избушка. Она была похожа на нашу баню и тоже не имела окон. От широкой двери под небольшим поднавесом была протоптана дорожка к родничку. Рядом с избушкой виднелась большая куча вытопленного лиственного корья.
– Ну вот, приехали в гости к Матюгову и Ивочкину, – сказал отец и стал выпрягать Савраска.
А я побежал по дорожке к родничку. Его вода была ловко направлена в длинный желобок и тоненькой струйкой быстро-быстро катилась по нему, со звоном падая вниз, в образовавшуюся ямку. Вода была холодная-холодная и очень вкусная. Пить ее было бы совсем хорошо, если бы не эти проклятые комары. Они лезли в глаза, липли к рукам, впивались в шею. Несмотря на это, я пил долго, не торопясь, без передышки, а потом еще решил немного умыться.
Тем временем отец выпряг Савраска, спутал его, не снимая хомута, на лужайке, а сам ушел в избушку Матюгова и Ивочкина.
Избушка эта была срублена из толстых лиственных бревен. Потолок имел в середине небольшой дымоход. Под ним на двух таганах висели два пустых котла. На стене, на толстой спице, висели два мешка с имуществом хозяев. В углу были сложены друг на друга несколько больших круглых плит вытопленной серы. Постелью служила постланная на землю толстым слоем сухая трава. У входа около двери лежало три увесистых топора и два больших чугуна для перетопки серы. Один чугун был почему-то с выбитым дном. В избушке было прохладно, приятно пахло серой, дымом и хлебом.
– Чего стоишь в дверях, – сказал отец. – Заходи, отдохни на прохладце.
Я вошел в избушку и подсел к отцу. Так вот как они живут в тайге, эти Матюгов и Ивочкин.
Матюгов и Ивочкин были в нашей деревне бобылями. С самой весны до поздней осени они промышляют серой в тайге – рубят особенно сернистый листвяг и перетапливают на серу. Эту серу они сдают потом Яше Браверману по два рубля пятьдесят копеек за пуд. Иногда они пилят кому-нибудь тес в деревне. А зимой живут у Рябчиковых – ходят за скотом, помогают по хозяйству.
Я еще раз осмотрел их избушку и обратился к отцу с вопросом:
– Они, тятенька, ведь поселенцы?
– Ты же знаешь, что они поселенцы, – недовольно ответил отец.
– Я хотел спросить, за что они сделались поселенцами? Они что, разбойниками были?
– Какие там разбойники. Матюгов по пьяному делу кого-то в драке пришиб. Вот и гонит теперь серу в тайге…
– А Ивочкин?
– Тоже что-нибудь наделал. Он ведь и сейчас еще чуть что – и хватается за нож.
– А почему они, тятенька, одни живут?
– А кто их знает. У Матюгова дочь в Яновой. Семьей живет с ребятишками.
Отец выколотил трубку о лежащее полено и стал прочищать чубук длинной травинкой.
– Там ведь работать надо, – сказал он, немного подумав. – Хочешь не хочешь, а каждый день надо впрягаться в мужицкую лямку. Ведь какое ни есть, а хозяйство. И заработка там нет. А если какая копейка и навернется – надо все отдавать. Ведь семья. А тут он недели три-четыре работает, как каторжный, а потом гуляет, пока не пропьется до копейки.
– А Ивочкин?
– У Ивочкина тоже семья в Глядене. Пока дети были малые, он дома жил. Жену бил, ребятишек тиранил. А как те подросли, так и выперли его. Вот он и заявился в Кульчек. Уж который год гонит с Матюговым серу. Листвягу повырубили – счету нет.
– А правда, что Ворошков был у нас атаманом разбойников?
– Какой он атаман. Он плотник хороший. Мастер на все руки, а не атаман. Ну, пойдем, брат. Пора.
Отец встал, прикрыл за собой дверь в избушке, потом взял с наших передков топор, и мы пошли еле заметной тропинкой в гору.
Чем выше мы поднимались, тем чаще стал встречаться нам валежник. Около каждого сваленного ветром дерева виднелась большая яма от вывороченного корня.
Но еще больше было срубленного леса. Его рубили, видать, в разное время и без всякой надобности. Казалось, вслед за бурей, валившей большие деревья, прошел еще более сильный ураган, который не валил, а рубил лес. Куда ни взгляни, везде виднелись срубленные деревья. Одни из них уж совсем сгнили, другие были еще крепкие. И на них сохранились толстые, неуклюжие и довольно прочные сучья. По большому числу срубленных и поваленных ветром деревьев можно было понять, что здесь был когда-то вековой лес. От него сохранились теперь только одинокие корявые лиственницы, которые кое-где высоко поднимались над молодой порослью.
Наконец мы выбрались на самый гребень горы, прямо к дереву, которое показалось мне особенно большим. И почему-то напомнило бродяжку, который жил в нашей бане. Это была старая, уже высохшая лиственница. Ее вершина была сломлена, может быть, ветром, а вероятнее всего, молнией во время грозы. И от этого ее редкие сучья казались еще крупнее, еще крепче.
От этой лиственницы мы пошли уже гребнем горы. Теперь картина погубленного леса еще шире развертывалась перед нами. Я шел сзади отца и стал считать поваленные деревья, но очень скоро сбился со счета.
На одном бугорочке, над самым обрывом, отец присел закурить. Справа виднелась голая вершина Шерегеша. Отсюда он выглядел почему-то совсем не так, как с нашей пашни под Тоном. Оттуда Шерегеш кажется высоким-высоким, уходит прямо в небо. А здесь он был совсем низеньким. И, главное, очень близко. Подняться еще немного, и мы почти на вершине. За ней из-за сопок торчала мохнатая шапка Атаман-горы.
А стрелка, убегающая вниз, была вся усыпана черными пнями и поваленными деревьями. И почему-то на ней не росло никакого подлеска.
– Сколько листвягу варнаки вырубили, – сказал отец, раскуривая трубку. – Лень пашню-то пахать, вот и нашли себе заработок – серу ковырять.
– Это все Матюгов и Ивочкин? – спросил я отца.
– И до них рубили. Вон видишь старые-то пни. Их ведь не так уж много. А эти варнаки ведь все начисто валят. Тут по стрелке густой листвяг был. Вот они его подряд и сняли. Гляди, стрелка-то голая совсем стала. Как будто корова все языком слизала.
– А почему этот валежник никто не везет отсюда домой на дрова? – донимаю я отца.
Но отец настроен сегодня добродушно и терпеливо отвечает на мои вопросы:
– Какой расчет… Березняку-то у самой деревни сколько хочешь. И в Первом логу, и во Втором и в Третьем. Под самым носом. Вот и рубят его там. А этот валежник так и сгниет здесь. Ни богу свечка, ни черту кочерга… Ну, давай, брат, пойдем, – сказал отец, вставая. – Видишь, лес-то как бы переваливает через наш гребешок. Там мы и начнем искать колодки.
Мы встали и направились к тому месту, где оказался почему-то один осинник. Отец быстро нашел в нем высокий сухой пень и долго осматривал его со всех сторон, стучал по нему обухом.
– Не дошел пенек… Не прогнил изнутри как следует. Пусть постоит еще годик-два. Нам ведь надо хорошее дуплистое дерево.
Не особенно далеко от этого места мы наконец нашли нужное дерево. Отец опять долго осматривал и обстукивал его. Потом быстро свалил на землю.
– Теперь давай, брат, беги к избушке за Савраском. Да не забудь веревку захватить. Не заблудишься?
– Не заблужусь. Я до той сухой лиственницы добегу, а от нее сразу вниз тропкой прямо к избушке. А оттуда я сяду на Савраска да тем же путем сюда.
– Правильно. Да не бойся там. А может, тут останешься, я сам схожу?
– Нет, нет! – испуганно сказал я. – Ты лучше еще руби здесь колодки, а я побегу. Я скоро.
– Ну, тогда валяй. Я тебя немного провожу.
Отец воткнул топор в срубленное дерево и проводил меня до того места, на котором у него был по дороге сюда перекур. Он остался на бугре, а я пошел гребнем горы до старой лиственницы. Тут я остановился и посмотрел назад. Отец стоял на том же месте и помахал мне рукой. Я тоже помахал ему и побежал тропкой под гору. Вон внизу уж широкая луговинка, на которой виднеется передок нашей телеги. А вот и избушка. Я бодро огибаю ее и… лицом к лицу сталкиваюсь с Матюговым и Ивочкиным. Они сидят возле дверей на бревне. Рядом с ними лежат на земле два огромных мешка с лиственным корьем. Встреча с Матюговым и Ивочкиным оказалась для меня столь неожиданной, что я растерялся и не знал, что делать.
Я понимал, конечно, что мне надо поздороваться и начать какой-то разговор с ними, объяснить им, что мы приехали сюда с тятенькой за колодками, но у меня почему-то не находилось нужных слов. Сказать по правде, я боялся Матюгова и Ивочкина. В деревне они живут как-то наособицу, с ребятами держатся неприветливо, никогда с нами не разговаривают, не шутят.
Нынче весной они пилили лес у Сычевых. Мы со Спирькой и Гришкой подошли посмотреть. Небольшой, коренастый, в опорках на босу ногу Ивочкин стоял высоко на козлах на бревне и равномерно поднимал вверх и опускал вниз длинную маховую пилу, а высокий кудлатый Матюгов сильным рывком тянул эту пилу вниз, а потом толчком посылал ее вверх Ивочкину. При каждом его рывке вниз пила на целый вершок уходила в глубь бревна, и из него била сильная струя опилок. Время от времени Матюгов оставлял работу, подходил к стоявшему невдалеке ведру с квасом, прикладывался к нему и подавал его потом наверх Ивочкину. В одну из таких остановок он взял топор и несколько раз ударил им по клину в разрезе бревна.
– Ты что, кажу, делаешь?! – закричал сверху Ивочкин. – Весь рез, кажу, разворотил! Пропадет теперь и тесина, и горбыль!
Он слез с козел, посмотрел снизу вверх на бревно, плюнул с досады в сторону и вдруг неожиданно набросился на нас:
– Чего вы тут, кажу, вертитесь! Идите отседова! А то я вас, кажу!
Мы бросились бежать.
– Кажу да кажу… Вот тебе и кажу, – обиженно сказал Спирька, когда мы отбежали в сторону. – Ишь, какой сердитый выискался.
Матюгов и Ивочкин недели две еще пилили тес у Сычевых, но мы и близко к ним не подходили. Мало ли что взбредет им в голову. И вот теперь я вплотную столкнулся с ними, да еще на их лужайке. Вдруг Ивочкин ни с того ни с сего опять рассердится на меня?.. «Уйти скорее отсюда, – соображаю я. – Сесть на Савраска и скорее к отцу».
– Ты чего тут, кажу, делаешь? – спросил меня Ивочкин.
– Мы с тятей за колодками приехали, – поспешил ответить я.
– А ты чей будешь? – спрашивает меня еще раз Ивочкин.
– Что, не видишь? Гани Трошина парнишко, – ответил за меня Матюгов и в свою очередь спросил:
– А отец-то где?
– Отец-то тут на горе. Колодки рубит. А я за Савраском…
Не ожидая дальнейших расспросов, я спешу уйти поскорее от избушки, чтобы взять Савраска и отправиться к отцу.
Но, на мою беду, Савраски почему-то нет. Я кручусь по лужайке туда-сюда, подбегаю к передкам, к родничку, к тропинке в деревню и окончательно решаю, что он подался от гнуса домой в Кульчек. Я хочу уже бежать за ним вниз по ключику, как вдруг слышу голос Ивочкина:
– Что, потерял коня-то? Во-о-он он, твой Саврасый. В кусты залез. От гнуса спрятался.
Я смотрю на сплошную стену из кустарника, густо проросшего дурниной, на которую показал мне Ивочкин, и не могу сообразить, где там укрылся мой Савраско. Но тут я уловил глухое бряканье удил на его уздечке и сразу же бросился в гущу мелкого тальника. Савраско стоял здесь, уткнув голову в высокую дурнину, отчаянно отмахиваясь хвостом от одолевающего его гнуса.
Ему приходилось действительно туго: грудь, подмышки, подглазницы и все другие уязвимые места были сплошь залеплены мошкой, комаром, слепнями. Огромные пауты с сердитым жужжанием кружились над ним.
Когда Савраско увидел, что я разыскал его, он даже проржал мне что-то такое, что на его лошадином языке должно было означать: посмотрите, люди добрые, что делается… Совсем гнус одолел…
Я прежде всего обтер его, мои ладони сразу покрылись кровью. Савраско благодарно терся о меня своей головой. Потом я распутал его и повел из дурнины. Но тут он стал жадно хватать все, что можно было съесть… Он не выбирал сочные зеленые травинки, которые прорастали в дурнине, а жадно хватал все, что попадалось ему, даже сухие прошлогодние дудки.
Все-таки я кое-как вывел его из кустов. Потом напоил в родничке и только после этого подвел к нашему передку от телеги. Тут я взял из торсука помазок с дегтем и стал смазывать ему все изъеденные места. Савраско сразу забыл о своем голоде и стал опять благодарно тереться о меня головой. Он спокойно стоял, пока я смазывал ему под мышками, под брюхом, подглазницы, и только болтал головой вверх и вниз, вверх и вниз, отпугивая мошку. Но как только я кончил смазывать его, он опять с жадностью начал щипать подножную траву.
Теперь мне оставалось только взять с передков веревку. Ее я, как полагается в таких случаях, привязал к шлее, потом подвел Савраска к передку телеги, чтобы сесть на него с колеса. Пока я влезал на колесо, он потянулся щипать траву и отошел в сторону. Тогда я опять подвел его к передку и полез на колесо. А он снова потянулся за травой и опять отошел в сторону. Он не вырывался, не лягался, не грозился укусить меня, просто не признавал меня, с жадностью хватая поблекшую траву, как будто век не ел ничего. Тогда я решил взнуздать его, чтобы мне легче было с ним справиться. Ткнув его несколько раз ногой по морде, я заставил его оторваться от травы и попробовал всунуть ему в рот удила. Но Савраско стиснул зубы, а потом задрал голову так высоко, что я не мог уже дотянуться до его морды.
«Эх, Савраско, Савраско! – с горечью думал я. – Напоил тебя как следует, смазал дегтем от гнуса… А ты!»
Тут я вспомнил, что отец давно уж ждет меня около своих колодок, и попробовал еще раз сесть на Савраска. Но и на этот раз у меня ничего не вышло. Тогда я с досады изо всей силы стегнул его по морде. Но Савраско только и ждал этого, чтобы совсем отделаться от меня. Он бросился в сторону, как будто испугался меня, а потом как ни в чем не бывало опять стал спокойно щипать траву. Теперь, как только я пробовал подойти к нему и взять его за повод, он угрожающе повертывался ко мне задом. Тут я уж совсем не знал, что делать. Идти одному к отцу, а Савраско тем временем может податься отсюда домой в деревню. Ждать отца здесь?.. Кто знает, когда он придет. И в том и в другом случае он сильно рассердится. В отчаянии я все кружился и кружился вокруг Савраска и даже не заметил, как начал плакать.
Это заметил Матюгов. Он подошел к Савраске, схватил его за повод, ударил коленом под брюхо и сердито прорычал:
– Ну-ка, ты, волк идринский! Оголодал!
Савраско и после этого попробовал было схватить какую-то дудочку, но Матюгов так рванул за повод, что у него отпала всякая охота тянуться за травой. Потом Матюгов взнуздал его, поправил на нем хомут и привязанную мной веревку. Теперь Савраско стоял смирно на месте и ждал, что Матюгов будет делать дальше. А Матюгов схватил меня под мышки и посадил на него. Потом взял с земли увесистый прут, подал его мне и сказал:
– В случае чего – бей его этой штукой. А то он вызнал тебя. Видит, что ты еще маленький. Ну-ко, ты у меня! – пригрозил он Савраске, взял его за повод и вывел на тропинку в гору. – Ну, давай теперь. Поезжай. Отец-то уж ждет там тебя.
Он еще раз огрел Савраска подобранной на земле хворостиной и крикнул мне вдогонку:
– Давай, давай! Шевели его как следует.
Я крепко натянул повод и, по совету Матюгова, изо всей силы ожгнул Савраска своим прутом. Он приложил уши и послушно пошел в гору. По дороге он пробовал хватать на ходу сухие дудки, но я каждый раз сразу же стегал его своей хворостиной. На горе под старой сухой лиственницей я увидел отца, который, видать, уж давно ждал меня здесь.
– Чего ты там валандался? – недовольно спросил он.
Я рассказал ему о своих злоключениях и о том, как Матюгов помог мне справиться с ним. Мне думалось, что отец похвалит меня за это. А он в ответ только пробурчал, что солнце уже перевалило за обед, что ехать домой нам далеко и что поэтому надо пошевеливаться.
Мы сразу же отправились к сваленному дереву. Отец уже вырубил из него длинное ровное бревно, из которого можно сделать две колодки для пчел. Теперь он подцепил его на веревку. А веревку крепко привязал к гужам. Потом посадил меня на Савраска, для чего-то стукнул еще несколько раз по бревну обухом и сказал:
– Поехали!
Я осторожно тронул Савраска. Он легко взял с места и потащил наше бревно волоком по земле.
Перед спуском к избушке мне опять пришлось проезжать мимо этого высокого окостеневшего дерева, которое одиноко маячило на горе. Мне хотелось постоять около него, посмотреть кругом на Шерегеш, на окружающие горы. Но я боялся, что отец рассердится на меня, и только поглядел на это дерево и как-то особенно сильно ощутил его пронзительный вид.
Матюгова и Ивочкина мы застали за обедом. Они сидели на земле перед своей избушкой и хлебали из одного котла какое-то варево. Пока отец привязывал привезенное бревно на передок телеги да запрягал Савраска, я пристроился недалеко от них в сторонке и стал прислушиваться к их разговору.
– Надоело мне тут валандаться, – ворчал Матюгов. – Ворочаем, ворочаем эту тайгу как каторжные, а заработок… концы не сводим. На харч не хватает.
– Вот я и говорю – уходить надо, кажу, отсюдова, – убеждал Матюгова Ивочкин. – На хороший листвяг уходить надо, кажу. Вон на Блече одно дерево лучше другого. Стоят как свечки! Залиты серой! Свалил три-четыре комля – и пуд серы.
– Устал я твои комли валить. Весь вымахался здесь в Шерегеше. Не могу больше! Живем как псы безродные. Голову приклонить негде. Поеду в Янову к дочери. Может, не прогонит на старости лет.
– Ну, а мне, кажу, не к кому податься, – решительно заявил Ивочкин. – Баба умерла, царство ей небесное, не добром будь вспомянута. А дети… А дети, кажу, из дома выгнали. Видно, мне на роду написано подыхать в тайге. А в тайге подыхать все одно – что в Шерегеше, что, кажу, в Блече… Ты как думаешь, Гаврило, насчет этого? – обращается он к отцу.
– Да о чем разговор-то? – спрашивает отец. Он уже привязал бревно к передку телеги, запряг Савраска и, перед отъездом, подошел перемолвиться словечком с хозяевами.
– Да вот, кажу, уговариваю Матюгова уходить отседова. В Блечу советую податься. На хороший листвяг. А здесь даже на харч не вырабатываем. Из долгов у Рябчиковых не можем выкарабкаться.
– Листвягу совсем не стало, – добавил Матюгов.
– Сами же все вырубили, – возразил отец, – ну и пеняйте на себя. До вас тут по хребту-то настоящая тайга была. Между прочим, дача-то здесь, мужики, ведь кульчекская – общественная. Ведь обчество-то, оно смотрит, смотрит да и расчет потребует!
– Ну, расчет с нас, кажу, надо было требовать раньше, – возразил отцу Ивочкин, – когда у нас здесь заработок был. Тогды мы обчеству, кажу, запросто ведро водки могли выставить. А теперь мы сами ее, злодейку, только по большим праздникам видим. Теперь обчество от нас, кажу, и шкалика не дождется. Не тот прибыток. Уходить надо отседова. В Блечу надо переходить. Там листвяг хороший.
– Но Блеча-то ведь в казенной даче, – сказал отец. – Придется в лесничестве билет брать на порубку, а то морока у вас с этим делом начнется. И так, говорят, объездчик зуб на вас точит.
– А ему какое, кажу, дело. Что ему – тайгу жалко? Мы ее рубим, а она, кажу, растет. Вон гляди, в Мохнатеньком на нашей вырубке какой листвяг. Через два-три года не продерешься.
– Через два-три года от него там ничего не останется. Все повырубят на дрова. А насчет Блечи вам, мужики, виднее. Листвяг там действительно хороший. Только это ведь далеко. Место глухое. На зверя легко напороться. Случись что, и в деревню не выберешься.
Отец встал и обратился ко мне:
– Ну, брат, поедем.
Мы подошли к Савраске. Отец посадил меня верхом и наказал не считать по дороге ворон, а смотреть как следует вперед, чтобы не напороться на какой-либо пень или колоду. Потом взял свой топор, засунул его за опояску и коротко сказал:
– Трогай!
– Постой, постой, Гаврило! – услышали мы от избушки голос Ивочкина. Он подошел к нам. – Забыл, кажу, попросить тебя. Забеги там, пожалустова, к Рябчиковым. Весь харч, скажи, вышел. Пусть завтра привезут хлеба, мяса, картошки. Самим в деревню идти – день терять. Да и серу отседова надо, кажу, вывезти. Тут у нас без малова пудов пять накопилось. Не тащить же на себе такую тяжесть.
– Матюгов здоровый, притащит.
– Здоров-то здоров, да уж не тот. Гайка-то, кажу, начинает сдавать. Грозится уйти в Янову к дочери.
– Ну, у дочери он долго не засидится, – сказал отец. – Поживет месяц-другой и сбежит. После такого приволья нянчить внучат да поросят кормить ему не понравится. А крестьянскую работу ворочать он не любит.
– Это верно. К крестьянству мы с ним, кажу, непривычны. Любим жить без домашней упряжки. А все же оставаться в тайге одному как-то сумлительно. Особенно в Блече.
– А ты не сумлевайся. Никуда он от тебя не денется. А если и уйдет, то все равно недели через две-три заявится обратно.
– Так не забудь, к Рябкам-то забеги.
– Забегу, забегу. Сразу же с дороги и зайду. Ну, трогай!
Дорогой я уже не высматривал места, где могли прятаться разбойники. Глядя на черные пни, которыми были усеяны горы против сопки, я думал о том, что, может быть, в старые годы здесь шумела кедровая тайга. А одинокие лиственницы, кое-где маячившие на хребте, напоминали мне высокое сухое дерево, которое одиноко стоит на голом хребте над избушкой Матюгова и Ивочкина.
Домой мы приехали уже поздно. За день я очень устал и уснул за чаем, не выходя из-за стола.
Ночью мне снился Шерегеш, лужайка с избушкой Матюгова и Ивочкина. Я с трудом продираюсь через валежник на голый гребень горы, где маячит старая сухая лиственница. И тут я вижу, как к ней медленно подходят два огромных мужика с топорами в руках. Я сразу узнаю в них Матюгова и Ивочкина. Они не торопясь подходят к дереву, обстукивают и обслушивают его со всех сторон. Потом вдруг сразу, как бы сговорившись, начинают в два топора с двух сторон рубить. Я хочу крикнуть им, чтобы они пожалели дерево, но у меня вдруг пропадает голос, хочу побежать к ним, удержать их – и не могу сдвинуться с места. А Матюгов и Ивочкин все рубят и рубят лиственницу, удары их топоров все сильнее и больнее отдаются в моих ушах. Вдруг послышался пронзительный скрип. Дерево качнулось, последний раз взмахнуло своими окостеневшими сучьями и со стоном рухнуло на землю.
Я закричал от страха и проснулся.








