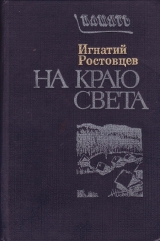
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 50 страниц)
Игнатий Ростовцев
НА КРАЮ СВЕТА. ПОДПИСАРЕНОК
Светлой памяти сына моего Сережи
Страницы русской истории
Имя И. Ростовцева мало что говорит широким читательским кругам. Тем более приятно и радостно сообщить, что их ждет подлинное художественное открытие, знакомство с новым, неведомым миром.
Страницы нашей истории…Так, скорее всего, можно назвать записки И. Ростовцева «На краю света» и «Подписаренок», объединенные в одной книге историко-биографического характера.
Думается, эта книга вряд ли кого-либо оставит равнодушным. И это вполне понятно. Наше время глазами все новых поколений советских людей, наследников Великого Октября, пристально вглядывается в свою историю. И такой интерес – всегда показатель духовной зрелости нации, ее острого понимания своей роли, своего места в нынешней тревожной жизни.
Любой этап истории родного Отечества интересен, а тем более – времена, о которых мы знаем пока еще довольно мало. Среди них события последних предреволюционных лет на окраине царской России, «на краю света», как об этом говорит сам автор, – в таежной сибирской деревне Кульчек и глухом селе Кома.
Автор записок – бытописатель в лучшем, в наши дни, правда, несколько позабытом, смысле этого слова. Автор-повествователь своей книгой продолжает и расширяет традиции бытописания, которое как историко-художественный жанр всегда занимало достойное место в национальной русской литературе. Из писателей прошлого достаточно назвать имена С. Т. Аксакова, В. И. Даля – Казака Луганского, С. В. Максимова, а из наших современников – Вл. Солоухина, В. Белова, художника-писателя Ник. Кузьмина.
Непритязательно и внешне крайне просто авторское повествование. Но за ним – живой взгляд ребенка на окружающее: русский крестьянский быт Сибири начала нынешнего века, поверья и рассказы старших о домовых и леших, о местных разбойниках, о повадках животных и птиц…
Путешествие рассказчика мальчика Кены – Иннокентия – в недалекий Шерегеш превращается в праздник юной души. В познании и открытии мира, природы Сибири проявляется детская любознательность и свежесть восприятия разнообразных новых впечатлений.
Органично и естественно включаются в канву повествования народные предания, а в их числе рассказ о легендарных «чудских» курганах и своенравном народе, который предпочел рабству под «белым царем» добровольную смерть в курганах-склепах.
Перед читателем проходят неторопливые сцены повседневной сельской жизни, деревенских посиделок, вечёрок, народных праздников, колоритные эпизоды знахарского лечения и многое другое.
Но в этом неторопливом и пристально-подробном повествовании, воскрешающем в странно узнаваемых деталях черты национального – давно уже забытого – русского быта, нет и намека на какое-либо самолюбование или на воспевание патриархального крестьянского уклада жизни. Тяжелый, упорный, постоянный, но необходимый и урочный труд на земле в поте лица с малых лет и до конца жизни – вот удел русского крестьянина. Виды на урожай, состояние пашни, рост кормовых трав, жизнь сельского стада – все это становилось предметом практического интереса и нелегких каждодневных забот с младенческого возраста. Мальчик Кено едет на боронование по просьбе дяди Ильи, дальнего родственника отца, и целые сутки напролет трудится на дальней таежной пашне. Выполняя нелегкую службу землепашца, мальчик познает этот труд своим неокрепшим телом, принимает распрямляющимся сознанием, постигает всю тяжесть и радость его итогов.
Контрасты деревенского бытового уклада: пьянство, похмельный разгул – и подлинное благородство; жестокость – и душевная нежность – все это соседствует и в реальной жизни тех лет, и на страницах повестей И. Ростовцева.
Удивительно поэтичны и жизненны сцены знакомства с книгой Ушинского «Родное слово», коллективного семейного чтения «Конька-Горбунка» П. П. Ершова в деревенской избе. Сельские грамотеи бережно относятся к книге, тянутся жадно к печатному слову и знаниям, как к свету, да и само чтение в свободное вечернее время прямо связано со светом – лампы, лучины, свечи, прямо зависит от него. И как часто нехватка керосина или свеч оборачивалась отказом от радостей чтения: необходимо было беречь и керосин, и свечи, не входить в лишние расходы, ибо каждая крестьянская копейка буквально на счету, а поборы и налоги нескончаемы и разнообразны.
Чтение и учение – счастье пытливого деревенского подростка, и в повести «На краю света» школьные сцены и эпизоды – самые светлые и яркие. В них подробно и душевно представлена личность учителя Павла Константиновича, русского сельского интеллигента, несущего в народ свои знания, духовно формирующего крестьянских детей, а заодно и их родителей, для которых он – высший авторитет во всех вопросах.
Понятно, что в дореволюционном крестьянском быту одно из ведущих мест в общественном воспитании занимала церковь. И автор подробно говорит об этом, вводя нас в классы церковноприходской школы, подвергаясь на наших глазах строгому церковному причастию, рассказывая о нравах церковного причта.
Книжные церковные премудрости по-своему воспринимаются цепким и практичным крестьянским умом, сплошь и рядом приводят к бунту, к скептическому недоверию, вызываемому благостными сказками житийной литературы со всеми их «чудесами святых». Характерно и отношение народа к «старцам» и монахам, о котором автор пишет так: «В народе у нас почему-то не любят богомольных мужиков, относятся к ним с насмешкой, считают их лодырями, отлынивающими от тяжелой мужицкой работы». В день смерти Л. Н. Толстого учитель Павел Константинович распускает детей по домам в знак всенародного траура, не скрывая того, что у великого русского писателя были сложные отношения с православной церковью. Немалая смелость по тем временам, но оправдана она самим отношением народа к церковникам.
В круговороте повседневной жизни перед нами проходят сцены свадеб и наборов в рекруты, пения любимых песен, теплых родственных отношений и бытовых невзгод – болезней, борьбы как спортивной забавы и как жестокой кровавой драки, охоты как промысла, пастьбы скота, пчеловодства, смолокурения, добычи сорок для выделки из них чучел, походов к дальним заимкам и многое другое.
Время – главный герой повествования И. Ростовцева. Именно во времени происходит взросление и мужание автора-рассказчика, его открытие мири природы и мира людей. В естественной сезонной смене времен года проходят перед нашими глазами важные исторические события: русско-японская война 1901 года, так близко затронувшая «бойцов» и «полубойцов» Западной и Восточной Сибири, отголоски первой русской революции, начало первой мировой войны (с большим трудом воспринимаемой сибиряками – не как понятной войны с «японцем», а как необычной войны с «германцем» и «австрияком», традиционными союзниками русского царя). И в далекую Енисейскую губернию приходят знойным летом 1914 года газетные сообщения о «патриотических» манифестациях в Петербурге и Москве, о введении военной цензуры, особого положения для всей страны и военного положения – для Сибирской железной дороги…
Автор говорит о социальных отношениях предреволюционной России: нарастании «злости мужика», готовности народа к неосознанному бунту, ожидании им просветляющего слова большевистской правды о классовой борьбе. Старшина волости и новое начальство напрасно пытаются «пресечь беспорядки и настроения» – надвигается пора необратимых перемен. Это прекрасно чувствуют и служащие волостных административных учреждений – волостные писари и их помощники.
Последние главы первой повести тематически подготавливают вторую книгу. Автор рассказывает о сельском сходе, о начале своей трудовой деятельности в качестве «подписаренка» в волостном правлении.
Эта малоизвестная сторона жизни низовой администрации предреволюционной России впервые так широко и обстоятельно описана в русской художественной литературе. Будни делопроизводства, судебные разбирательства, быт волостной администрации, податные дела и судебное крючкотворство, взаимные тяжбы крестьян, их поведение на суде – все это чередой проходит перед глазами читателей.
Персонажи повестей И. Ростовцева достоверны и зримы, мы легко представляем каждого из них. Будь это учитель Павел Константинович, учительница и библиотекарь Таисия Герасимовна, ссыльнопоселенцы Сергей Измаич и Таисия Александровна, служащие волостного правления, староста Финоген, тетка Татьяна и тетка Марья, родители, братья и сестры, друзья детства автора-рассказчика.
Интересен сам образ автора – крестьянина-хлебопашца, книгочея, зрителя театральных народных представлений, летописца событий, участником и очевидцем которых он был. Через всю книгу проходит мысль о том, что трудолюбие и честность, порядочность и совестливость – основа высокой духовности человека, его душевной красоты. И не случайно завершается рукопись кратким и поэтичным рассуждением автора о необходимости и вечности труда как творческого начала жизни:
«Я был здоров, трудолюбив и не сознавал свою жизнь без работы. И будущее предстояло предо мной как огромное поле, на котором придется вечно трудиться…»
Достоверность и фактографичность повестей И. Ростовцева носят в целом художественный характер и не мешают, а напротив, помогают живому читательскому восприятию описываемых событий и ситуаций.
Точность деталей, индивидуализация языка персонажей способствуют психологизму повествования, его динамике – движению от видения мира наивными глазами ребенка и подростка до понимания его взрослым, достаточно зрелым человеком. Наиболее ярко психологизм описания проявился в эпизодах судебных разбирательств, в частности, в описании тяжбы проезжекомских мужиков с витебскими переселенцами по поводу мнимой потравы ржаного поля. Интересны в этом же плане и сцены мобилизации, «обряда прощания» рекрутов. Поэтичен и достоверен зимний таежный пейзаж, в описании которого в полной мере проявляется авторское внимание к деталям при целостности общей картины замершего и обледеневшего леса:
«…Я попробовал о чем-нибудь думать. Но ни о чем почему-то не думалось. Тогда я решил выйти ненадолго из избушки. Снаружи здорово загвоздило. Отвесная сопка над нашим зимовьем, высокие горы, покрытые лесом, как бы оледенели от мороза. Над всем стояла тишина, совсем не похожая на тишину летом. Деревья летом в тайге все-таки живые и трава живая. Иногда прошумит слабый ветерок, прокричит ночная птица; как выстрел, раздастся резкий звук сломившегося сучка. А здесь все как бы умерло и обледенело… Только редко-редко снег беззвучно упадет с пихтовой или еловой ветки. И хотя наше зимовье было в глубокой распадине между высоких гор, но казалось, что мы находимся здесь где-то высоко-высоко под самым небом, а наш теплый уютный Кульчек лежит далеко-далеко внизу, за пределами бесконечного заледеневшего леса».
В книге И. Ростовцева нет нарочитого украшательства, стремления к «художественности» во что бы то ни стало. И это очень хорошо и органично. Бытописательский жанр по сути своей чужд стилистических побрякушек, словесных елочных украшений. Сила его – в точности деталей и языка, в правдивости жеста, воплощенного в слове. Всем этим писатель владеет как настоящий мастер.
Удивителен язык повестей – разнообразный и индивидуализированный, точный, а местами по-сибирски сочный. Диалектные слова и выражения вполне понятны ил контекста, и не они составляют основу повествования. Словообразовательные диалектизмы типа «листвяг» (то есть лиственный лес) или экспрессивные глаголы вроде «изнахратиться» (испортиться, зазнаться), «загвоздить» (заморозить, ударить морозом, стужей) – вот основа авторского лексикона, вводящего нас в стихию народной русской речи. А таким словам-понятиям, как «потёма» (способ зимнего ночлега охотников под открытым небом, на выжженной костром земле) или «гоньба» (порядок передвижения на бесплатных подводах), автор посвящает отдельные сюжеты, подробно описывая соответствующие реалии старого быта.
Автобиографический, историко-этнографический, бытовой жанр художественной литературы, так удачно представленный в книге «На краю света», помимо всего прочего служит в наше время осуществлению языковой «экологической» задачи – сохранению и возрождению народного словотворчества, расчистке живых истоков русского слова в его национальной неповторимой складке, природном органичном звучании. И в этом смысле проза И. Ростовцева делает полезное и нужное дело.
ЛЕВ СКВОРЦОВ,
доктор филологических наук,
зав. сектором культуры речи
Института русского языка АН СССР
НА КРАЮ СВЕТА
Глава 1 НАШ БЕДНЫЙ ПЕСТРЯ, БАБУШКА И Я
– Ну и зима нынче, – говорит бабушка, глядя в заиндевевшее окно. – Свету божьего не видно. Ночью-то так и бухает, так и стреляет. Земля-то, бедная, уж не держит. Рвется от морозу-то. Последние времена, видать, пришли. Прогневили бога, вот и мучаемся за грехи за наши. Ешь, милок! Ешь! Доедай хлеб-то…
Я смотрю в окно и вижу, что на улице действительно света божьего не видно. Морозная пыль скрыла солнце, и сквозь нее еле-еле виден наш переулок, ограда соседей Крысиных и далекие горы, покрытые щетинистым лесом. На улице все обледенело. Но у нас в избе тепло и уютно. У самых дверей, под полатями, весь день весело шумит и потрескивает железная печка. Большая русская печь тоже основательно протоплена, и из нее сильно пахнет свежевыпеченным хлебом. Отец раным-рано уехал в тайгу за дровами. Брат Конон с утра в школе. Мама с сестрой Чуней тоже куда-то ушли по хозяйству. А мы с бабушкой сидим за столом, и я охминаю пшеничный хлеб со сметаной. Бабушка кормит меня терпеливо, с ласковыми назиданиями.
– Облизьяна ты, вот кто! – говорит она и вытирает мои руки и мое лицо, вымазанные сметаной. – Не лезь руками в блюдцо-то! Ах ты, восподи! Ну, что за парнишко! Прямо беда с тобой. Бери хлебца-то побольше, а сметанки-то поменьше!
Я послушно стараюсь брать побольше хлебца и поменьше сметаны. Но у меня все получается как-то наоборот, и я наворачиваю на маленький кусочек хлеба почти всю сметану из блюдца. И снова бабушка терпеливо обтирает меня рушником и даже не особенно сердится, так как думает в это время о чем-то о своем.
– Ночью-то пошла в охлев посмотреть теленка, – говорит она не то мне, не то сама с собой. – Не замерз бы, думаю, теленочек-то. Вышла на крылечко… На дворе ни зги не видно. Грудь от морозу спирает. Только спустилась это с крылечка-то, вдруг под ногами-то у меня как ухнет… Прямо как из ружья. Я так вся и обмерла. Не могу с перепугу-то ни ногой, ни рукой шевельнуть. Только молитву читаю: «Свят, свят, свят восподь Саваоф!» Читаю это молитву-то, а под ногами у меня, вижу, щель в земле объявилась. И пар из нее так и стелется. За грехи, думаю, карает нас восподь, за провинности… А идти дальше-то уж боюсь. Так и не пошла в охлев-то. Отец уж твой ходил потом. Живой теленочек-то, слава богу…
Мне непонятно: за что нас с бабушкой все время карает господь бог? Очевидно, мы его чем-то сильно прогневили, если на улице все так обледенело, что даже земля колется от мороза.
– Теперь что… – продолжает бабушка, шуруя железную печку. – Теперь мы живем, слава богу, в тепле. А ведь на моей памяти этих железных печек-то и в помине не было. А морозы-то разве такие стояли… Птицы на лету замерзали. Вот какие морозы были. Летит это воробей, летит и вдруг падает камнем на землю. Подбежишь, схватишь его в руки, а он, бедняжка, уж богу душеньку отдал. Начнешь его отогревать… Он, глядишь, и затрепыхается. Так и жили. А что делать. Надо было как-то жить. Натопят большую печь как следует, да жар-то, ну, уголья-то, и выгребут в большие горшки. Потом накроют эти горшки каменными плитками да и расставят в избе по всем углам. Ну, оно и потеплеет немного. А теперь что… Благодать… – Не торопясь, бабушка подбрасывает в железную печку дров, подходит к окну и долго смотрит на улицу: – Отец-то за дровами в Шерегеш поехал. Не случилось бы чего с мужиком – такой мороз. Весь день в снегу по горло. Снасть рвется. Мало ли что в тайге может приключиться.
Пока на улице стоят такие морозы, мне ничего не остается, как весь день отсиживаться в избе, играть на полу, томиться на лавке у окна, рассматривая морозные узоры на стеклах, щепать лучину около железной печки или просто валяться на полатях.
Из всех мест в нашей избе мне почему-то больше всего нравится сидеть под кроватью. Залезешь туда да и смотришь из-за занавески на то, что у нас делается в доме. Из-под кровати все выглядит в избе как-то по-особенному. Вот открылась дверь, и из сеней врывается сначала белый холодный пар и медленно стелется по избе. А потом появляются чьи-то ноги в валенках. Они потоптались немного у порога, потом подошли к железной печке и тут остановились. И я знаю, что это пришел домой тятенька, что он стоит сейчас у печки и сдирает со своей бороды сосульки, которые намерзли у него, пока он ездил в Шерегеш за дровами. Сосульки с шипением падают одна за другой на раскаленную печку, а тятенька стоит рядом да рассказывает о том, какой большой снег нынче в Шерегеше и как трудно было сегодня протаптывать дорогу к дровам.
А вот вошли чьи-то сагыры и тоже потоптались у порога, потерли себя немного о половик, а потом раздался мамонькин голос: «Ты чего же это, Чуня, сидишь да сидишь за своей прялкой? А кто за нас коров погонит на речку поить?..» И тут, через некоторое время, мимо меня пробегают в сени Чунины валенки. И я понимаю, что это Чуня побежала поить на речку нашу скотину.
А под кроватью у нас много всякого добра. Зимой, особенно в морозы, все ходят в валенках, а свои сагыры бросают под кровать. А иногда туда затешется невзначай с печки старый валенок. И вот они лежат там вместе в полутемноте, и большой сагыр с согнутым морщинистым голенищем и с задранным кверху носом вроде что-то шепчет лежащему около него дырявому валенку. Того и гляди, сговорятся да и пойдут ходить вместе по избе.
Иногда отец принесет в избу два-три хомута для починки и тоже бросит их под кровать. Один хомут красивый, с крашеными клешнями, с кожаным подхомутником, с сыромятной супонью. И шлея у него тоже кожаная, с красивыми кистями и вся изукрашена медными бляшками. Одни бляшки крупные, другие помельче, одни совсем новые, а другие тусклые и потертые.
Второй хомут уже похуже. Он хотя и с кожаной шлеей, но эта шлея изорвана и починена в разных местах. А третий хомут уж совсем плохой, с холщовым подхомутником и веревочной шлеей. И надевают этот хомут на уросливую кобыленку, когда едут в Шерегеш за крежником.
А хороший хомут тятенька надевает на нашего Гнедка. Наденет, запряжет в выездной коробок и поставит под окнами у ворот. И вот стоит наш Гнедко такой нарядный, как именинник. Шлея на нем вся изукрашена и блестит, дуга с колокольцами. Садись и поезжай в гости к кому надо.
Еще я люблю лежать на полатях… Лежишь и смотришь оттуда, сверху. И вес видишь в избе как на ладони – что делает мамонька, что делает Чуня, что делает бабушка… Иногда придет к нам тетка Марья али тетка Анисья и поведут с мамонькой да с бабушкой разговор о хозяйстве али насчет здоровья. А бывает, что и обо мне начнут говорить. Как я да что я… Если они хвалят меня за что-нибудь, тут я посматриваю на них сверху да ухмыляюсь. Если же начнут за что-нибудь ругать да журить, тут я сразу прячусь на полатях в самый уголок. Сижу да помалкиваю. Пусть себе ругаются.
А подполье наше я знаю пока еще плохо. Я бывал, конечно, там, но или с мамой, или с бабушкой. Они спускаются туда всегда или с лампой, или со свечой. Подполье пугает меня своей таинственной темнотой. А недавно я свалился в него нечаянно, когда бабушка отошла куда-то по делу. С перепугу я орал благим матом. Да и как не заорать, когда полетишь кувырком вниз, в темную яму, а потом сообразишь, что ты попал в то самое подполье, в котором живет дедушко-суседушко.
Пока я сидел и ревел там, дедушко-суседушко не подавал никаких признаков присутствия. Может быть, на этот раз его не было дома, а может быть, он сам был испуган моим ревом. Вообще же дедушко-суседушко имеется у нас в каждом доме, и живет он у всех в подполье. Каждую ночь он выходит оттуда, прячется в разных темных углах, главным образом под печкой, устраивает разные каверзы хозяйкам, пугает непослушных ребятишек.
У нас дедушко-суседушко тоже очень часто дает о себе знать. Когда вечером я, вопреки увещаниям бабушки, упорно не хочу засыпать, вдруг ни с того ни с сего то резко скрипнет половица, то послышится тяжелый вздох в темном углу, то кто-то начнет царапаться над потолком. А один раз, когда я куражился над бабушкой, вдруг взбесилась наша кошка. Сначала она стала пронзительно урчать и мяукать на печке, потом с шумом спрыгнула на пол и стала метаться по избе. Тогда бабушка открыла скорее дверь, и кошка как пуля вылетела в сени.
В таких случаях я сразу соображаю, что все это значит, накрываюсь с головой и стараюсь скорее заснуть.
Но больше всего я боюсь в нашем доме боженьки. По правде говоря, его я боюсь даже больше, чем дедушки-суседушки. Дедушко-суседушко живет в темном подполье, прячется под печкой и по темным углам и дает о себе знать только по ночам. Боженька же живет у нас на самом видном, на самом почетном месте – в переднем углу на божнице, где стоят несколько старых, почерневших от времени икон.
Если дедушко-суседушко чаще всего только пугает баловных и уросливых ребятишек, а на самом деле ничего плохого им не делает, то боженька старается непременно сделать каждому парнишке какую-нибудь пакость. От него ни днем, ни ночью нигде не спрячешься – ни под столом, ни под кроватью, ни на печи, ни на полатях… Чуть что сказал или сделал неладно, он уж со своей божницы все видит и, конечно, все слышит. Мало того, он все знает, если ты даже только подумал что-нибудь не так, как надо. Моя бабушка все время старается держать меня в страхе божьем и с утра до вечера грозит мне за все мои провинки и проступки божьим наказанием. Не успеешь еще как следует проснуться, а она уж наставляет: «Не балуй! А то боженька… Не бери без спросу! А то боженька… Не ругайся! А то боженька… Не делай того, не позволяй себе этого!..» Даже думать надо с оглядкой на боженьку. Поначалу мне грозили тем, что боженька непременно стукнет меня за первую мою провинность камешком по головушке. А когда я немного подрос, мне объяснили, что теперь я, слава богу, уж не маленький и должен сам понимать, «что к чему». Теперь боженька – втолковывали мне – не будет больше стукать тебя камешком по головушке, а станет карать за всякую провинность по-особому, сообразуясь с твоей виной. Все несчастья, которые время от времени происходят со мной, все это, оказывается, от боженьки. Порезал ножом палец – значит, так и надо, значит, боженька за что-то наказал тебя. Всадил в ногу занозу – опять же неспроста – провинился в чем-то перед ним. Зашиб себе колено, разбил нос, свалился в подполье – сам во всем виноват, не угодил чем-то ему, милостивцу. И я со страхом всегда смотрю на нашу божницу, где живет у нас боженька. Мало ли что он может вытворить. Жить-то живи, да оглядывайся.
Не только я, но и бабушка, и тятенька, и мамонька, и Конон, и Чуня – все у нас, каждый по-своему, боятся боженьки и молятся ему. Сильнее всех боится его наша бабушка. Утром, когда я еще дрыхну в постели, она уж просит его отпустить ей все ее вольные и невольные провинности. В течение дня она несколько раз упрашивает его помочь ей хоть немного по хозяйству. Но боженька не очень-то прислушивается к ее просьбам, и бабушке приходится каждый день убеждаться в том, что она опять его чем-то прогневила. И ей все время приходится расплачиваться за это. То нечаянно разобьет за столом чашку, то опрокинет в подполье крынку сметаны, то забудет в сенях кусок мяса и его утащат собаки. А бывают дела и похуже. Нынче летом у нас в табуне волки задрали жеребеночка. А потом, во время грозы, молнии ударила на гумне прямо в зарод соломы. Зарод сгорел. Гумно и ригу отстояли. «Спаси, восподи, и помилуй!.. – все время твердит теперь бабушка. – За грехи за наши карает нас. Прогневили его, милостивца!»
Но вот мороз немного сдал, и я собираюсь на улицу. На меня, как на взрослого, надевают катанки, шубу, крепко-накрепко затягивают опояской, водружают на голову большую шапку, а на руки теплые рукавицы. После того как бабушка окончательно уверилась, что я еле двигаюсь и еле дышу, надежно упакованный в шубу, в катанки и в рукавицы, она осторожно выталкивает меня из избы и спокойно закрывает за мной дверь. Теперь я остаюсь один в холодных сенях и начинаю внимательно осматриваться.
Сени у нас невелики. С одной стороны в них кладовка, в которой имеется несколько полок с горшками, туесками и деревянными корытцами для соли, крупы и печеного хлеба. На полу в кладовке несколько кадушек и большой окованный сундук с нашей лопатью и маминым холстом.
Против кладовки – лестница на подволоку. Около лестницы – скамейка с опрокинутыми ведрами, а под нею лежит крашеное коромысло. На стене висят три ружья и большая собачья доха, в которой тятенька ездит в тайгу за дровами.
И почти всегда лежат здесь на полу то один, то два топора. Иногда один из них берут в амбар нарубить мяса хозяйкам и после приносят его обратно. Теперь топор покрыт крошками мяса. Они крепко примерзли к нему и выглядят очень аппетитно.
А на дворе собаки – Кучум, Полкан, Пестря. Собаки у нас хорошие, ласковые. Только их почему-то никогда не пускают в избу. Даже в сени. Утром они крутятся на крыльце и ждут, когда хозяйки вынесут им по ломтю хлеба. А сени открыты, и там у дверей, на самом виду, лежит этот топор с аппетитными крошками мяса. И вот Пестря, в нарушение принятого порядка, осторожно крадется в сени, чтобы слизнуть их. Но как только он коснулся… Тут-то его язык моментально и примерз к железу. И наш Пестря оказался как в капкане. Но он не рвется, не мечется, не лает, а смирнехонько стоит, уткнувшись мордой в топор. И только жалобно повизгивает. Кучум и Полкан видят, что Пестря попал в беду, и смотрят на него с крыльца. Но в сени не лезут. Понимают, что им ходить туда не полагается.
И в этот момент я как раз выхожу из избы и вижу в сенях Пестрю. Поначалу мне непонятно, почему он уткнулся мордой в топор и повизгивает. Но потом я соображаю, что случилось с Пестрей, но не знаю, как ему помочь. И тут как раз вышла из избы бабушка. Она сразу же увидела Пестрю у топора и почему-то сильно рассердилась.
– Ах ты, паршивец! – закричала она и схватила с пола коромысло. – Топором-то мясо рубим на еду, а он опять его запоганил!
И бабушка огрела Пестрю коромыслом. Бедный Пестря с визгом бросился в открытые двери, с кровью оторвав свой язык от топора. А бабушка как ни в чем не бывало положила коромысло под скамейку и пошла во двор по своим делам.
Я остаюсь в сенях один. Но теперь все мои мысли сосредоточены на Пестре. Глупый, глупый Пестря… Не понимает, что нельзя облизывать крошки мяса на топоре. Теперь лежит где-нибудь под амбаром с ободранным языком да воет. Я еще раз гляжу на заиндевевший топор на полу, и меня начинает занимать мысль о том, почему все-таки этот топор схватил Пестрю за язык? А что, если мне лизнуть его? Неужели и меня он тоже схватит?
И вот я нерешительно подхожу к топору, наклоняюсь и вижу на нем крошки мяса и лафтаки от Пестриного языка. Наконец я отдумываю лизать топор и решительно направляюсь из сеней на крыльцо. Но тут мое внимание привлекает замочная скоба на дверном косяке. Она тоже железная и, подобно топору, вся покрыта мелким белым бисером изморози. «Лизну ее!» – решаю я и осторожно, самым кончиком языка, прикасаюсь к скобе. И сразу кто-то невидимый чем-то холодным схватил меня за язык. Поначалу я не сообразил еще, в чем дело, и хотел отодрать язык от скобы. Не тут-то было. Тогда я начинаю орать благим матом, и из избы выскакивает перепуганная Чуня. Увидев меня прикованным к дверной скобе, она кричит:
– Не рвись! Не болтай головой-то! Не шевелись, а то сдерешь всю кожу. Дыши на нее! Дыши, говорю! Железо согреется и отпустит.
Тут Чуня сама начинает усиленно дуть на скобу. Глядя на нее, я тоже с ревом изо всех сил дышу. И действительно, через некоторое время скоба нагрелась и отпустила язык.
После этой оказии Чуня сразу же увела меня в избу, и я долго хнычу там, слушая назидания бабушки:
– Ишь ведь, что удумал. Железную скобу на морозе лизать. А того не понимаешь, что язык мог себе отморозить. Будешь потом картавить, вроде Ефимушки Крысина.
Тут бабушка ловко передразнила, как наш сосед Ефим Крысин покрикивает на своих ребятишек:
– А вот я вас выдеу как следует, чейтенята! Пьямо мочи никакой с вами нет. Вайнаки!
– А он что? Тоже скобу в сенях лизал? – сквозь слезы спрашиваю я бабушку.
– Так же, вроде тебя. Вышел зимой – маленький еще был – в сени да и лизнул ее, проклятую. Ну, она его сразу и прищемила. Он туды-сюды, а она никак. Держит его за язык-то. Он орать. А она его держит. А матери-то в избе не было. Видать, ушла куда-то по хозяйству. Пока-то она пришла домой, отогрела эту самую скобу, язык-то у него и испортился. Так с тех пор и картавит. Вот оно что бывает, когда старших-то не слушают.
Потом мне не раз еще приходилось наблюдать подобную историю с Пестрей. Выйдешь в сени, а он, бедняга, стоит над топором с прихваченным языком и жалобно взвизгивает. И почти каждый раз кто-нибудь бьет или пинает его.
А мне жаль Пестрю. Тятенька, я знаю, его не уважает. Кучума и Полкана он держит на медведей и на волков. Они – собаки огромные, злые и гордые. Они никогда не полезут в сени облизывать мясные крошки. А Пестря какой-то глупый. Его взяли щенком у дяди Ильи на белку. Кормили его, растили… А он на белку не пошел. И вообще, уродился какой-то бестолковый. Когда на охоте надо лаять, он не лает, а когда надо молчать, тогда он начинает бубнить на всю тайгу. И дома – придет чужой человек или бродяжка какой, Кучум и Полкан готовы их задрать. А Пестря – наоборот – ластится. Сколько раз били его за это, а он все никак не поймет, что любить чужих не полагается.
А скобу лизать на морозе я все-таки научился. Как-то в трескучий мороз решился и опять лизнул ее. Не сразу, конечно, решился. Поначалу долго ходил по сеням, все на нее посматривал. А потом лизнул. Ну, она, конечно, тут же схватила меня за язык. Но теперь я испугался самую малость и начал изо всей силы дышать. Через некоторое время скоба действительно меня отпустила.
Потом я много раз пробовал: лизну ее и как бы жду чего-то, как Пестря над топором. Только не тявкаю. А потом отогрею железо, оно меня и отпустит. Вскоре лизать эту скобу мне стало уж неинтересно. Идешь мимо, а она вроде смотрит на тебя и ждет, чтобы ее лизнули. А я посмотрю на нее, на крупинки изморози на ней, и иду себе мимо на крыльцо, а там уж на двор.








